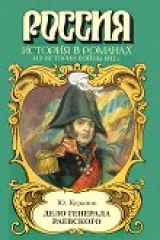
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 39 страниц)
5
Блинный вечер наш был на этот раз приглушённым. Олег выглядел усталым. Утомлённым чувствовал себя и я.
– Я думаю, что там больше делать нечего, – сказал Олег.
– Я очень сожалею, что привёл тебя туда, – сказал я, принимая от Наташи чашку крепко заваренного чая.
– Ты здесь ни при чём, рано или поздно любой из нас в такую мышеловку попадает. Мы живём в таком обществе, которое само именно такой мышеловкой и является. У нас, – усмехнулся Олег, – пока Русь не была империей, завоевать которую не под силу любому завоевателю, она была самобытным и высококультурным обществом.
– И довольно милосердным, – вставила Наташа.
– Да, – согласился Олег, – по тем временам, конечно. Вспомните Киевскую Русь времён Владимира Красно Солнышко. Это, может быть, единственное в истории монархическое, но в то же время открытое и вполне демократическое государство. Тогда на Руси буквально любовались каждым умным и отважным человеком. Такой, как Раевский, был бы там на вес золота. Тогда почитали Бориса и Глеба, но не Святополка Окаянного или Пестеля, Илью Муромца, но не Соловья-Разбойника или Стеньку Разина. Ведь это поразительно, как Разин идёт на богомолье в Соловецкий монастырь, а потом всю Россию заливает кровью. Высокая поросль великолепного высококультурного боярства, боярства из народа, ко временам Ивана Грозного уже сформировалась. Иван Третий освободился от татар без крови. И вот Иван Грозный, рвущийся стать императором, создаёт опричнину. Он разгоняет всё, что отмечено умом и порядочностью, растаптывает древнейшие духовные центры – Новгород, Псков, Тверь... Малюта убивает митрополита Филиппа. Загоняют в каменный мешок Максима Грека... Делается всё, чтобы Польша голыми руками взяла Русь, воплотила замысел Ватикана. Русь даёт блестящего полководца Михаила Скопина-Шуйского. Это дар талантливого рода бояр, способный спасти Россию. Дочь Малюты Екатерина подносит Михаилу чашу с «зельем» – и нет его. Появляется второй блестящий, скромнейший в своём величии, – Дмитрий Михайлович Пожарский, князь. Он спасает Русь от казачьих банд Сагайдачного, от поляков. Вот тебе, Русь, на бесцарствии, прекрасный царь. Нет. Выкапывают болезненного Михаила Романова, малолетку, и...
Олег прервался, как бы задыхаясь, на глазах его выступили слёзы.
– Рвачи, мироеды, симулянты обсаживают наш трон. О них сказал гораздо позднее великий Лермонтов: «Вы, жадною толпой стоящие у трона». Эта жадная толпа до сего дня у трона, истребляя в корне всё более или менее талантливое и яркое, объявляя гениями дураков, жуликов и проходимцев прославляя. Появляется Пётр. Действительно яркая и мощная личность. Окружает себя людьми вроде бы тоже яркими. Но варвар. Всех их душит, поднимает так, что от них ничего не остаётся. Граф Шереметев. Все победы петровского правления связаны с ним. И все приписаны Петру. Этот граф – представитель древнейшего боярского рода, известного ещё до Дмитрия Донского. Род живучий, но раздавленный. И вот переломный момент, когда эти талантливые личности могли возглавить Россию. Их встречает безликая неисчислимая тьма чиновников с титулами и без титулов. И один из первых, кто предал высоты личности, интеллекта, пошёл в придворные ловкачи, – Кутузов. Это историческая фигура, олицетворившая хамелеонов и до сих пор ими воспеваемая. Ярчайшие личности Раевский и Ермолов, не сдавшись на милость новостоличным шулерам, остались в стороне, уступив место чиновникам со шпагой Дибичу и Паскевичу, Горчакову, Меншикову, Куропаткину... А в конце концов Ворошилову, Будённому, Шапошникову – советскому Барклаю... Фрунзе зарезали, Тухачевского застрелили, Рокоссовского и Петрова замолчали, Жукова замуровали, а Чапаева прославили...
Олег прервался, и все мы долго сидели молча. Потом я сказал:
– Делать там конечно же больше нечего.
– Совершенно нечего, – согласился Олег, – более того, просто опасно.
– Конечно, – поддержал я, – не известно, что им придёт в голову предпринять с их эвтаназией.
– Я этого не боюсь. Я говорю совсем о другом, – уточнил Олег, – эвтаназия существует у нас давно. Изобрёл её не Евгений Петрович. А после революции – в совершенно открытом и всенародном виде. Та селекция, которую провели у нас за последние шесть десятков лет, делает ненужной эвтаназию индивидуальную. Эту операцию уже повсеместно и автоматически производит само общество.
– Но понимает ли это Евгений Петрович? – усомнился я.
– На это, я думаю, его извилин достаточно, – сказал Олег.
– Но может ли он уступить эту операцию какому-то безликому обществу? – озадачилась Наташа.
– Вообще-то, конечно, гораздо вожделеннее самому принимать решение и самому приводить приговор в исполнение, – предположил Олег.
– Это зависит от уровня животности человека, – сказал я.
– Завтра ты должен почитать мне ещё, – попросил я.
– Почитаю. Завтра почитаю о Пушкине.
6
Я устроился снова в житнице. Здесь было тихо и уютно. Шуршал по крыше и бревенчатым стенам ветер. Жук-часовщик, как и ранее, как и каждую ночь, раскручивал где-то в брёвнах свои звучные пружины, как бы отсчитывал всем и всему вокруг дни, часы, минуты... И кто знает, кому, когда и где распределено предстать пред теми или другими внезапными событиями, о которых мы порою совсем не задумываемся в нашей повседневности.
И в самом деле, думал ли когда Николай Николаевич Раевский-старший, самый старший из всех Николаев Николаевичей, что весь последний период его жизни до самой ранней кончины будет объят скорбными тревогами за судьбу самой очаровательной и самой высокой духом своим дочери его Марии? Мог ли он предположить, что именно она, столь хрупкая и столь впечатлительная, явит всем такой образец стойкости и, порою, невероятного мужества? Именно ей привелось повстречать на пути своём великого и дерзостно мятущегося поэта и не менее мятущегося гражданина. Один из них почти ей совозрастник, а другой почти на два десятка лет старше её и соратник её отца. Трудно сказать, как сложилась бы судьба поэта, на заре их молодости прославившего образ девочки, бегущей по волнам, если бы он с нею связал свои такие беспокойные дни.
Мне было тревожно, как, может быть, было всем тогда вокруг той романтической семьи Раевских, семьи порою титанической, порою подвижнической. Тревожно мне было в ту ночь. Как, быть может, всем тревожно в России веками, кто думает о ней, кто ею живёт и страдает. Здесь, в этой тихой житнице, мне было тревожно за Олега. Первоначально я не очень придавал значение тому, что через четверть века встретились два человека, пути которых столкнулись ещё в юности. Но теперь я видел: как тогда они столкнулись не случайно, так и теперь. Я понимал, что столкновения людей, через которых проходят столь принципиально судьбы общества, завязанные ещё во глубине веков, просто так не заканчиваются. Некие могущественные силы стоят над ними, они предопределяют, как, когда и что с кем случится. От самих обладателей судеб своих зависит только, как всё произойдёт.
ДЕВОЧКА И ВОЛНЫ
1
Утро проснулось ясное, почти весеннее. И на душе было радостно. Но там же, в душе, что-то и туманилось настороженностью. И мне хотелось не упустить это утро, я попросил Олега кое-что почитать из его рукописи. Как знать, когда мы теперь встретимся: на днях мне могла предстоять довольно длительная командировка.
Мы устроились в житнице.
«Пушкина, повсюду теперь звучавшего стихами, Николай Николаевич повстречал вскоре сам на деревянной койке в Екатеринославле, где поэта свалила хищная простуда после неосторожного купания в Днепре, – начал Олег своё чтение. – Сам Пушкин писал об этом своему брату Льву в сентябре 1820 года так: «Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашёл меня... в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским Водам, лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов благословил меня на счастливый путь – я лёг в коляску больной; через неделю вылечился». От личности Николая Николаевича Раевского, надо заметить, все, кто имел с ним дело в быту или на войне, ощущали исхождение очень сильной и благотворной энергии, которую среди прочих так явственно воспринял, находясь в недуге, поэт. Поэты вообще острее прочих людей ощущают нахождение и воздействие разного рода энергий от людей и даже от животных. А присутствие целящей, во всяком случае, умиротворяющей личности, Пушкину было тогда как нельзя кстати: он был подвергнут настоятельному присмотру и, по выражению многих, гонению. На поэта был разгневан царь и даже грозился сослать его в Сибирь за то, что тот «наводнил Россию возмутительными стихами». За Пушкина вступились, к неожиданности царя, многие почтенные люди столицы: Карамзин, Жуковский и даже генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович, боевой товарищ Раевского.
Два Николая Раевских, отец и сын, в провинциальном городке на берегу Днепра и нашли теперь поэта, мечущегося здесь в двойной горячке, горячке изгнания из милого ему общества и в горячке простуды. Об этом гораздо позднее вспоминает доктор Рудыковский, сопровождавший героя великой войны в той поездке: «Едва по приезде в Екатеринославль расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала.
– Доктор! Я нашёл здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь; поспешите со мною».
Нечего делать – пошли. Приходим в гадкую избёнку, и там на дощатом диване сидит молодой человек, небритый, бледный и худой.
– Вы нездоровы? – спросил я незнакомца.
– Да, доктор, немножко пошалил, купался; кажется, простудился.
Осмотрев тщательно больного, я нашёл, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага.
– Чем вы тут занимаетесь?
– Пишу стихи.
Нашёл, думал я, и время и место. Посоветовав ему на ночь напиться чего-нибудь тёплого, я оставил его до другого дня.
Мы остановились в доме губернатора К. Поутру гляжу – больной уже у нас; говорят, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт.
– Доктор, дайте что-нибудь получше; дряни в рот не возьму.
Что будешь делать! Прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю. – Пушкин: фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного и на другой день закатил ему хины. Пушкин морщится. Мы поехали далее. На Дону мы обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался, покушал бламанже и снова заболел.
– Доктор, помогите!
– Пушкин, слушайтесь!
– Буду, буду!
Опять микстурка, опять пароксизмы и гримасы.
– Не ходите, не ездите без шинели.
– Жарко, мочи нет.
– Лучше жарко, чем лихорадка.
– Нет, лучше уж лихорадка.
Опять сильные пароксизмы.
– Доктор, я болен.
– Потому что упрямы, слушайтесь!
– Буду, буду!
И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы». Надо сказать, что вся поездка была весёлой, необычайно простосердечной и произвела на Пушкина глубочайшее впечатление не только добросердечной, целительной энергией Николая Николаевича-старшего, но и удивительной атмосферой всех взаимоотношений, вплоть до той поэтической встречи с морем, близ Таганрога, о котором потом вспоминала Мария Николаевна в своём добровольном сибирском изгнании: «Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога... увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шёл за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от неё, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашёл эту картину такой красивой, что воспел её в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было тогда 15 лет.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами».
Поездка оказалась восхитительнейшей страницей не только в жизни убелённого сединами генерала, юной героини будущих страниц российской истории, но и могла бы стать переломным моментом в судьбе поэта, предотвратив его гибельную женитьбу на деве внешне прекрасной, но внутренне пустой и равнодушной как к судьбе поэта, так и к поэтической духовности вообще. Во всём путешествии до Горячеводска (так тогда называли Пятигорск) генерал Раевский много и о многом беседовал с поэтом. Размещены были путники в двух дорожных каретах и коляске. В одной карете ехали Мария и Софья, англичанка, няня и компаньонка. Ехали в сопровождении пушки и конвоя казаков. С молодости зная горцев, генерал не доверял им и доверять не советовал другим. Генерал много подшучивал о масонстве Пушкина, близко сошедшегося тогда в Кишинёве с окружением Ивана Никитича Инзова, бывшего членом ложи «Золотой шар» в Гамбурге. Зная многое о том, что тогда назревало в обществе, Раевский строго запретил своим сыновьям вступать в какие бы то ни было тайные общества».
– Кстати, почему ты ни разу не коснулся масонства? – поинтересовался я. – Вот вчера, например. Теперь это модно.
– Масонство слишком серьёзная тема, чтобы к ней подходить с кондачка, использовать в мелких схватках для сиюминутной выгоды. Это – раз. В сущности своей врагом оно является для православия, для Православной Церкви. В России же Церковь уже давным-давно не такая православная, как о ней говорят и пишут. После Петра Первого она всего лишь один из департаментов государственного управления духовно малограмотным или безграмотным населением империи. Это – два. А в-третьих – во времена войны с Наполеоном и вообще с XVIII века оно было модой. Среди дворянства немасонов тогда почти не было. Кутузов? Да. Его масонское имя – Вечнозеленеющий Лавр. Это знали все. Но масоном Кутузов был таким же, каким коммунистом сегодня является, скажем, маршал Гречко – никаким. Кутузов с таким же успехом был бы и буддистом, и шинтоистом, и иезуитом. Кстати, я лично думаю, что католиком, особым католиком – иезуитом, Кутузов был. Он и похоронен, как католик. На них он и работал в войне 1812 года. Для них он и сжёг Москву. Он сделал то, что не смог сделать Лжедмитрий Первый.
– А почему тогда Кутузов не сжёг Вену? – спросил я.
– От него никто не требовал её сожжения, – развёл руками Олег. – Зачем Римскому Папе сжигать Вену, когда австрийский император католик. Правда, не очень послушный. Вот Наполеон и выступил в роли экзекутора по отношению к австрийскому монарху. Ведь Наполеон корону получил из рук Папы Римского. Вот он слегка и отшлёпал Франца Второго за то, что тот прибегнул к слишком тесному союзу с Россией. Ведь сразу же после Аустерлица, который так услужливо проиграл Кутузов, Франц Второй заключил с корсиканцем перемирие, по которому Австрия обязалась удалить русские войска с своей территории. Не следует забывать, что любой европейский монарх и политический деятель всего лишь пылкий юноша в сравнении с Римским Папой.
– Значит, масонства в России не было? – попытался подытожить я.
– Отнюдь, – улыбнулся Олег, – масонов в тогдашней России было хоть пруд пруди. Но масонство не пустило в России глубоких корней, как и всякое вообще серьёзное духовное либо социальное движение. В России всё разъедает чичиковщина. Она вырождает беспринципностью своею всё. Чем велик был Кутузов? Задолго до Гоголя он стал первым Чичиковым. И сегодня Чичиков – главная фигура нашей действительности. Вот почему доныне так любят у нас Кутузова. Есть даже орден Кутузова. У нас готовы принять любую форму правления, лишь бы ничего не делать и хапать без опаски. То есть жить так, как воевал Кутузов.
Пусть гибнут солдаты, пусть горит Москва, а нам – ордена да титулы. Чичиковы да Хлестаковы прямо хлынули в масонство, где, как им казалось, можно богатеть, ничего не делая. Так все позднее рванулись в коммунизм. Что касается Пушкина, то в его роду это было семейной традицией. Отец его, Сергей Львович, был принят в ложу «Александр» около 1817 года, потом перешёл в ложу «Сфинкс». Потом он был вторым стюартом в ложе «Северные друзья», состоял в ложе «Елизавета к добродетели», потом – секретарь ложи «Искушие манны». Для дворянства в России это уже превращалось в какую-то резвую забаву. Сам Пушкин вступил 4 мая 1821 года в число каменщиков. Пущин был председателем ложи «Овидий». Грибоедов вместе с Чаадаевым и Пестелем посвящён был в ложу «Соединённые друзья». Карамзин молодым человеком вступил в ложу «Златой венец». Павел Первый вступил в ложу за границей, ещё будучи наследником, в 1776 году. Александр Первый посещал в 1817—1818 годах ложу «Три добродетели», тогда наместным мастером там был Александр Николаевич Муравьев, основатель «Союза спасения», в 1826 году приговорённый Николаем Первым к ссылке. И если уж говорить о Кутузове, «правой руке» Суворова, то Александр Васильевич принят был в ложу «К трём коронам» 27 января 1761 года в Кёнигсберге и произведён в шотландские мастера. А в третью степень мастера ложи «Три звезды» он возведён был уже в Петербурге. Более того, разговоры о масонстве в чисто политических, а порою личных спекуляциях пошли во всех направлениях. Например, масоном объявили великого оптинского старца Льва, наиправославнейшего старца России, а борцом против лож провозгласили Столыпина, который с масонами и был в контактах. Так что я просто не хочу на обывательском уровне говорить по этому поводу. Другое дело – поэт. Поэт выше всякого членства в каком бы то ни было обществе, партии, мафии. Например, Пушкин, который важнее всех их, вместе взятых, вместе с Наполеоном, Папой Римским и Кутузовым.
– Давай к делу. Читай, пока есть возможность, – я сказал неосторожные слова, которые как-то выскочили из меня, и сам испугался.
2
«Поездка получилась, – продолжал Олег, – как нельзя более удачной. Она и Пушкину и семейству Раевских запомнилась навсегда. Она оставила след во всей культурной истории России, как один из поэтичнейших её эпизодов. Позднее Мария не однажды рассказывала друзьям, как Раевского всюду встречали с большим почётом, в городах выходили к нему навстречу обыватели с хлебом и солью. При этом он шутя говаривал Пушкину: «Почитай-ка им свою оду. Что они в ней поймут?» Эта удивительная не только по тем временам черта широты характера Раевского в полной мере давала себя знать в его умении быть на одной достойной стати с великим поэтом и с провинциальным обывателем, с любым человеком, вплоть до императора. Умение быть доброжелательным и твёрдым в беседах с царями он проявил при окончании штурма Парижа. Он спас тогда город от разрушений и унижения. А незадолго до кончины своей он попытался Николаю Первому раскрыть глаза на положение дел и судеб России. В первом случае – успешно, а во втором... Он был из первых великих россиян, которые во всём трагизме почувствовали ещё до Лермонтова, как задыхается Россия от этой жуткой на её теле язвы – Петербурга.
А здесь... Здесь Раевский шёл по следам своей молодости, надежд и первых ударов судьбы. Он писал отсюда в разгар июня своей дочери Екатерине, той самой, которая чуть позднее в Юрзуфе будет обучать Пушкина английскому языку и сведёт его со стихами Байрона. Раевский писал из городка своей давней службы: «...сильная гроза и дождь заставили меня остановиться ночевать за сорок вёрст от Георгиевска, куда я отправил кухню, и на другой день приехал на готовый обед в дом генерала Сталя, начальника Кавказской линии. Тут я обедал, ходил по городу, но не нашёл и следов моего жилища и места рождения брата твоего Александра, запасся всем нужным, переночевал и на другой день приехал на Горячие Воды в нанятый для меня дом». В этом доме ждал уже отца тот самый сын старший, Александр, который родился в крепости. Он приехал из Киева. Это ему позднее посвятит поэт стихотворение «Демон».
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня...
Кто был этот демон? Быть может, он навис над домом Раевского ещё с детства, когда Николай встретил на берегу Невы яростного отрока, бьющего о крепостную стену птенца? Рукою этого повзрослевшего отрока он настрочил донос на блестящего командира драгунского полка в предгорьях Кавказа. Его же рукой другой донос настрочил там, на Курганной высоте, и завлекал на сеансы прорицателей и магнетистов. Он отравил душу старшего сына и через него отравлял великого поэта душу да столкнул их в любви к жене губернатора Одессы, бывшего боевого друга и подчинённого в битвах с Наполеоном. Быть может, он же столкнул очаровательную отроковицу Марию с другим, младшим соратником отца, который ей сломает в малодушии своём всю жизнь?.. И прославит одновременно.
Здесь, на Горячих Водах, посетила Николая Раевского-старшего ночь, подобная той давней, в Георгиевской. Он долго не мог заснуть. В высокой комнате было тихо и прохладно. Тихо было вокруг. Внизу, где шумел Подкумок, время от времени протяжно вскрикивал удод. Раевский просто смотрел на горы. Там начиналась заря. Раевский сел за стол, взял перо, на небольшом листе александрийской бумаги написал несколько строк. Перо положил и прошёлся по комнате. Встал у окна. Опять смотрел на горы. Вернулся к столу. Сел. Поднял со стола исписанный лист. Долго смотрел на него. И медленно приблизил лист к свече. Пламя голубоватое коснулось листа, скользнуло по нему и превратилось вместе с листом в облако. Слова, объятые пламенем, прежде чем исчезнуть, сделались золотыми, и блеском наполнились буквы их.
И Пушкин тоже не мог сомкнуть в эту ночь глаз. Он метался в постели, ему издали сияли горы, осыпанные звёздами, ему слышался шум волн и чудилось дыхание розы. В нём проплывала из ниоткуда возникшая строка:
Я верю; я любим; для сердца нужно верить…
Это была первая строчка стихотворения, которое напишет он позднее.
Отсюда Николай Николаевич сообщал дочери: «Вот четвёртый день, как мы здесь... Купаемся немного, пьём воду. Здесь мы в лагере, как цыгане, на половине высокой горы. Десять калмыцких кибиток, 30 солдат, 30 казаков, генерал Марков, генерал Волконский, три гвардейских офицера составляют колонию. Места так мало, что 100 шагов сделать негде – или лезть в пропасть, или лезть на стену. Но картину перед собой имеем прекрасную».
Это от подножия Бешту. Как теперь говорят – Бештау. Здесь в эту летнюю пору поэт писал эпилог свой к поэме о Руслане и Людмиле.
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
На корабле, ввиду берегов Тавриды, ночью писал поэт свою великую элегию к морю. Это было той ночью, когда седой генерал под шум и говор волн думал о том, какое необычное состояние охватывает человека в присутствии поэта. Он до сих пор не мог забыть, как в сражении под Лейпцигом Батюшков под огнём французских пушек и под громовой атакой кавалерии Мюрата своим присутствием отстранил всё вокруг происходящее куда-то в сторону, вернее, опустил ниже. Присутствие поэта там, в пекле, как бы подняло тогда генерала над всем происходящим. Раевский тогда не заметил даже, что ранен. И ранен почти что в сердце. Ещё бы чуть-чуть... И всё. И не было бы ни Парижа, ни Болтышки, ни Горячих этих Вод. А теперь... А теперь этот юноша поэт, с лицом то старика, то младенца. И вечно мятущийся. В его присутствии, как некогда в присутствии Батюшкова, все предметы вокруг приобретают объёмность и возвышенность. С той ночи, когда Пушкин метался по кораблю и вдруг замирал и становился как бы изваянием, Раевский почувствовал, что море стало для него понятней, и что-то родственное в нём открывалось. Уже гораздо позднее прочёл он:
Шуми, шуми, послушное ветрило.
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
После Гурзуфа, гостя в Каменке, имении братьев Давыдовых, сводных братьев Раевского по матери, Пушкин вспоминал об этом времени: «Я любил, проснувшись ночыо, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество». Там девочки, юные дочери генерала, их подруги играли, отыскивая в небе звёзды с названиями, созвучными их именам. Одна из ярких звёзд носила именование звезды Марии.
Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и чёрных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне,
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и тёмный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
Поэт окутал таинством и странною стыдливостью имя адресата сих стихов. Он робел назвать её, особенно перед публикой. А в октябре 1824 года он получил письмо от генерал-майора Сергея Григорьевича Волконского. Тот писал: «Имея опыты вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Мариею Николаевной Раевской – не буду вам говорить о моем счастии, будущая моя жена была вам известна».
Почти одновременно Сергей Волконский поручает Михаилу Орлову, мужу старшей сестры Марии, Екатерины, при взятии Парижа служившему начальником штаба при Николае Раевском, начать дело о подготовке сватовства. Он пишет в своих «Записках» после ссылки следующее: «...препоручив Орлову ходатайствовать в пользу мою у ней, у её родителей и братьев, я положительно высказал Орлову, что если известные мои сношения и участие в тайном обществе будут помехой в получении руки той, у которой я просил согласия на это, то, хотя скрепя сердце, я лучше откажусь от этого счастья, нежели решусь изменить своим политическим убеждениям и своему долгу».
О этих словах Волконского по отношению к избраннице своей Мария Раевская ничего не знала. Не знал об этом и Раевский Николай Николаевич-старший. Поручив дело о сватовстве одному из главных руководителей тайного общества, сам Волконский поехал на Кавказ, узнав, что в главной квартире, в Тифлисе, есть тайное тоже общество, готовящее в России переворот. Ничего об этом юная красавица, предмет восхищения великого поэта, не знала. Ей не было тогда двадцати лет. Жениху её исполнилось тридцать семь».








