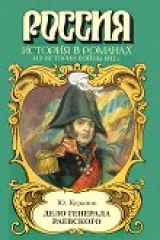
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
ЖЕРТВА НЕВИННАЯ
1
«Тайно от родственников Мария Николаевна обратилась к государю с письмом. Она просила Николая Первого разрешить ей последовать в Сибирь за мужем. Против решения дочери оставить годовалого сына категорически был настроен и отец. Он считал, что обязательство матери перед беспомощным ребёнком выше, чем обязательства по отношению к мужу, который сознательно совершил государственное преступление и о котором жена не была мужем оповещена вовремя; более того, она даже не уведомлена была им перед венчанием, что муж готовит переворот и раздел империи с попутным истреблением всей царской семьи. Император ответил на письмо Марии Николаевны так:
«Я получил, княгиня, письмо Ваше от 15 числа сего месяца и с удовольствием в нём усмотрел изъявление чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в Вас принимаю; но это-то именно моё участие к Вам и побуждает меня здесь снова повторить Вам те предупреждения, которые я уже делал Вам относительно того, что Вас ожидает, лишь только Вы проедете Иркутск. Впрочем, предоставляю вполне Вашему собственному усмотрению, Сударыня, избрать то решение, которое Вы найдёте наиболее подходящим к Вашему положению. Благорасположенный к Вам Николай. 1826 г. 21 декабря».
Получив ответ императора, Мария Николаевна начала собираться в Москву. Она показала ответ этот отцу. «Я прокляну тебя, если ты не вернёшься через год», – сказал отец. Перед отъездом из Петербурга она получила от Николая Николаевича записку, где прочла среди других такие слова: «Снег идёт... Путь тебе добрый, благополучный – молю Бога за тебя, жертву невинную, да утешит Он твою душу, да укрепит твоё сердце».
2
«В Москве Мария Николаевна остановилась у Зинаиды Волконской, которая состояла замужем за братом Сергея. 26 декабря был дан прощальный вечер, собрание в честь отъезжающей. К одной из двух кибиток героини Зинаида Александровна пристроила позади клавикорды, подарок неоценимый впоследствии среди сибирской повседневности. В блистательном салоне собралось блистательное общество. Появился Пушкин, который вдруг сказал Марии Николаевне:
– Вы не поверите мне, если я скажу, что завидую вам, княгиня. Впереди вас ждёт жизнь, полная лишений, но и полная самопожертвования, подвига. Вы будете жить среди лучших людей нашего времени, как я некогда в Юрзуфе среди вашего очага...
– Какая разница между той поездкой и теперешней? – вздохнула Мария Николаевна.
– Но, если хотите, эта и более возвышенная, – сказал Пушкин, восторженно на неё глядя.
Ах эта Зинаида! Она всегда так притягательна, так умеет увлечь, очаровать. Какая бездна ума и такта у этой красавицы! Звезда ещё во времена нашествия корсиканца. Теперь здесь у неё весь цвет Москвы. «Царица муз и красоты», – говорит о ней поэт. Она играет на клавикордах. Пушкин и Мария стоят у высокого окна. За окном, обрезанным длинной синей шторой, печальные огни московских домиков. Зинаида играет что-то печальное, что-то прощальное играет она. А за окном горит огромная лиловая звезда в недвижной ледяной дымке. Мария смотрит на звезду и медленно водит пальцем по стеклу, как бы что-то пишет на нём невидимое. А Пушкин смотрит на её лицо, глаза его сверкают. Но молчит он.
Редеет облаков летучая гряда... —
говорит Мария задумчиво. Она что-то пишет по стеклу пальцем. Быть может, это строки стихотворения, написанного некогда в Каменке, тогда, по близким воспоминаниям о Гурзуфе.
И именем своим подругам называла, —
почти шёпотом произносит Пушкин. На глазах его слёзы. Как прекрасны глаза поэта, наполненные слезами! Он так взволнован, что забывает передать для узников своё послание, которое потом он передаст Александрине Муравьевой.
Редеет облаков летучая гряда...
Мария уезжает в эту ночь, уже двадцать седьмого декабря 1826 года. Она уезжает в метель. Она уезжает в бездну. Метель сопровождает её почти всю дорогу. И встретится ей в диком поле длинная колонна каторжан, еле бредущая, отовсюду заметаемая метелью».
3
Как всегда, мы шли к автобусной остановке в сумерках.
– Надо сказать, – говорил Олег, – что молниеносную кампанию по нейтрализации Москвы петербургская клика провела с блеском. Нашествие Наполеона было использовано на все сто процентов. Все наиболее талантливые военачальники, которые могли составить основу высокоинтеллектуальной и сознающей своё достоинство элиты, были рассеяны по империи, удалены от трона. Государь, который в полной мере ощутил свою беспомощность перед Кутузовым и перед всей чиновной массой, хотел было с ними найти общий язык. Но... С первых же дней заседания Венского конгресса он увидел, как мощно сплотилась против него вся Европа, вместе с побеждённой Францией, и как ничтожны оказались все его дипломаты петербургской породы, которые готовы были служить любому, кто больше заплатит, как презирали свой народ. Он хорошо убедился за время войны, что все они продажны. Он не мог забыть, как Могилёвская губерния прислала депутацию к Наполеону, который с презрением отверг их, отослав обратно. И он попробовал опереться на людей, которые казались ему надёжными. Он попытался найти язык с литераторами, художниками, мыслителями. Мыслителей он не обнаружил. Он учредил чины придворные, ордена, пенсии для наиболее способных приблизиться ко двору, хоть как-то разбавить и оживить эту мозглую чиновничью мглу вокруг трона...
Олег шагал по улице и привычным голосом, без листа перед собою, как бы читал.
– Ты словно рукопись выкладываешь, – сказал я.
– Да, я всю её помню наизусть, – согласился Олег. – Для не служащих при дворе он учредил личные перстни, табакерки, шкатулки, стал выделять им деньги на печатание их трудов, на работы над картинами. Но Боже! Как же они оказались лизоблюдны и прохвостливы... На пути к императору их мог перекупить любой чиновник, от которого зависело, а порой и не зависело вообще, попасть под милостивое влияние государя. Находящиеся на службе писатели почти все получили по ордену Святой Анны II степени, а в рескриптах, которые присылались награждённым, император пояснял каждому лично, что жалует эти отличия за полезные литературные заслуги. Именно по этим денежным содействиям Карамзин, например, получил возможность написать свою «Историю государства Российского». Но, пройдя сквозь толщу больших и маленьких чиновников, все эти талантливые люди превращались в жалких приспешников. Получалось так, будто награды они получали не столько от императора, сколько от этих деляг и щелкопёров. А в каких заправских ловеласов порою превращались сами эти лауреаты! Совсем же в стороне, подобно генералу Раевскому, держался молодой поэт Пушкин. Юноша этот, резко отличный от всех своим характером несносным и дарованием, отмеченным самим Державиным, всё время подзуживался против императора, со всех сторон, порою наиболее льстивыми к трону ловкачами. Впутался в это совсем недавно старший сын Раевского, человек ярко даровитый, но болезненно невоздержанный.
– Несчастный человек, – заметил я.
– Да, Во многом сам виноватый и так досаждавший отцу, – согласился Олег.
Мы шли опять мимо того дома с закрытыми ставнями, из-за которых слышалось молитвенное пение.
– Да, и совершенно очевидно теперь, – продолжал Олег, словно читал с листа, – что Петербург придворный часть наиболее талантливых личностей сплотил в тайные союзы здесь, в столице, а остальных загнал в Малороссию, надеясь на неизбежное их блокирование друг с другом. За ними III Отделение следило годами, всё знало о них. Их не трогали, надеясь прихлопнуть как можно большее число разом. Между ними туда и сюда сновал с какими-то поручениями не то от двора, не то ещё от кого-то давно известный Алексей Пологов, начавший свою карьеру с доноса на Раевского из Персидского похода. Александр видел, как его буквально выводят на расправу с этими блестящими офицерами. Он медлил. Ему не хотелось марать руки. В октябре 1823 года государь делал смотр Второй армии. Бригада Сергея Григорьевича Волконского с особым блеском проследовала мимо Александра Первого, и тот подозвал к себе генерала. «Я очень доволен вашей бригадой, – сказал он тогда, – Азовский полк – из лучших полков моей армии, Днепровский немного отстал, но видны и в нём следы ваших трудов. И, по-моему, гораздо для вас выгоднее будет продолжать оные, а не заниматься управлением моей империи, в чём, извините меня, и толку не имеете». Сергею Волконскому со всех сторон посыпались поздравления. Но своему начальнику Волконский, сам по себе человек искренний, пояснил, в чём дело. Тот посоветовал Сергею Григорьевичу написать объяснительное государю письмо, которое обещал передать сам, чтобы царь понял, что Волконский перед ним оклеветан. Это Сергей Волконский и сделал. И потом, находясь при почётном карауле, встретился с царём. «Ты не понял меня, – сказал царь. – Я хотел тебе сказать, что твоя головушка прежде заносилась туда, куда ей не следовало бы заноситься, но теперь я убедился, что ты принялся за дело; продолжай, и мне будет приятно это в тебе оценивать». Именно после этого разговора Сергея Волконского стали особенно часто и настойчиво употреблять по делам тайного общества.
Мы приблизились к остановке. Автобус был, как всегда, полупустой. Условились, что я приеду через неделю, а на сборище за картошкой «в мундире» ходить больше незачем.
4
На рассвете следующего дня я ещё не проснулся, когда телефон зазвонил. Я снял трубку и услышал женский голос, который был мне знаком, но который никогда не раздавался в моей трубке. Голос назвал моё имя, и я понял, что это Наташа. Наташа попросила меня приехать к ним.
– Когда? – спросил я.
– Когда вам возможнее, – попросила Наташа.
– Я могу выехать хоть сейчас, – ответил я.
– Тогда приезжайте, – сказала Наташа и положила трубку.
5
Подходя к дому Олега, я увидел ещё издали, что здесь произошло нечто существенное. Калитка не то что открыта, её не было вообще. Размётана была и низкая ограда. Всё во дворе было как-то перемешано, со следами множества ног и покрышек машин. Снег, ещё вчера такой чистый, был перепахан и вытоптан. Вместо житницы чернел со всех сторон обгорелый скелет её. От крыши остались обгорелые чёрные стропила. Вся в копоти, помятая и встрёпанная, бросилась мне в ноги Лепка. Она бросилась без лая, а как бы требуя прибежища. Но дом был цел и на крыльце стоял Олег. Он был в полушубке, валенках с галошами, без шапки. Он издали помахал мне рукой. Из раскрытого окна помахала мне рукой Наташа.
6
– Нам придётся продолжать наши чтения в избе, – сказал Олег и, стоя на крыльце, протянул мне руку.
– Я вижу, они занялись вашей энтелехией, – сказал я, приблизившись и пожимая руку Олегу.
– Это их дело, меня это мало интересует. – Олег приглашающе повёл рукою в сторону раскрытой в дом двери. – Мы ко всему привыкли.
– Нет ли у вас необходимости что-то предпринять через меня? – сказал я, когда мы уселись за стол.
– Никакой, – спокойно сказал Олег.
– Нас ничего не удивляет, – сказала Наташа.
– Я просто подумал, что у меня могут возникнуть кое-какие заботы, – пояснил Олег, – и попросил Наташу позвонить тебе, чтобы мы побыстрее закончили наши чтения.
В избе у них было так же, как и в житнице. Только над столом висела фотография листа с рисунками из рукописи Пушкина, очень умело и мощно увеличенная. Это – стихотворные строки, кажется одиннадцать, и несколько набросков женских и мужских голов. Сам внутренний ритм изображений удивительно соответствовал внутренней экспрессии стихов, которые в разных вариациях мы встречаем во всех произведениях поэта. Заметив моё внимание к этой фотографии, помещённой на стене в тёмной дубовой раме, Наташа сказала:
– Это рисунки лиц из семьи Раевских.
– Я вижу, – учтиво поклонился я и добавил: – Всё же меня удивляет то, что случилось.
– Это началось, пока мы провожали вас на остановку, – сказала Наташа.
– Меня ничего не удивляет, – сказал Олег, – ещё с детства.
– Почему же так? В чём дело? – сказал я.
– Дело в том, – сказал Олег, – что люди, не желающие мыслить, понимают всё как есть. Им так проще. Неспособные мыслить, но склонные к размышлениям, находят или сами выдумывают примитивные стереотипы. Этими стереотипами они всюду пользуются, делая вид, будто мыслят. Но есть и такие, кто мыслят и не мыслить не могут. Такие отторгаются обществом, просто по закону несовместимости. Общество обывателей, посредственности, особенно воинствующей, нетерпимо, и любой мыслящий человек воспринимается как укор, как оскорбление чувства их достоинства. Такого человека, по их мнению, не должно быть на свете. В прошлые времена считали, будто достаточно того, чтобы их не было в поле зрения. Но уже с эпохи Николая Первого, когда всё и навсегда застыло в неподвижности, общество их пришло к выводу, что таких людей просто не должно быть. Для начала стали предпринимать меры такие, как запрещение. Тарасу Шевченко писать стихи. Двадцатый век внёс категорические коррективы. Теперь считают, что такие люди не должны жить на свете. Следующий шаг приближается, скоро начнут считать, что талантливые и порядочные люди просто не должны рождаться на свет.
– Ну и что же с ними делать? – спросил я.
– Ничего, – сказал Олег спокойно, – с ними сделать что-либо невозможно. От них нужно отделиться каменной стеной.
– Но где она, эта каменная стена? – спросил я.
– Она внутри, – ответил Олег, – внутри каждого мыслящего человека, который не хочет стать животным.
– Но они же на нас наседают, – сказал я.
– Пусть наседают, – сказала Наталья, – мы всегда можем уйти от них внутрь себя, туда, где нас достать невозможно.
– Туда, где в нас живёт Бог, – сказал Олег, – в этом смысле мы должны быть похожи на Николая Николаевича-старшего и ни в коем случае не на Александра Николаевича. Пусть с нами делают что угодно, лишь бы мы не участвовали в их мерзостях. Вообще ни на какие компромиссы или покровительство не соглашаться, потому что они не выполняют никаких условий, соглашений. Нам от них ничего не нужно, это им необходимо, чтобы мы были такие же, как они, во всём или хотя бы в чём-то. Они нас обязательно во что-то впутают, мы об них можем замараться, и замараться навсегда – они заразны.
– А при чём тут Александр Николаевич? – спросил я.
– При всём, – сказал Олег, – это ярчайший пример. Человек умный, талантливый, но весьма честолюбивый внутренне. За доблесть при атаке на плотине под Салтановкой он получил подпоручика и Георгия IV степени. Он тогда поднял знамя убитого прапорщика. Почти мальчишка. Сражался при Бородине, Красном, награждён золотым оружием, брал Париж. В апреле 1813 года – капитан лейб-гвардии егерского полка, состоит при графе Воронцове, который командовал полком в подчинении Раевского-старшего. В апреле 1819 года Воронцов женился на троюродной сестре Раевского-старшего, красавице, женщине коварной. В Одессе Александр, находясь при Воронцове, увлёкся его женой. Недуг этот, подогреваемый красавицей, длился долго. В октябре 1828 года Александр на улице остановил карету и прилюдно наговорил таких дерзостен Воронцовой, что дал губернатору возможность добиться у императора высылки Александра из Одессы, придав выходке своего дальнего родственника политический характер. Александру Николаевичу было предписано пребывать под Полтавой без права въезжать в столицы. Скандалиста вывезли из Одессы в сопровождении жандарма и отдали под присмотр местных властей. Именно по этому поводу и приехал в Санкт-Петербург седовласый генерал, чтобы защитить сына, да и по некоторым другим вопросам собрался он поговорить с императором. Он хотел поделиться с царём своими, государственного характера опасениями. Силы явно уже оставляли старого воина. И в этот же приезд произошла его последняя встреча с поэтом...
Олег прервался и утомлённо откинулся на отшлифованную временем спинку стула ещё петровских времён, прямую и высокую. В его лице обозначилось что-то глубоко печальное, и угловато сомкнулись резкие складки под глазами, в уголках губ...
– Всё утро искали Латку, нигде нет в окрестностях, – сказала Наташа, – убежала от ночного грохота и суеты куда глаза глядят. Что с ней теперь будет!
– Ну да, – горько согласился я, – ведь она такая доверчивая; да и собаки загнать могут куда угодно.
– Да порою люди в таком случае загнать могут, – сказала Наташа.
– И не только загнать, – сказал я.
– Всё может быть, – согласился Олег, – всё возможно.
Наташа сидела тоже усталая, и даже волосы её заметно потемнели.
– Ну ладно, – сказал Олег и решительно поднял веки, – время не ждёт, давайте читать дальше.
7
«Пушкин почти каждый день навещал генерала за этот месяц, – начал Олег чтение новой главы, – поскольку царь не торопился встретиться со старым воином. Поэт и воин о многом успели поговорить и помолчать за эти встречи. Сии беседы, это явно чувствовалось, были такие прощальные. Запомнилась Николаю Николаевичу последняя, буквально за день до визита во дворец...» Я, само собою разумеется, – уточнил Олег, – за время наших чтений – читать мне пока что больше некому – многие куски рукописи опустил. Мне важно, чтобы ты имел общее представление о ней, то есть о всей жизни Николая Николаевича Раевского-старшего. О нём мало кто знает что-либо существенное в то время, как он один из самых замечательных людей России за все времена. Может быть, это высшая точка её нравственной, военной и гражданской доблести. Именно поэтому он представляет для сегодняшнего дня особое значение, ведь степень падения гражданственности, вместе не то что с любовью, но с уважением или состраданием к народу, на стадии катастрофы. Дальше будет ещё страшнее. К этому времени, когда на самом краю пропасти наше общество наконец-то задумается о себе, такая личность, как Николай Николаевич-старший, приобретёт неповторимое значение, ведь военные подвергнуты у нас особой утилизации. Не случайно к нему так остро тянулся Пушкин.
– Я очень внимателен к твоим чтениям, – сказал я.
– Я многого от тебя жду, – сказал Олег, – ведь ты журналист и при желании многое можешь сделать. Сейчас у нас, да и во всём мире, нет порою более подлых и беспринципных людей, чем журналисты. За исключением, разумеется, политиков. Но ты, на счастье, человек, пока что не вызывающий у меня подозрений... Сейчас мне представляется, что не так уж долго я смогу радовать себя и привлекать друзей возможностью чтения моей рукописи. Время в том пространстве, в котором нахожусь я, стремительно убыстряет свой бег. И дело не в Евгении Петровиче, которого настоящее имя Жека, это он возглавлял шайку, которая в приюте для детей расстрелянных командиров РККА отбирала булочки у одноприютцев, как и сейчас он возглавляет другую, более страшную шайку, которая отбирает, по сути дела, такие же булочки у гораздо большего количества людей полуголодного общества. Сейчас он стал гораздо опытней, как и его подручный – «субъект». Сейчас он хорошо видит – в бытовом отношении такие уголовники очень мудры, – что главную и самую страшную опасность для них представляют люди, которые понимают, что происходит в обществе, и не поддаются растлению. Такие люди, по их мнению, не имеют права на энтелехию, а подлежат эвтаназии. Характер эвтаназии они определяют сами в соответствии с их уровнем интеллекта и нравственности. Того и другого уровня нет, есть только точно, порою безошибочно действующий инстинкт самосохранения.
Олег на какое-то время смолк и долго смотрел на высоко посреди стены висящую фотографическую страницу рукописи Пушкина в дубовой раме. Потом он встал и прошёлся по комнате.
– А за пределами того, что ты прочёл мне, многое осталось? – спросил я.
– Достаточно много, – ответил Олег, – например, беседа Николая Николаевича с Волконским незадолго до мятежа, который вообще-то был спровоцирован внутридворцовым переворотом вдовствующей императрицы, вдовы Павла Первого. «О том, что переворот назрел в Петербурге знали многие. Знал и Волконский, почему тайные общества так активизировались. О том, что Александр Первый готовится оставить престол, тоже многие знали. Догадывался и Николай Николаевич. Раевский волновался и за Россию, и за дочь. Когда он потребовал у Марии Николаевны согласие на предложение Волконского, он имел в виду его знатность, богатство, порядочность. Ему хотелось устроить дочери счастье, как и всякому отцу. Потом он горько казнил себя за то, что пошёл на поводу у мирских интересов, не зная, в какую игру втянулся Волконский, так же как он казнил себя за согласие сдать Москву Наполеону, не зная, что она уже приготовлена к сожжению.
С Волконским он долго спорил тогда в усадьбе, когда они уже породнились. Он соглашался, что изменения в России необходимы, но категорически возражал против мятежа. Он считал, что военный человек не имеет морального права изменять присяге. Это – раз. Он считал, что любой военный мятеж должен быть подавлен железной рукой. Это – два. Он считал, как и его жена Софья Алексеевна, что человек чести, коли уж опустился до подпольной политической деятельности, не имеет права заводить семью, поскольку подвергается опасности не только законная супруга. Она, кстати, должна быть обо всём уведомлена. Втягиваются в опасность и дети, которые могут пострадать ни за что. Раевский возмущён был связями российских тайных обществ с подобными польскими тайными обществами, которые ставили своей целью отторжение от России огромных территорий. Это он считал прямым предательством. Единственно приемлемой и необходимой считал он широкую и открытую политическую деятельность за совершенствование общества путём введения конституции, отмены позорного крепостного права, представительства всех слоёв и групп населения в управлении страной и формирования армии из свободных граждан по их свободному соизволению с высоким уровнем их обеспечивания. На случай нашествия со стороны – обязательный призыв способного к боевым действиям мужского населения, но никакой партизанщины. Он необходимым считал поставить под строжайший контроль верховной власти всех видов и классов чиновников во всей империи. Они долго спорили, мало на чём сошлись, поскольку Волконский считал, что страной должен править Верховный совет из дворян, подзаконных конституции. В этом случае, считал Раевский, те дворяне быстро превратятся в Робеспьеров и Пугачёвых, даже просто в Пугачёвых, поскольку Робеспьеров у нас нет. Пестель не в счёт, считал Раевский, слишком самовлюблён и абсолютно бесчеловечен. Как он любит в полку издеваться над офицерами, якобы желает отмены крепостного права, но солдат забивает палками за мелочи. Так он забьёт всю Россию. Совершенно нетерпим к чужому мнению и готов вырезать весь мыслящий слой России. Вот он и может стать, в случае чего, всё удушающим главой петербургских чиновников. Аракчеев рядом с ним ребёнок. Хочет Пестель такой конституции, в которой вся Россия станет бесправной, а сам получит власть страшнее императорской. Девиз предполагаемого общества: «Единообразие и порядок в действии».
– Какое же действие у него первоначальное? – спросил Волконского Раевский.
– Главное и первоначальное действие – открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднение престола. Синод и Сенат объявят временное правление с властью неограниченной.
– Если на место государя и Государственного совета, в котором я состою, мне предложат диктатора из таких выскочек и изуверов, как ваш Пестель, я первый разгоню вас пушками, – сказал тогда Раевский.
– Но вы дворянин, и честь дворянина вам, надеюсь, не дозволит предать гласности тему доверительной беседы, – встревожился Волконский.
– Вы можете не беспокоиться, – успокоительно глянул тогда Раевский на Волконского, – я понимаю, что это пока что детские шалости, игра ребячливого нрава. Но на месте генерал-губернатора Петербурга мой старый сослуживец Милорадович. Наполеона мы через Малоярославец всё-таки не пропустили.
Они шагали гористой частью парка, песчаной дорожкой, потом вокруг широкой клумбы, на которой тяжелели от цветения почти чёрные мальвы. Вдали виднелась на холме среди дубов ротонда, и в ней горел светильник.
– Вам нет позволения подвергать риску всё, чем вы владеете, – говорил Раевский, – они только ждут, эти карлы там, в Петербурге, как бы обрести повод всех вас перевешать.
– Перед кем у нас нет позволения? – возразил Волконский. – Мы свободны.
– Вы – воин, – возразил Раевский, – а воин самому себе не принадлежит никогда. А вы себя ведёте, как поэт. Как Пушкин или Батюшков. Их Бог простит, они вечно юные. А мы с вами... У вас нет позволения перед Россией, – уточнил Николай Николаевич. – Перед нею мы все в долгу. Мы все о ней забыли ради себя.
Волконский хотел возразить.
– Не возражайте мне. Я имею все основания, – остановил Раевский, – я ни перед кем никогда не заискивал. Вы – цвет и разум России. Вы должны себя беречь. Без вас Россия – шайка разграбителей. Петербургские эполеты её не удержат, если вы всколыхнёте этот не знающий ни в чём своей меры народ. Бунтовщики Стеньки Разина ничто в сравнении с теми, кто восстанет с вами, а потом вас же перережут вместе с этим дуреющим Пестелем. Да и сами же вы друг с другом передерётесь.
– Мы люди чести, – сказал Волконский.
– Вот они, эти так называемые люди чести из заговорщиков, первыми друг друга и бросают. В лучшем случае. Человек чести никогда не пойдёт в заговорщики: он лучше погибнет, но с честью и открыто.
Внизу над прудом через раскрытые окна дома разливались мечтательные звуки клавикордов. Там играла Мария. А ветер вечерний развевал прозрачные шторы на окнах. А по пруду плавали лебеди.
– Вы нас не понимаете, – умиротворительно сказал Волконский, – Николай Николаевич.
– Я вас понимаю лучше, чем вы понимаете себя, – горько возразил Раевский, – оттого у меня и сердце тяжелеет, как расплавленный свинец. Россия такая страна, которую может спасти только закон и порядок... И благочестие. И терпение... Всё остальное сейчас гибельно.
В аллеи, на пруды, на беседки, на лёгкие мостики парка слетали сумерки. Ажурные звуки клавикордов Марии как бы растворялись в этих сумерках и наполнялись ароматами клумб. Из сумерек вынеслась декоративная белая козочка, которых здесь Волконские разводят ещё с прошлого века. Козочка замерла у края дорожки, кокетливо взглянула на двух генералов, отпрыгнула в сторону и скрылась в синеве парка.
– Ничего этого не будет, – Раевский обвёл рукой вокруг себя, – всё это исчезнет. Всё исчезнет навсегда, если вы так дерзко и бездумно возьмётесь за ваше предприятие.
А про себя он подумал: «Бедная Мария. Друг мой Машенька, прости меня – душу грешную».
Беседа окончилась тогда внешне мирно. С того же времени, именно с того разговора, старый воин понял, что дочь его попала в западню по его же собственной вине.
Пушкину об этой беседе с Волконским даже теперь, по истечении пяти лет, Раевский ничего не сказал. Во всех беседах за последние зимние дни в Петербурге этой темы они не касались. Хотя говорили о многом. Но в тот памятный вечер перед визитом во дворец к государю...»








