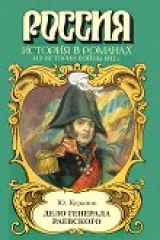
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
6
Под Дербентом полк пришёл в благополучное после боев, а главное болезней, состояние. Заболевания среди нижних чинов пошли на убыль, и это было главное. За два месяца умерли десять человек, семеро из них скончались в первой половине месяца. Число павших лошадей тоже резко снизилось, за месяц пало десять их. Особую и тяжкую опасность здесь, на Кавказе, представляло для армии бегство солдат, бегство рядовых разного возраста. В полку Раевского число бежавших было гораздо ниже по сравнению с другими. За три месяца до июля 1797 года бежало всего три человека. Но предстоял ещё тяжкий поход к Тереку. Странное впечатление производил сам факт бегства солдат среди враждебного или полувраждебного населения гор. Беглецов захватывали как пленников и относились к ним с унизительной жестокостью, используя порою как рабов или продавая и перепродавая их из рук в руки. И всё же солдаты бежали, бежали от неимоверно тяжких и непривычных условий похода, от жестокости обращения с ними, от воровства, принявшего такие масштабы, которые даже пожилых солдат и командиров, повидавших всякое, поражали. Увидеть солдата, идущего босиком или в неимоверных каких-то обмотках на ногах, не представляло редкости. Недовольство и разброд в армии росли.
Однажды на позднем биваке в походную палатку Раевского заглянул Пологов, который всё время теперь держался как близкий друг Николая Николаевича и поддерживал доверительность взаимоотношений. Он был в этот раз особо озабочен и даже расстроен.
– Не понимаю, что у нас происходит, – сказал он, заложив руки за спину и делая короткие шаги по тесной палатке, – кони дохнут, солдаты бегут, офицеры пьют напропалую. Когда же с такими успехами мы дойдём до Тибета?
– До Тибета, по-моему, никто не знает как и куда идти, – ответил Раевский.
– Я не понимаю, Николай Николаевич, зачем нам этот Тибет? Что мы там, среди этих татар, потеряли?
– Не столько татар, сколько китайцев, – уточнил Раевский.
– Тем более, – пожал Пологов плечами, – и вообще зачем он нужен нам?
– Он нам не только не нужен, Алексей Прокопьевич, – согласился Раевский, – он нам никакого проку не даст. Более того, если в этой поднебесной чаше гор, которые посущественнее этих, мы его и найдём, то как мы там удержимся, в этой их священной и таинственной Лхассе? Они в свою столицу, которая для них не менее драгоценна, чем для нас Москва, уже столетиями никого не пускают. Они умрут, но не допустят в своё это святилище чужеземца.
– Не то что мы, – вздохнул Пологов, – мы в свою священную столицу пускаем всех и вся, мы её уже превратили в захолустье, в котором каждый чужеземец себя чувствует хозяином. Мы сами давно махнули рукой на все свои сокровища, извалялись в петербургском болоте, которым заправляют дураки да чужеземцы.
– Я думаю, Алексей Прокопьевич, дураки порой гораздо опаснее чужеземцев.
– Мне порою кажется, Николай Николаевич, что мы дошли до того, что если бы какой-нибудь французишка поджёг Москву, мы не стали бы даже узнавать, кто это сделал...
– Алексей Прокопьевич, смею вас уверить, что какому-нибудь французишке, по вашему выражению, просто незачем поджигать Москву или Петербург...
– Петербург-то поджечь не дадут, – едко вставил Пологов, почёсывая правой рукой за левым ухом, – Петербург нужен всем, там вся Европа обштопывает свои делишки. А вот Москва... Москва сделалась простою проходною деревней, и она никому не нужна уже.
– Она нужна народу, – строго возразил Раевский, – народ её любит как свою колыбель. Но кое в чём согласен с вами. Я не столько боюсь, что французишка сожжёт Москву, её с успехом подпалит какой-нибудь наш собственный пьяница либо некий вельможный дурак, чтобы посмотреть со стороны, как это выглядит, скажем, с воздушного шару.
– Теперь у всех голова пошла кругом от этих воздушных шаров прелюбезных Монгольфьеров, которые нам предлагают летать на разогретом дыме, – подхватил Пологов, – того и гляди, все захотят оседлать эти шары, как ведьмы метлу. Так мы и вылетим в трубу вместе с ними.
– Чтобы нам не вылететь в трубу, любезный Алексей Прокопьевич, – нам не нужно их бояться. Это – раз. Во-вторых, нужно быть умнее и Монгольфьеров, и Бонапартов, и Робеспьеров... А главное, чтобы по всей нашей империи не было больше ни Булавиных, ни Отрепьевых, ни Пугачёвых. Нужно, чтобы крестьяне наши были сыты, обуты, одеты, чтобы им никто не мешал работать, торговать и плодиться. Чтобы дурак не правил умным, это важнее всего, и не разворовывал всё направо и налево.
– Направо и налево, – подтвердил Пологов, резко весь оживившись.
– Нужно, – продолжал Раевский, – чтобы армия, основа нашей империи, была хорошо одета, обута, сытно кормилась, любила своих командиров, а не бежала от них куда угодно в горы, хоть к чеченцам...
– Хоть к чеченцам, – подтвердил Пологов, – которые их съедят живьём. Кстати, смею вас заверить, многие знающие люди говорят, что это единственный из народов Кавказа, который в случае нужды ест человеческое мясо. Предпочитают, конечно, не своих...
– Насчёт человеческого мяса согласиться с вами не могу, – повёл густыми тонкими бровями Раевский, – трудно мне поверить, чтобы нормальный человек питался человечиной.
– Но они ведь ненормальные, – вспыхнул Пологов, – вы же их видите. У них никаких принципов нет. От них стонет весь Кавказ. Грабят всё, что только можно и у кого угодно.
– Сейчас разговор не о чеченцах, – отмахнулся Раевский сомкнутой ладонью левой руки, бросив её по воздуху, – я говорю о том, что мы сами должны думать о себе, чтобы нам самим не дойти до человеческого мяса. Нам нужна великолепно обмундированная, прекрасно вооружённая, сытая армия из свободных людей, а не из крепостных, с детства забитых, на всякого запуганно и воровато оглядывающихся, а под сердцем пестующих нового Стеньку Разина. Нам нужны не просто кое-как знающие французский язык офицеры, а люди на высоком уровне развития, знающие всё, что должен делать воин, без подсказок. А что у нас вор на воре, болтун на болтуне, разиня на разине...
– Разиня на разине, – подхватил Пологов.
– Нам ныне только с турками и воевать. А то, что я вижу здесь, и с турками воевать не позволяет. А мы ведь громили и Фридриха Великого...
– И Фридриха Великого, – согласился охотно Пологов, – да ещё, скажу я вам, как его громили. Всюду...
– Я знаю, как его громили, – остановил Раевский готовую сорваться с губ собеседника тираду. – Совершенно очевидно, что вообще всегда, а здесь особенно важно, на походе, на лагере всякий куст, всякая яма должны быть осматриваемы. Персияне да местные, те, кого мы вроде бы пришли защищать, пользуются всем; заляжет с кинжалом, и поодиночке хватают или убивают людей. Ни на шаг от лагеря без драгуна, без ружья или вооружённого прикрытия. Далее, когда откомандирован, неослабно всегда будь готов к бою, обеспечивай себя всегда впереди двумя головорезами в некотором расстоянии, дай им несколько людей в подкрепление, всегда таковой же арьергард, а где можно – крыльщики.
– А что в нашей армии! – развёл руками Пологов, к чему-то прислушиваясь, происходящему вне палатки.
– Далее, – продолжал Раевский, не обращая внимания на эту напряжённую позу Пологова. – В кавалерийских делах никогда нельзя сражаться в одну линию. Малый резерв при неудаче атаки даёт способ справиться, устроиться. Когда же случилось быть окружённу превосходной кавалериею, по частям атаковать вправо, влево, имея половину всегда в резерве: она обеспечит тыл и фланги.
– Это, Николай Николаевич, вы целую науку развиваете, – заметил Пологов, давно уже стоя на месте и внимательно слушая.
– Эту науку из боевого опыта в каждой местности, в каждом условии, исходя из общих принципов, – ответил Раевский назидательно, – должен вывести для себя каждый разумный командир, каждый, у кого есть голова на плечах. Всегда имей сильный резерв, как для нанесения решительного удара, так и своего сохранения. Преследуй меньшей половиной, другая в устройстве на рысях, переменять первых, тогда первые устраиваются и следуют на рысях. Буде сражаешься пеший, в резервах и на марше – всё так же. Что касается чисто местных обстоятельств: избегай перестрелок ружейных. Азиатцы лучше вооружены и лучше нас стреляют.
– Как лучше? – вскинул голову Пологов.
– Лучше, – успокоил этот его порыв Раевский поднятой вперёд ладонью, – неприятеля всегда нужно ценить в его цену, иначе гибель.
– Я патриот, – сказал гордо Пологов.
– Я не меньший патриот, чем вы, – той же вскинутой рукой удержал его Раевский, – когда неприятеля считаешь дураком или невеждой, сам делаешься гораздо хуже его. В дефилеях[1]1
Дефилея – теснина, ущелье, узина, горный проход. (Примеч. В. Даля).
[Закрыть] частью обходи их фланги. Буде нельзя, то бери дефилеи грудью, но никогда не бери всею силою, а сильным резервом. Запомни, Румянцев туркам всегда значительно в числе уступал и немцам так же, но резерв у него был всегда.
– Но это Румянцев! – воскликнул Пологов.
– Ты должен быть лучше Румянцева, потому что знаешь и то, что он знал, и то, до чего он дойти не мог. Помни, что нужно быть всегда терпеливу, тверду, неторопливу, а уж если всё обдумал, исполняй решительно. И презирай опасность, не подвергай себя оной из щегольства. А если ты командир полка, ты должен владеть своею частью в боевом порядке настолько, чтобы фронт был везде и чтобы никакия турнировки[2]2
Турнировки – здесь: вылазки, устрашающие манёвры.
[Закрыть] неприятеля не могли предотвратить обдуманной решимости броситься на него пылко, завершив победу лихою атакою «грудью».
– У вас, Николай Николаевич, целая наука складывается, как обходиться командиру с неприятелем, – горячо подался вперёд Пологов и вдруг замер.
Где-то в стороне от лагеря раздался выстрел, потом другой. Потом послышался конский топот. И всё стихло.
– Вот вам, – показал рукою в сторону топота и выстрелов Раевский, – всякая наука имеет силу и смысл только тогда, когда она от жизни. От опыта если наука взята и не пренебрегает опытом поколений, в ней великая сила. А иначе... иначе, – Раевский указал рукою в сторону стихшего конского топота, – вот вам вопрос. Для чего мы сюда пришли? Я не подвергаю сомнению смысл внимания России к южным границам. Но зачем нам эти полуразбойники, не имеющие высокого смысла государственности племена? Они просто как воевали, так и воюют тысячу лет...
– И более, – вставил Пологов.
– И будут воевать, только в этом для них заложен смысл их существования. Они никому извне пришедшему народу или человеку не будут и не могут быть твёрдым союзником. Когда им не с кем воевать...
– Что бывает весьма редко, – вставил Пологов.
– Когда им уже или пока не с кем воевать, они убивают друг друга, только закон кровной мести охраняет их от полного саморазрушения. Воины они хорошие, порою отличные. Но вести войну в регулярном смысле слова они не в состоянии. Они не могут поставить себе высокую цель и выполнить её. Они могут выполнить только свои корыстные и своевольные желания, причём презирают какие бы то ни было правила ведения воины, в войне, особенно с чужаками, для них все правила хороши. Они могут отлично и храбро сражаться, изворотливо сражаться, но выиграть сражение им почти всегда не под силу, если против них регулярная армия. Тем более они никогда не в состоянии выиграть войну, вообще выиграть войну как таковую.
– Ну и что вы хотите сказать? – насторожился Пологов и переступил с ноги на ногу.
– Я хочу сказать, – строго проговорил Раевский, – нам ни при каких обстоятельствах нет смысла ввязываться в их бесконечные войны.
– Да. Мы только потакаем их природной кровожадности, – кивнул в знак согласия Пологов.
– Не только, – поднял в воздух вытянутый палец указательный своей правой руки Раевский, – не дай Бог, если мы их когда-то завоюем, примем внутрь себя эту вечногноящуюся заразу. Наш народ по сути своей мирный и отходчивый. Свой народ, при разумном управлении им, всегда могли бы мы сделать спокойным, особенно с помощью нашей Церкви, которая, кстати, со времён государя Петра Великого сделалась простым государственным орудием, жезлом, если хотите, управления совершенно неразвитого в церковном отношении народа.
– А как же быть, Николай Николаевич? Что бы вы изволили думать в этом направлении?
Пологов с большим напряжением и ожиданием смотрел на Раевского, но смотрел не в глаза ему, а мимо глаз, в пространство. И Раевский, давно уже замечавший некоторую странность в поведении этого своего знакомца с дружеских лет, отметил и сейчас, что как-то странно ведёт он беседу. С другими офицерами он неразговорчив, а с нижними чинами, особенно с солдатами, просто груб. Разговора же с ним, Раевским, он как бы ищет и готов к общению постоянному. Но это общение носит, как правило, характер односторонний. Пологов сам ничего не высказывает, а внимательно слушает и как бы запоминает слушаемое. Вызывает на определённый характер и направление, но сам своих суждений не высказывает, а чаще повторяет последнюю фразу, сказанную Раевским, для поддержания беседы.
Софье Алексеевне Пологов не нравился, и её угнетало общение мужа с этим человеком, прямо причину несимпатии своей она не высказывала, но давала понять, что имеет в виду. Раевский знал, что по поводу Пологова не одна Софья Алексеевна имеет опасения. Почти определённо высказался в адрес его и Пётр Петрович фон Пален. И опять не говоря прямо, но давая понять, что имеет он в виду. В среде высшего российского офицерства, наиболее достойной части его, без особых или явных оснований подобные подозрения избегали высказывать даже по причине воспитанности. Несмотря на обилие в обществе как таковом, особенно в армии, доносчиков всякого рода и всяких оттенков, подозревать кого-то считалось дурным тоном, поскольку доносительство рассматривалось, особенно в армии, наиболее низменным из всех пороков.
– Ну а что же? Как быть? – любопытствовал Пологов.
– Здесь, на Кавказе, ни к чему эти бессмысленные походы «до Тибета» и завоевания инородцев этих бесчисленных с тем, чтобы включить их в корону. Они настоящими друзьями нам не будут никогда, слишком много коварства в их психологии, в быте, в религии, которая воинствует практически против всего человечества, – спокойно ответил Раевский. – В среде их есть значительнейший слой жуликов, ловкачей, сладить с которыми, имея своими гражданами, невозможно. Они по природе своей незаконопослушны. По этой-то причине в каждом из этих племён свои, варварские для нас, предельно жестокие законы. Если таких племён мы проглотим слишком много, есть определённая граница допустимого, они взорвут нас изнутри. Из глубины нашей проржавят они нас и взорвут.
– И как же быть? – Пологов принял позу озабоченного философа.
– На Кавказе есть два народа, которые обладают чувством государственности, – это грузины и армяне. Вот эти два государства, кстати, христианские, нужно воссоздавать, укреплять, иметь с ними прочные связи. Держать в них крупные гарнизоны, на содержание которых там платили бы. Там должны быть очень опытные мудрые командиры, с ними дипломаты. Там особенно жёстко нужно пресекать всякое воровство, которое в армии у нас принимает характер тяжкой и хронической болезни. А вот войны с турками и персами надобно по возможности предотвращать, поскольку они дают мелким здешним абрекам баламутить всё и вся, это им всегда на руку.
– А как же быть с ними-то? с абреками? – улыбнулся Пологов.
– Есть у нас казаки. Вот – для них граница. Л между собой пусть они сами делят свои добычи, без нашего участия, по своим нравам, обычаям, традициям. Междоусобия у них не кончатся никогда. Нам незачем тратить силы на них... У нас свои дела, более серьёзные для нас.
– А в случае их объединения в какую-нибудь свою большую шайку? – допытывался Пологов.
– В одну большую шайку они не споются никогда, – засмеялся устало Раевский, – это у них не получится. Пусть воюют сколько им воюется, только нас пусть не впутывают в это их кровное дело.
– Но мы же империя, – возразил Пологов.
– Мы ещё совсем не империя, – вздохнул Раевский, – только кажется, что мы империя. Мы всего лишь слабосочлененное царство с невероятными претензиями, которые, на мой взгляд, на самом деле не более чем потуги. К сожалению, в Петербурге этого не понимают.
– А когда-нибудь поймут?
– Если будет всё идти так, как идёт теперь, то поймут слишком поздно.
– Вам, Николай Николаевич, надо бы ставить памятник, – покровительственно вдруг вымолвил Пологов.
– Я ещё не собираюсь умирать, сдавать себя на зимние квартиры или уходить в отставку, – улыбнулся дружески Раевский, – я всего лишь молодой, не очень преуспевающий офицер. Правда, с большими желаниями служить России.
– Тем не менее я бы подумал о памятнике, особенно для ваших детей, – таинственно промолвил Пологов, и взгляд его сделался загадочным.
За палаткой послышались шаги.
7
Состоялся и ещё один разговор между Раевским и Пологовым здесь, на Кавказе. Это было уже по возвращении в Георгиевск, когда Павел Первый сел на трон, ещё тёплый от сидевшей на нём родительницы, Раевский ничего не предчувствовал, но в самой атмосфере России многое менялось. От прочности положения Валериана Зубова ничего уже не осталось. Да и где он сам и что делает – мало кого теперь интересовало. Одни оживились, другие тревожились, как это всегда бывало в России.
О Пологове в полку говорили как о человеке, привёзшем из похода у кого-то купленную чеченку, которую он держит в наложницах. Раевский со времени беседы в палатке с ним не встречался. Что-то было в нём действительно неуловимое, что всегда оставляло в душе ощущение гниловатого осадка. И осадок этот в душе держался потом долго. Может быть, поэтому не было в полку близких людей у Пологова, и какая-то вроде бы зона вокруг него распространялась запретности приближения к нему. Говорили, будто эта чеченка необыкновенной красоты, чья-то княжеская дочь и что Пологову она уже надоела. Он иногда бьёт её якобы плёткой и держит временами на цепи. А она уже дважды бросалась на него с кинжалом. Говорят, он ждёт выкупа за неё, а она требует у него смерти. Он говорит, что по законам гор отец, выкупив свою дочь, убьёт её.
И получилось так, что Раевский и Пологов повстречались и не разговориться оказалось невозможно. Поговорили о том да о сём, и Раевский завёл речь о том, что в полку ходят разговоры: якобы некий офицер держит у себя наложницу, привезённую из похода или просто купив её где-то.
– Мало ли кто чего про кого говорит, – ответил Пологов, глядя в глаза Раевскому.
И Раевский заметил впервые, какие пустые глаза у этого человека.
– А вас не волнует, что есть в полку такое недоразумение? – спросил Раевский.
– Кому какое до этого дело, – спокойно ответил Пологов.
– Но ведь он русский офицер, – возразил Раевский.
– Вот потому и держит, что он русский офицер, а не какой-нибудь китаец, или турок, или немец, – равнодушно сказал Пологов.
– Есть такие поступки, – заметил Раевский, – право совершать которые честь русского офицера не даёт.
– Честь русского офицера даёт ему право совершать такие поступки, которые он считает нужным, на то он и русский, – отрезал Пологов, – особенно когда он имеет дело с дикарями, которых надобно временами охаживать плёткой или держать на цепи.
– Как жаль, что такие офицеры засоряют русскую армию, – медленно выговорил Раевский, – есть такие офицеры, которым необходимо в нашей армии об этом думать.
– Есть и офицеры, которым надобно подумать о том, как себе поставить памятник, – нагло ответил Пологов и добавил: – Пока ещё не поздно.
Таким Пологова Раевский ещё не видел никогда. Его это удивило, но значения такому поведению он тогда не придал, полагая, что майор находится в состоянии какого-то душевного потрясения. И даже пожалел его в сердце своём.
Однако прошло немногим более месяца, и 10 мая 1797 года по высочайшему повелению полковник Раевский был «исключён со службы» без объяснения причины. И было почти одновременно заведено тяжелейшее, с начала до конца выдуманное дело о расследовании характера и образа командования Раевским Нижегородским драгунским полком.
8
Скорее всего, «исключение со службы» Раевского было связано с падением Зубова, но... По принятым в те времена порядкам, такое исключение было выходящим вон из общих правил. Оно значило запрещение вообще поступать куда бы то ни было на службу, означало разорение при молодой жене и детях. Ещё до появления на свет Екатерины родился 10 ноября 1795 года Александр. Впрочем, иногда 16 ноября указывается датой его рождения. Уже с шестнадцати лет этот отменного ума, сильного характера и впечатляющей внешности юноша отличился под Салтыковкой, бросившись за отцом под знаменем славы на гренадер Даву, что спасло положение в этом неординарном сражении, вошедшем в анналы славы русского оружия. Позднее он стал адъютантом друга отца графа Воронцова и дошёл с ним до Парижа. С 1823 года Александр пребывал в Одессе при том же графе Воронцове, что не мешало ему, дальнему родственнику жены графа, затеять неприглядную историю, жертвой которой стал Пушкин. Говорят, что Александр был инициатором комбинации, в результате которой поэт оказался командирован для борьбы с саранчой.
Два Александра, Пушкин и Раевский, встретились в июне 1820 года на Северном Кавказе, хотя знакомы были и прежде по Петербургу. Здесь Раевский лечил свою боевую рану в ожидании приезда отца, брата и сестёр. Но не предполагал, что поэт окажется с ними. Здесь начал он «вливать свой хладный яд» в душу поэта. Дух всеобщего отрицания отмечал каждый шаг и каждую мысль этого крайнего индивидуалиста. В отличие от своих сестёр Александр не разглядел в Пушкине великого поэта, не распознал в Грибоедове большого писателя. «Твоя глупая пьеса, которую я читал всю эту ночь, отвратительна во всех отношениях, две-три метких черты не составляют картины и не могут искупить отсутствия плана, ни нелепости характеров, ни жёсткость и беспорядочность версификации, достойной Тредиаковского. Меня все года удивляет, как Грибоедов, с его острым умом, становится тяжёл и нелеп, как только возьмёт в руки перо». Так писал он сестре в 1825 году, получив от неё «Горе от ума». На какое-то время впечатлительный ум Пушкина, безусловно, оказался под влиянием старшего сына Николая Николаевича. Не случайно два интереснейших стихотворения Пушкина «Демон» и «Коварство» определились личностью Александра.
Нельзя не заметить и того, что оба они, правда по-разному, влюблены были в одну красавицу, жену Воронцова. Надо признать, что соперничество подогревалось и тем, что старший сын Раевского чувствовал в Пушкине тогда не только соперника в увлечении красавицей, но и в обществе. У многих не вызывает сомнений роль Александра Николаевича в высылке поэта из Одессы. Муж красавицы и её воздыхатель всё же получили свой успех каждый, Пушкина царь отправил в Михайловское.
Таким образом, Александр Раевский стал косвенным и, может быть, невольным благодетелем поэта, который именно на Псковщине испытал высочайшие порывы своего поэтического гения. Впрочем, кто только Не помогает гению, столкнувшись с ним в любом варианте, который не кончается смертью.
О нём конечно же писал Пушкин в одном из высочайших своих стихотворений «Роняет лес багряный свой убор».
Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.
Декабрьский мятеж особенно не поразил судьбы сыновей Раевского. Задолго до восстания Николай Николаевич взял с них слово не участвовать ни в каких Тайных обществах и тем, по существу, спас их. Правда, оба они побывали под арестом, и Пушкин, узнав об этом, волновался, особенно за старшего. Ему, по мнению поэта, особенно была опасна «сырость казематов». Нужно здесь, в этих непростых обстоятельствах, отметить силу характера Александра, которую оценить смог и Николай Первый. Император сказал ему:
– Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу; но, имея родных и знакомых там, вы всё знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?
– Государь! Честь дороже присяги, нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись ещё.
То было время, когда доносительство в России не считалось ещё признаком высшего достоинства государственного, и Николай Первый отпустил Александра Николаевича после личной с ним беседы. Более того, из тюрьмы Александр Раевский вновь был назначен в Одессу по «особым поручениям» пребывать при графе Воронцове. И пребывал. Правда, «особые поручения» он понял своеобразно. На городской улице он как-то вдруг остановил карету и нагрубил жене графа. За это он был выслан из Одессы. И только-то. По этому поводу Николай Николаевич, который всюду старался защитить своих детей, войти в их ситуацию, обратился к императору, хорошо зная нрав генерал-губернатора: «Несчастная страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоразумные, и он непростительно виноват перед графинею. Графу Воронцову нужно было удалить моего сына по всей справедливости, что он мог сделать образом благородным...» Дело в том, что повелением Николая Первого Александр был удалён в Полтаву с запрещением въезжать в столицы.
И всё же в 1834 году Александр Николаевич поселился в Москве. Здесь многие, в том числе и Пушкин, нашли его «поглупевшим». Он женился. И через два года поэт писал Наталье Николаевне: «Раевский, который прошлого разу казался мне немного поглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Жена его собою не красавица – говорят, очень умна». Она через пять лет, эта умная и добрая женщина, ушла из этой жизни, оставила мужу на воспитание дочь. Все силы свои, человека столь бурной жизни, овдовев, он отдал воспитанию дочери, и ничего в жизни больше не интересовало его. Воспитав дочь, он уехал в Ниццу, где в среде людей изысканных, непритязательных и свободных тихо умер. Некоторые предполагают, да и предполагали прежде, что некоторые черты характера Александра Николаевича Раевского нашли себе приют и в образе Евгения Онегина.
Так, фактически ещё не появившись на свет, некоторые впоследствии прославленные и любимые поэтом образы его произведений в лице детей Николая Николаевича Раевского подпали под гнев императора российского и подверглись гонению.








