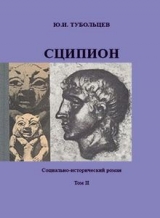
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 43 страниц)
Любой скажет, что такое недопустимо. Но так в мире случается, увы, нередко. И происходит подобное всякий раз, когда человеческая масса выражает не собственные интересы, то есть не интересы большинства, а потворствует низким страстям меньшинства, допуская к власти его лидеров. Но у нас этого не будет, потому что мы римляне!»
Полчаса назад слова Катона, веером рассыпавшись по скамьям курии, подобно блохам заразили сенаторов зудом, зудом корыстных надежд, но речь Сципиона на некоторое время избавила их от чесоточных мучений и вернула им римское достоинство. Собрание постановило заключить мир с Филиппом на выработанных ранее условиях, а Грецию, как и планировалось, освободить от всех иноземных войск, в том числе и от римских, сообразуясь, однако, со стратегическими интересами Республики в намечающемся противостоянии с Антиохом. Для детального урегулирования всех вопросов было определено солидное посольство в помощь Титу Квинкцию в составе десяти видных сенаторов. Делегация наделялась полномочиями вершить судьбы греческих городов и общин в согласии со своими разумом и совестью при соблюдении главной политической линии государства.
Поскольку многое в будущем Эллады и ее взаимоотношениях с Римом зависело от этой комиссии, Сципион приложил немало усилий к тому, чтобы в ее состав попали верные его идеологии люди. Его хлопоты увенчались успехом, и он мог быть спокоен за исход балканского предприятия.
Тем временем в Греции этолийцы нагнетали вражду к римлянам, внушая соотечественникам, что те пришли не освободить их страну, а лишь заменить собою македонян. «И если к македонянам мы как-то притерпелись, – говорили они, – то какими господами будут пришельцы из Италии неизвестно». Этолийцев поддержали беотийцы, которые в силу их особого исторического воспитания горько сетовали на утрату рабства у Филиппа и в ностальгической тоске по длинным македонским сариссам, издавна указывавшим им путь к счастью, открыли партизанскую войну против солдат Квинкция. Фламинин кое-как уладил этот конфликт, стараясь не раздражать греков крутыми мерами.
В час прибытия делегации Греция проявляла внешнее спокойствие при крайнем напряжении внутренних сил и напоминала переполненный котел на грани кипения. Граждане сотен эллинских государств, затаив дыхание, следили за совещанием римских политиков, решающих их участь. Суровые люди с проницательным взглядом, облаченные в непривычные здесь торжественные, ниспадавшие до пят тоги, вызывали у греков благоговейный трепет. Лишь этолийцы с галерки этого гигантского амфитеатра, которым ныне стала вся Греция, источали пессимизм и приглушенно роптали. Остальные сотни тысяч зрителей развертывающейся драмы млели от сознания могущества этих пришельцев, казавшихся столь же простыми, сколь и непостижимыми, и попеременно краснели и бледнели, охватываемые то восторгом, то гневом.
Достигнув соглашения с сенатской комиссией и выработав совместными усилиями план урегулирования греческих дел, Тит Квинкций решил огласить принятое постановление на приближающихся общегреческих играх в честь Посейдона, называемых по месту проведения Истмийскими, чтобы сильнее воздействовать на впечатлительный, падкий до театральных эффектов народ Эллады. Его намерение стало известно местному населению, и на традиционное спортивное празднество собралось как никогда много зрителей. Будучи истомленными ожиданиями своеобразного суда над собою греки, сойдясь всем миром, не сдержали эмоций и выплеснули накипевшие страсти в бурных словопрениях. Они утверждали, предполагали, надеялись, страшились и мечтали. Здесь был представлен весь спектр человеческих чувств, тут столкнулись и рай, и ад. Кто-то восхвалял римлян, кто-то проклинал их, одни обожествляли Фламинина, другие мешали его образ с грязью. Некоторые загодя оплакивали судьбу своих городов, а в то же время иные из их сограждан готовы были возликовать в предвкушении радужных перспектив.
И вот настало время открытия игр. Bce уже бывало в Греции, но еще не было такого дня. Никогда так сильно не стремились люди попасть на спортивные торжества и никогда они так мало не интересовались самими состязаниями, как сегодня. Над человеческими толпами витало ощущение конца света, извечно предрекаемого всеми религиями, вслед за которым будто бы должна наступить абсолютная тьма или засиять заря новой цивилизации.
Расположившись на зрительских скамьях, греки, а также гости почти со всего Средиземноморья приготовились услышать либо самую страшную новость, либо самую прекрасную. На арену, согласно обычаю оповещать население Эллады о главных событиях во время подобных форумов, вышел глашатай с рулоном пергамента. Когда смолкли звуки труб, призывавшие публику ко вниманию, чего именно сегодня не требовалось, поскольку все и без того обратились в слух, он развернул свиток и зычно произнес: «Народ римский, сенат и проконсул Тит Квинкций Фламинин, выиграв войну, начатую ими за честь и независимость Эллады, у Филиппа и македонян, даруют свободу коринфянам, фокидянам, эвбейцам, фессалийцам.» Гигантская котловина стадиона взорвалась ликованием, шумный восторг заглушил дальнейшие слова глашатая, но тот продолжал выкрикивать названия городов и наименования народов, коих римляне возвращали к достойной жизни. Наконец зрители устали, смолкли, потом, собавшись с силами, снова подняли гам и опять стихли, а с арены все звучал и звучал голос, перечисляющий полисы, союзы и федерации, обретшие ныне свободу. Когда же свиток все-таки закончился, счастливые люди пожелали еще раз услышать небывалое сообщение, и свиток был перемотан к началу. Глашатай повторил постановление сенатской комиссии, выступающей на основании данных ей полномочий от имени всего римского государства. Только при втором чтении греки осознали происходящее и поверили собственному счастью. Едва глашатай покинул арену, масса людей бросилась к сидящему на почетном месте Титу Квинкцию и с присущей толпе способностью все, даже самые лучшие чувства доводить до абсурда едва не растерзала проконсула в порыве благодарности. В этот момент выдумки жрецов о будто бы наблюдаемых ими двух солнцах или трех лунах показались грекам реальностью: ведь все они видели, как под сиявшим на небесах весенним солнцем на земле, среди них сверкало светило ничуть не менее яркое. Тысячи людей старались заглянуть в лицо Квинкцию, сотни норовили потрогать его. На римлянина, как из мифического рога изобилия, сыпались букеты и венки, со всех сторон к нему летели разноцветные ленты.
На несколько дней Эллада обезумела от восторга, но потом сквозь барьер рукоплесканий снова стал просачиваться зловещий шепот этолийцев, не ставших, увы, господами Греции. Они уловили кое-какие неточности в формулировках сенатского постановления, неизбежно, ввиду стихийного происхождения языка, присутствующие в любом документе, и это позволило им говорить о его двусмысленности, а римлян объявить коварными злодеями, как будто те не могли при наличии желания открыто воспользоваться своей властью и подчинить себе всю страну без всяких оговорок. Греки насторожились, а вскоре опять забеспокоились.
Некоторый повод у них был, так как, предвидя вторжение Антиоха в Европу, римляне не решились оставить Грецию совсем беззащитной, словно бы назначенной ими в подарок конкуренту, и сохранили свои гарнизоны в Акрокоринфе, Деметриаде и Халкиде. Эти три пункта имели особое военное значение, и тот, кто владел ими, контролировал ситуацию во всей Греции. Занимая их своими войсками, македонские цари цинично шутили, говоря, что Коринф или точнее его кремль Акрокоринф, Деметриада и Халкида – это цепи Эллады.
Фламинин убеждал греков в целесообразности предпринятого римлянами шага по обороне ключевых точек Балканского полуострова, доказывал, что в противном случае их страна как легкая добыча навлечет на себя нашествие агрессора. Но в последнее столетие нигде в мире не говорилось так много о свободе, как в Греции, и, пожалуй, нигде в мире не было так мало реальной свободы, как здесь. Эллада утопала в сладкой риторике и гнусных деяниях. Привыкнув жить в искаженном информационном пространстве, греки охотно верили лжи и подозревали в корысти говоривших истину. Поэтому усилия Фламинина пропадали даром. О трех цитаделях, оставленных римлянами за собою, толковали больше, чем о сотнях действительно освобожденных городов. Доброе дело оказалось осквернено домыслами и пересудами. Но римляне проявили непреклонность, поскольку им требовалось возможно дольше удерживать Антиоха на некотором удалении от Европы, чтобы отсрочить войну с необъятным Сирийским царством, к которой они пока еще не были готовы. Однако позднее Тит Квинкций, ставший главным римским специалистом по Греции и как бы патроном всей этой страны, добился от сената разрешения на вывод гарнизонов из трех знаменитых балканских крепостей, и после этого во всей Элладе не осталось ни одного италийского солдата. Римляне полностью сдержали слово, данное грекам накануне войны, подтвердили делом свои лозунги и реализовали поставленную цель. Но это произошло только через два года, а пока Квинкций оставался в Греции и активно занимался дипломатией, стараясь утрясти противоречивые интересы местных общин и уладить их вековые дрязги.
Заключив договор о мире с Филиппом, римляне посоветовали ему вступить с ними в союз. Царь выказал готовность к этому, и Македония сделалась страной, дружественной Риму.
Так, мощью своих легионов и последовательной принципиальной политикой римляне заслужили уважение и любовь на Балканах, явно преобладавшие в то время над завистью и недоброжелательством, так идеология Сципиона и его окружения после успехов в Испании, Сицилии и Африке, шагнула на Восток и овладела душою просвещенной Эллады.
Борьба
1
Казалось бы, после столь блистательной победы политики Сципиона в Греции его авторитет и влияние в Республике должны были возрасти еще более. Но, увы, народу сложно уследить за мыслями и идеями и гораздо проще внимать именам и словам. А в тот период в Риме появились и новые имена и тем более – слова. Ежегодные набеги на непокорных галлов и лигурийцев при малой эффективности были эффектны и произвели на свет немало триумфаторов. В последние годы обострилась обстановка в Испании, и иберийские конфликты позволили отличиться тамошним преторам. Ну и, конечно, главным событием стала македонская война, а Тит Квинкций по ее завершении вознесся в сонм героев Отечества. Недруги Сципиона очнулись от шока, вызванного его беспримерными победами, и принялись нашептывать плебсу: «Вот видите, мы и без Сципиона можем добиваться успехов, и без Корнелиев способны выигрывать войны». Марк Катон развил эту мысль и польстил толпе заявлением, что побеждают в сражениях и целых кампаниях не императоры, всякие там консулы и преторы, а солдаты, и потому заслуга в небывалых достижениях государства принадлежит не аристократам, а простому люду. Он даже взялся проиллюстрировать свое открытие примерами из прошлого Республики и затеял написание истории римского государства, что было очень модно в тот период ввиду резкого подъема национальной гордости. Оригинальность его труда, названного им впоследствии «Началами», как раз и состояла в том, что действующим лицом пятисотлетней эпопеи выступал народ, а полководцы не упоминались вовсе. Конечно, не будь люди уже заранее психологически готовыми к подобному повороту в общественном мнении, не принесли бы успеха ни попытки затушевать славу Сципиона галльскими триумфами, ни старания Катона разделить неразделимое и вбить клин между лидерами и массой. Всем представлялось очевидным, что загнать галлов в лес и одолеть Карфаген – дела разного порядка, и что даже война с Македонией по сложности и масштабности не шла в сравнение с Пунической, столь же ясным было и особое значение стратегической и тактической дуэли Сципиона и Ганнибала в борьбе возглавляемых ими народов. Но к тому времени плебс утомил сам себя неумеренным поклонением Сципиону, устал от собственных восторгов, и его подобно маятнику, по инерции проскакивающему нормальное положение, занесло в противоположную сторону. Имя принцепса набило оскомину, начало вызывать кисловатый привкус, а кроме того, превозносить Публия Африканского стало делом тривиальным, старомодным, и теперь уже люди чаще морщились при упоминании о победителе Ганнибала, а также – двух Газдрубалов, Сифакса и Магона, чем аплодировали. Не чья-то слава, не новые идеи потеснили Сципиона на пьедестале почета, они лишь заняли освободившееся место, а сделала это мода – вульгарная потаскушка, угодливо помогающая тем, кто не располагает критериями истины, красоты и добра, чтобы облегчить им ориентировку в окружающем мире путем навязывания искусственных, зато всем доступных псевдокритериев, декларированных псевдоценностей. Не беда, что завтра нынешние каноны прекрасного и достойного станут символами безобразия и позора: это будет уже другая мода. Итак, Сципион как бы износил одеянье славы, пурпур его триумфального плаща поблек, и потому плебс смог различить на померкшем политическом небосводе восходящие звезды: Тита Квинкция, Клавдия Марцелла, Фурия Пурпуреона, Корнелия Лентула и других нобилей, потому народ стал прислушиваться к голосам, призывающим его ориентироваться на новые имена.
Немало поработали над затенением авторитета Сципиона последние консулы: Марк Марцелл и Луций Пурпуреон. Они представили Квинкция Фламинина выдвиженцем своей партии, проводником ее идей, а победоносное завершение войны, пришедшееся на год их консульства, изобразили достижением группировки Фуриев-Фульвиев-Фабиев. В борьбе против общего врага объединились принципиальные соперники: аристократы партии трех «Ф» и третья сила в лице сенаторов низших рангов, среди которых все более выделялся рыжий Марк Порций. «Мы, благодаря тому, что наперекор всемогущему Сципиону поставили во главе македонской экспедиции своего воспитанника юного талантливого Тита Фламинина и повели кампанию методами нашей партии по всем правилам стратегического искусства Фабия Максима и Клавдия Марцелла, добились блистательной победы на Балканах! Добыли славу и безопасность Отечеству!» – ораторствовали Фабии и Фурии, а также Клавдии, Семпронии и Валерии перед народом. А в это время в другом собрании Катон яростно бил уши купцов, чиновников, ростовщиков, откупщиков и прочих дельцов такими речами: «Вот она, победа Сципиона в Македонии: ему слава, а нам ничего! Мы раскошеливались, финансировали предприятие, казавшееся столь выгодным, а он взял и подарил завоеванную Грецию эллинам, этим деградировавшим существам, пустомелям! Хорош же и Квинкций! За милости патрона и консульское кресло этот мальчишка продал и душу, и глаза, и уши! Он и сам не видит чудовищности такой расточительной политики и не слышит наших голосов, велящих ему развеять вокруг себя Сципионовы чары и обратиться к разуму, твердому расчету!» Благодаря разделению зон влияния эти речи не аннигилировали, а, воздействуя на разные слои общества, складывались без учета их противоположных смысловых знаков. Поэтому граждане все более отдалялись от Сципиона и соответственно приближались куда-то еще, куда именно, пока никто не знал.
Но все эти интриги, как и психология неорганизованных масс в действии, только поколебали влияние Сципиона, не более того. Однако противники сумели использовать некоторое ослабление его позиций и, применив в пределах дозволенного имеющуюся у них в тот год магистратскую власть, добились избрания на высшие должности своих людей. Выборами руководил Клавдий Марцелл, напрочь забывший, кто помогал ему овладеть курульным креслом, а новыми консулами при его активном и умелом пособничестве стали Луций Валерий Флакк и Марк Порций Катон. И даже вновь избранные преторы поголовно принадлежали враждебному Сципиону клану. Лишь эдилитет получил сторонник Публия, его испанский квестор Гай Фламиний. Такой результат объяснялся еще и тем, что незадолго до проведения комиций задача Марцелла и его соратников неожиданно упростилась, поскольку умер ближайший друг и сподвижник Сципиона Марк Корнелий Цетег, и их главному противнику было не до выборов.
Могучие роды Корнелиев Сципионов и Корнелиев Цетегов сотрудничали всегда. Нынешнее поколение в полной мере поддержало традицию. На заре карьеры Публий опирался на авторитет Марка Цетега-отца, а затем исполнял эдилитет совместно с сыном. Далее они шагали рядом с младшим Цетегом по пути к общей цели – победе над Карфагеном и утверждению идеи о гармоничном устройстве цивилизации, правда, Сципион более выступал на военном поприще, а Цетег – на политическом. И вот теперь двадцатилетнее сотрудничество и близкая дружба разом прекратились, погибли вместе с внезапной смертью Марка. Корнелий Цетег был колоритной личностью, и Сципион даже в душе, то есть наедине с самим собою, признавал его равным себе значением и талантом. С уходом из жизни Цетега оборвались многие связи, соединявшие Публия с миром, умерла доля его существа, из души оказалась вырванной лучшая часть, подобно тому, как из тела вражеским снарядом вырывает кусок мяса, и он корчился от боли зиявшей черным провалом раны. При этом ему приходилось еще исполнять общественные и дружеские обязанности по организации погребального обряда и помогать семье почившего.
А его враги тем временем праздновали победу. Катон, можно сказать, совершил невозможное. Родившись в средней всаднической семье, он пробился в сенат, а теперь шагнул дальше предельной для людей его круга магистратуры претора и штурмом взял оплот нобилитета – консулат.
Но, конечно же, штурму предшествовала длительная осада. Целые века Порции Катоны медленно восходили из тьмы плебейских низов к заветной вершине, впрочем, не только Катоны, а Порции вообще, ибо еще ни один Порций не был консулом, хотя близкая Катонам родовая ветвь Леков достигала претуры; так, например, произошло и в нынешнем году, когда этой магистратуры удостоился Публий Порций Лека. Катоны упорным трудом и низким скряжничеством асс за ассом сколачивали состояние, храбростью, волей и смекалкой привлекали к себе внимание офицеров в ходе военных походов. Итогом цепочки таких жизней стал заметный авторитет отца нашего Катона в среде всадничества и его экономические, а следом и товарищеские связи с сенаторами преторско-эдильского ранга. Катон-отец дал хорошее образование сыну, зарядил его неуемной жаждой славы, и тот с юношеских лет привлек своими достоинствами внимание видных людей Республики.
Родовой дом Катонов находился в муниципии Тускуле неподалеку от столицы, а молодой человек воспитывался в сабинском имении, где с детства осваивал весь комплекс специальностей земледельца. Рядом с усадьбой Порциев располагались владения знаменитого Мания Курия Дентата – победителя самнитов и царя Пирра. Видя, в сколь скромных бытовых условиях жил этот человек и каких он при этом достиг высот, юноша задумывался о сущности счастья и познавал иерархию ценностей, учась отличать истинные от искусственных, условных. Тут же, по соседству, была вилла патрицианского консулярного рода Валериев Флакков. Однажды задиристый Марк люто подрался с юным отпрыском Валериев, и такое знакомство положило начало их плодотворной дружбе, продолжавшейся всю жизнь. Глава фамилии Публий Валерий Флакк, тот самый обладатель тонких улыбок и утонченного коварства, который третировал Сципиона по его возвращении из Испании, разглядел в шустром рыжем пареньке задатки ярких качеств и в свою очередь способствовал их развитию. Общаясь с представителями высшей знати, Марк старался ни в чем не уступать им и таким образом подтягивал свои амбиции до их уровня.
Достигнув совершеннолетия, младший Флакк – Луций отправился делать карьеру в Рим. С ним устремился в столицу и Порций. Начало взрослой жизни Марка совпало со временем нашествия Ганнибала. Катон сражался в войсках Марцелла, Фабия Максима и Клавдия Нерона, участвовал во взятии Тарента и Сиракуз. Везде он был заметен, но особенно отличился в битве у Метавра. С войны он вернулся с ног до головы исполосованным шрамами. При виде этих устрашающих узоров на его торсе, ногах и руках, прекрасных символической красотой славы, возникало впечатление, будто карфагеняне проиграли войну потому, что их металлическое оружие затупилось о тела таких людей, оказавшихся тверже железа. По окончании войны у Катона прорезался ораторский талант, который в совокупности с его тщеславием и агрессивностью создал идеального судебного сутягу. Порций без устали обвинял и защищал, казалось, он вообще не сходил с ораторской трибуны, причем обвинения ему удавались лучше, нежели защиты, и ярым словом он уничтожал соотечественников так же эффективно и безжалостно, как недавно мечом рубил пунийцев. Такой деятельностью Катон приобрел известность, а вместе с нею друзей и врагов. Первых он обязал чувством благодарности, обеспечив их победу в судебных процессах, а вторых сковал страхом перед своим ораторским могуществом. Наскоками на Сципиона и его друзей он привлек к себе интерес толпы и благосклонность Фульвиев, Фабиев, Фуриев. В сношениях со знатью ему оказали поддержку давние покровители Валерии Флакки, которые в последнее время плотнее примкнули к клану трех «Ф», чтобы совместными усилиями повысить влияние оппозиции Корнелиям и Эмилиям.
После войны с пунийцами Катон начал быстрое восхождение по служебной лестнице. Исполнив плебейские должности, он добрался и до курульных магистратур. Основу его деятельности составляло противоборство власти аристократов. Причем он дурачил Фульвиев и Фуриев тем, что нападал в первую очередь на лагерь Сципиона, хотя по сути его мероприятия были направлены против всего нобилитета. Так, со своими единомышленниками – Порциями Леками, Гельвиями, Манлиями плебейской ветви, Лициниями Лукуллами – Порций инициировал отмену чрезвычайных проконсульств в Испании, где двадцать лет господствовали Корнелии, и передачу этой страны в ведение ординарных преторов. Исподволь он готовил почву для установления жесткого порядка прохождения магистратур, чтобы удлинить путь нобилей к вершинам власти, выступал против присуждения триумфов и оваций друзьям Сципиона.
Катон был весьма заметен при исполнении всех государственных должностей, но особенно его прославила претура. Он получил назначение в Сардинию, где строгостью и принципиальностью навел порядок и возвысил имя римского магистрата, очистив его от печати пороков, свойственных пунийскому чиновничеству. Пребывая долгое время под протекторатом Карфагена, сарды привыкли к бесконтрольному всевластию пунийских должностных лиц, их взяточничеству и разгулу. Дурные традиции местное население распространило и на прибывающих к ним римлян. Преторам всячески угождали, потакали любым их желаниям и излишествами пробуждали новые, местная аристократия добровольно поступала к ним в услужение, образуя пышную свиту наподобие царской. Предшественникам Катона это нравилось, и постепенно низкое раболепие сардов и роскошь жизни магистратов за счет населения стали обыденными и как бы узаконенными явлениями. Порций же разогнал свиту, отменил незаконные поборы и демонстративной скромностью быта заставил здешнюю аристократию обратиться к человеческому образу жизни. Пешком обойдя все города острова, Порций непосредственно вник в дела каждой общины и целенаправленной деятельностью оздоровил экономическую жизнь страны.
На всех государственных постах Катон был безупречно честен. Но при этом богатство оставалось его заветной мечтой, то есть, с одной стороны, он, будучи истым римлянином, презирал все постороннее основной цели, все искусственные элементы престижа, не вытекающие логически из достоинств самой личности, с другой стороны, как представитель аристократического государства, стремился укрепить и расширить материальный фундамент для карьеры. Поэтому, достигнув необходимого для сенатора минимума, Катон продолжал самозабвенно наживаться, растворившись в этой страсти и потеряв разумные ориентиры. Его дух, обитающий гораздо выше мелочных удовольствий шикарного прозябания, пренебрегал непосредственными проявлениями богатства. Марк был неприхотлив к пище и одежде, презирал блестящие побрякушки, годные лишь на то, чтобы похваляться ими перед скудоумными обывателями, но как провинциал, росший у подножия Рима, как всадник, долгое время стоявший у порога курии, он взрастил в себе червя вечной неудовлетворенности и был болен ощущением своей неполноценности перед нобилями, что внешне пытался компенсировать петушиным зазнайством. Привыкнув всегда догонять, он, сравнявшись с лидерами, продолжал гнаться уже за призраком. Ведя самый скромный образ жизни, прославляя бережливость и простоту быта, Катон сколотил гигантское состояние и сделался богачом, за свои восемьдесят пять лет так, наверное, и не поняв – зачем. Получилось, что он боролся с алчностью и проповедовал скромность во имя все той же наживы. Из этого порочного круга ему вырваться так и не удалось. Противоречивость его мировоззрения не позволила ему проникнуть в сущность денег, осознать их безликий, абстрактный характер, а потому он томился иллюзиями о честном богатстве, разделяемыми многими его современниками. Поэтому Катон и проявлял неподкупность и порядочность в государственных делах, но зато вовсю лютовал в собственном имении. Рабов он держал на положении тяглового скота, обеспечивая их существование ровно на столько, на сколько это требовалось для поддержания их работоспособности. От пожилых работников, независимо от их заслуг, он избавлялся, как и от одряхлевших коней, мулов, быков, не брезгуя получить за них лишний асс. Порций прибегал к самим низким хитростям, чтобы держать рабов именно в рабском состоянии, и гордился этими достижениями своего рабовладельческого искусства. Столь же честным бизнесом он считал торговые спекуляции, хотя по законам нравственным и юридическим сенаторам воспрещалось заниматься торговлей как занятием, не совместимым с достоинством римского аристократа. Катон через подставных лиц владел многими купеческими и откупными компаниями, выколачивая при их посредстве чудовищные барыши из народа, того самого народа, обворовывать который напрямую считал делом постыдным. Вот такими путями его убогие, грубо сколоченные закрома наполнялись грудами золота.
Удивляясь и даже восхищаясь восхождением Катона, большинство сенаторов, тем не менее, не сомневалось, что далее претуры он не пойдет. Но не так думал сам Марк. Всем и всюду он доказывал, что ничем не хуже нобилей, и до бесконечности перечислял свои заслуги. Наверное, даже его домашний кот досконально знал все подвиги хозяина и был убежден в консульских достоинствах двуногого собрата. Но, возможно, запросы неуемного тщеславия Катона так и остались бы неудовлетворенными, если бы к нему не проявили интереса Фульвии и Фурии.
Однако в последнее время резко возрос спрос на ненависть Порция к Сципиону, тем более, что от злобных сумбурных нападок на самого принцепса, казавшегося многим безупречным, он перешел к последовательной критике его политики, в чем были заинтересованы не только противники Сципиона, но и мощный слой зажиточного всадничества. Обрадовавшись неожиданной поддержке в среде богачей и в сенатских низах, нобили оппозиционной партии стали всячески потворствовать Катону. Они поощрительно похлопывали его по плечу, снисходительно улыбались ему в лицо и пренебрежительно кривились за его спиной. А хитрый Порций, игнорируя противоречивую мимику покровителей, воспользовался их попустительством и собрал вокруг себя многочисленных сторонников из сенаторов низших рангов, которые прежде ввиду разобщенности являлись послушными марионетками консуляров. Из этой массы он создал собственную группировку, грозную не именами и авторитетами, а именно числом. За действенную дискредитацию идеологии партии Сципиона Катон получил одобрение своей кандидатуры на высшую должность от Фабиев и Фуриев. В свою очередь и метивший в консулы Луций Валерий Флакк благосклонно взглянул на друга детства, полагая, что из него выйдет послушный коллега. Он обеспечил ему поддержку Валериев и Клавдиев вместе с их бесчисленными клиентами. С другой стороны Катона толкали к консульскому креслу претории, квестории и эдилиции. Так Порций сумел впрячь в колесницу предвыборной кампании и нобилей, и «сенатское болото», предварительно расшевелив его. На конях этих двух общественных сил он и въехал на Марсово поле в день избирательных комиций.
Наблюдая со стороны политический разгон Катона, Сципион поражался недальновидности аристократов, ради сиюминутных выгод взращивающих себе непримиримого врага. Публий называл поведение Фуриев, Фульвиев, Клавдиев низостью, предрекал им многие беды в дальнейшем и жестокое раскаяние. Сам же он брезговал ввязываться в борьбу со своим бывшим офицером, тем более что Порций, казалось, жаждал противодействия Публия, чтобы получить довод еще раз обвинить его в мстительности и злобном преследовании, как он говорил, лучших людей. Но при всем том даже Сципион пока не осознавал в полной мере той опасности, которую представлял для высшего сословия этот человек.
Став консулом, Катон неожиданно нашел широкое поприще для приложения своих сил и талантов. Он получил в управление ближнюю Испанию и тридцатитысячную армию. В помощники ему дали претора Публия Манлия, а дальнюю Испанию поручили другому претору Аппию Клавдию Нерону. Таким образом, страна, некогда завоеванная Сципионом, теперь целиком перешла в руки его политических врагов.
Пятнадцать лет назад Публий Сципион выступал в Испании как освободитель иберийских народов от пунийского ига. Он сумел убедить местное население в праведности своих целей и добыть их уважение и дружбу. Потому при всей воинственности и неуступчивости иберы лишь однажды оказали ему противодействие. Победив карфагенян и утвердившись в Испании, Сципион свел функции римлян к защите страны от вторжения пунийцев и контролю над политической ситуацией с целью предотвращения междоусобицы иберийских племен. В экономическую жизнь римляне не вмешивались, и в Испании начался торговый бум благодаря устранению жесткой пунийской монополии в этой области. Сципион не прикоснулся и к такому национальному богатству иберов как серебряные рудники. Помимо выполнения основной задачи Публий еще инициировал внедрение в иберийские верхи греко-римской культуры, чтобы цивилизовать этот грубый народ и воспитать из него сознательного верного союзника.
В дальнейшем проконсулы, назначаемые по выбору Сципиона, продолжали его политику. Римляне не имели никаких материальных выгод от пребывания в Испании и довольствовались тем, что держали в руках потенциальный очаг напряженности, не позволяя реализоваться его разрушительной внутренней энергии, заключенной в разнородности племен. Если бы они оставили этот регион без внимания, там неизбежно началась бы борьба за власть между князьями различных народов. При чрезвычайной многочисленности испанского населения такая война могла затронуть соседние земли, из локальной перерасти в глобальную, из внутренней – во внешнюю и стать дестабилизирующим фактором в масштабах всего Средиземноморья. С точки зрения обеспечения безопасности Италии и римской идеологии вообще такое было недопустимо.








