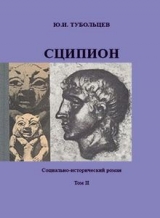
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 43 страниц)
Нелишне будет вспомнить, что из всех достойных мужей не нашлось ни одного, кто вызвался бы возглавить остатки разбитых испанских легионов, столь гиблым казалось это дело. Я же не мог колебаться, меня влекли в Испанию и долг перед Отечеством, и долг пред своим родом, ведь оба полководца, ставшие жертвой коварства африканцев и измены иберийцев, были Корнелии Сципионы.
Прибыв в Испанию, мы вместо пассивной обороны, обреченной в той ситуации на неудачу, сразу перешли к активным действиям. Отвлекающим маневром с фуражировкой мы заставили все три карфагенских войска сгруппироваться в центре страны, а сами атаковали местную пунийскую столицу Испанский Карфаген. Благодаря оригинальному замыслу и помощи владык небес и морей, нам удалось в один день овладеть этой твердыней.
Там мы пополнили ресурсы для ведения войны и, самое главное, захватили сотни знатных иберийцев, содержавшихся пунийцами в качестве заложников. Всех испанцев мы отпустили на волю без выкупа. И этим показали местным народам великую разницу между римлянами и карфагенянами. С тех пор иберийцы душою были с нами и, постепенно освобождаясь от пунийских пут, племя за племенем, народ за народом переходили на нашу сторону. Увы, ныне близорукие магистраты, ослепленные мишурным блеском пунийских ценностей, повели себя в Испании так же, как некогда карфагеняне, и в результате иберы сделались нашими врагами. Теперь мы получили войну, которая продлится, я уверен, не одно десятилетие.
Тогда же, благодаря взвешенной политике в отношении местных племен и продуманной наступательной стратегии в борьбе с африканцами, мы в пять лет уничтожили четыре пунийских войска и овладели огромной страной, в два раза большей, чем Италия.
Потеряв Испанию, Ганнибал лишился материальных и людских ресурсов, необходимых для большой войны, а потому был вынужден отказаться от активных действий и перейти к обороне. Он окопался в Бруттии, как раненый зверь в своей норе, но продолжал огрызаться, покусав при этом не одного консула. Выдворить его из Италии представлялось делом крайне хлопотным и чреватым значительными потерями. А самое главное, это не принесло бы нам решающей победы в войне.
Я со своими лучшими легатами Гаем Лелием и Луцием Сципионом, еще будучи в Испании, пришел к выводу, что выиграть войну можно только в Африке. Наши взгляды разделяли самые дальновидные сенаторы в Риме: Квинт Цецилий Метелл, Марк Корнелий Цетег, Гай Сервилий Гемин и другие. В напряженной идеологической борьбе, где нам фактически противостояла не столько альтернативная стратегия, сколько зависть и злоба, мы отстояли свою точку зрения и добились права увести войну из разрушенной и выжженной Италии в благоухающую Африку. Однако недруги лишили нас поддержки государства. Нам пришлось собирать войско из добровольцев и оснащать его на собственные средства. Этим объясняется наша задержка в Сицилии. Правда, мы не ограничились приготовлениями и одновременно сумели малыми силами отобрать у Ганнибала Локры.
В Африке нам первоначально пришлось труднее, чем мы полагали. Стараясь заранее проторить пути в ливийский край, мы заручились поддержкой нумидийских царей Сифакса и Масиниссы. С Масиниссой мы тайно встречались в Испании, а Сифакса навестили в его Сиге, где, скрестив интеллектуальное оружие с пунийцем Газдрубалом, в драматичном идеологическом споре отвоевали себе душу царя. Но цинизм и коварство пунийцев, на государственном уровне торгующими своими лучшими женщинами, похитили у нас Сифакса и его обширное царство. Увы, сластолюбивый царь не устоял пред лживыми ласками дочери Газдрубала, в которой все было лживо, кроме самого основного – любви к Родине, каковая возвела это глубоко порочное существо на пьедестал героев. Я бы поставил ее выше Ганнибала. По крайней мере, она не бежала с поля боя, а сражалась до последнего. Ну а Сифакс, подобно животному подчинивший разум прихоти тела, стал рабом Софонисбы и слугою Газдрубала. Он собрал огромное войско и сформировал его по нашему образцу, поскольку прежде, в период дружеских отношений, царскими консультантами были наши специалисты. Его пунийский хозяин тоже постарался… Совместные силы врагов достигали численности в сто тысяч. Но все было тщетно: мы расправились и с теми, и с другими. Потом разгромили их новую, на этот раз объединенную армию, и наконец добили Сифакса в глубине его царства. На нумидийский трон мы посадили верного нам Масиниссу. Отныне знаменитая африканская конница, принесшая Ганнибалу победу при Тицине, Требии и Каннах, принадлежала нам. Правда, Нумидия была истерзана войной и не могла выставить нужное количество всадников. Однако мы сумели толково воспользоваться и теми, которые были.
Итак, война шла по нашему плану. Благодаря верной стратегии мы управляли событиями, а события управляли карфагенянами. В полном соответствии с нашими расчетами Ганнибал покинул Италию именно тогда, когда нам это было угодно, ни месяцем раньше, ни месяцем позже. Но при всех наших успехах окончательная победа, казалось, была еще далека, ибо Ганнибал есть Ганнибал. Пуниец за одну зиму создал могучее войско и приготовил нам несколько тактических сюрпризов. В частности, он изучил наш обходной маневр резервным эшелоном и успешно применил его против нас у Замы. Если бы мы, в свою очередь, не придумали кое-какие новинки, нам пришлось бы туго.
Главная задача состояла в том, чтобы вызвать Ганнибала на решительное сражение, не дать войне затянуться, так как государство было истощено и практически не имело возможности продолжать масштабную кампанию в далекой стране. Кстати сказать, это главный закон наступательной войны вообще: на чужой территории нужно действовать стремительно, поскольку в начальный период преимущества принадлежат атакующему, если же война затянется свыше некоторой критической продолжительности, то в более выгодном положении окажется уже обороняющаяся сторона. Однако у Ганнибала имелись свои трудности, и он тоже не прочь был решить дело одной битвой, но только при выгодных обстоятельствах, вместе с тем он готовился и к затяжной войне на изнурение. Пуниец предпринял беспримерный марш в пустынные глубины Африки с целью оторвать нас от приморской базы под Утикой, а самое главное – изолировать от Нумидии, из которой мы ждали Масиниссу с подкреплением. Чтобы сделать ситуацию необратимой, а генеральное сражение – неизбежным, мы притворились, будто не поняли замысел врага, и сознательно устремились в ловушку хитрого Пунийца. Соревнуясь в гонке с неприятелем, мы зашли в такие места, откуда мог вернуться только кто-то один, только победитель. Сложилась такая обстановка, что грань, отделявшая успех от катастрофы, была тоньше лезвия меча. Балансируя на смертоносном острие, мы сумели воссоединиться с Масиниссой, не позволив сделать того же Ганнибалу и Вермине, заманили карфагенян на ровное поле, удобное нашей коннице, навязали им бой и разгромили в пух и прах. О самом сражении лучше всего узнать из поэмы Квинта Энния – красы и гордости латинской литературы. Это были «Канны» наоборот. Только мы потом не бражничали, как пунийцы в Капуе, а двинулись прямиком к вражеской столице и принудили Карфаген к капитуляции.
И произошла эта битва, решившая исход борьбы Рима с Карфагеном и заложившая основу для «Киноскефал» и «Магнесии», ровно день в день пятнадцать лет назад! Вот такая сегодня знаменательная дата! Вот такой сегодня особенный день!»
При этих словах Сципион одним движением сбросил с плеч серый плащ и предстал изумленной толпе в пурпурном облачении триумфатора. Увлеченные повестью о подвигах Сципиона, слившихся воедино с подвигами всего народа римского, люди не заметили, как постепенно над их головами таяли тучи, и прояснялось небо. Зато теперь они увидели сразу десяток ослепительных солнц, брызнувших на них праздничным сияньем с золотых узоров триумфального плаща Сципиона. Восхищенным людям показалось, будто именно Сципион Африканский своим преображеньем зажег солнце, и они не удивились этому, ведь им и раньше было известно, что пред этим человеком, которого они имеют возможность числить в согражданах, расступается море и по его воле разводит свои костры Вулкан.
«Итак! – покрывая шум ликования, снова воскликнул Сципион. – Пятнадцать лет назад Рим одолел Карфаген, а я победил Ганнибала! Так что уместнее сегодня воздать должное делам Рима, чем словам, тем более, что это будет не только благороднее, но и интереснее, ибо, что может сказать против меня тот, кто мне обязан самой возможностью говорить.»
При последней фразе, произнесенной без укора, но с грустью, председатель суда Теренций Куллеон позеленел. Этот момент, наверное, стал единственным случаем в истории, когда подлец проклял собственную подлость. Впрочем, его раскаянье было лишь минутной слабостью, и в дальнейшем он с лихвой наверстал потерянное.
«Я сейчас отправляюсь на Капитолий, чтобы принести жертвы богам – покровителям Отечества в благодарность за данную нам победу, – продолжал Сципион. – Туда же должны быть доставлены отобранные для обряда животные: я распорядился об этом еще на рассвете. И с собою я приглашаю всех истинных граждан, каковым дорога слава Рима, а не его грязь!»
Произнеся эти слова, Сципион сошел с ростр и, высоко подняв голову, светящуюся вдохновенным взором, двинулся к самому высокому римскому холму. За ним хлынул весь народ, ибо по мере того, как люди слушали Сципиона, их души расправляли крылья, а фигуры распрямлялись, принимая гордую осанку, они, словно животворным соком, наливались достоинством и добротою, забывая низменные инстинкты, разбуженные в них лживой пропагандой, и к моменту окончания речи действительно из толпы превратились в народ. Постепенно к процессии присоединились писцы, прочие судебные служители и даже судьи. На обезлюдевшем форуме остались лишь зеленый претор в окружении ликторов, бессильных защитить его от собственной порочности, красный Катон и бесцветные Петилии.
Так Сципион разметал в клочья все обвинения, даже не упомянув о них, снял с себя все подозрения, не унизившись до оправданий, прекратил судебный процесс прежде, чем он успел начаться.
6
В день, назначенный антиаристократической партией для расправы над Сципионом Африканским, состоялся его неофициальный триумф. В сопровождении почти всех граждан Города он обошел главные римские храмы, принося дары богам и принимая изъявления народной любви. Сплотившись вокруг вождя, римляне вновь осознали величие и славу Отечества, а следовательно, и собственное могущество. Даже вольноотпущенники, ростовщики и торговцы почувствовали себя в этот день римлянами. Сколь ни сильна толпа, заряженная ненавистью, ей не сравниться с народом, объединенным в единое целое добрыми чувствами; тем и было живо человечество, что его созидательный потенциал превосходил энергию разрушения.
В здоровой моральной атмосфере гибнут микробы зависти и злобы. На некоторое время Катону пришлось уйти с форума к своим медякам, поскольку ни о каком продолжении процесса над Сципионом в сложившейся обстановке не могло быть и речи. Помимо воодушевления народа патриотической гордостью за своего героя, пользе Сципиона послужило осознание людьми того, что вести себя так, как он, мог только невиновный человек. Порций был обескуражен: всю жизнь он задирается со Сципионом, но тот всякий раз сметает его с дороги, словно пыль, не удостаивая даже отрицательного внимания, вообще брезгуя вступать с ним в какую-либо борьбу. Но Катон не унывал, потому как это был Катон. Труднее оказалась жизнь Петилиев. Этим народным трибунам пришлось скрываться от народа, проявляя всю изобретательность, присущую выскочкам. Теренций, закаленный в горниле унижений карфагенского плена, был недоступен стрелам совести и стыда, потому скоро приобрел прежний цвет лица. Веря в розги ликторов, он смело разгуливал по городу и делал вид, будто никогда и не стремился засудить своего благодетеля, а участвовал в позорном процессе лишь как государственное лицо, добросовестно исполняющее поручение сената.
Друзья Сципиона торжествовали и уговаривали принцепса поскорее развить успех, чтобы довершить разгром зарвавшейся группировки сенатских низов. Многие нобили в последнее время ощутимо страдали от притязаний на их место в обществе этой, прежде послушной, рыхлой, а ныне необычайно усилившейся за счет иррационального богатства и талантливых лидеров массы. Потому аристократы вновь с надеждой взирали на Сципиона и чрезмерно восхищались его идеологической и нравственной победой, которая, по их мнению, при умелом развитии наступления на оппозицию могла превратиться в победу политическую и возвратить им безоговорочное господство в государстве.
Однако Сципион повел себя не так, как ожидали и его друзья, и враги.
– Неужели я буду ввязываться в склоку с катонами да петилиями! – презрительно бросил он, когда завсегдатаи его триклиния открыто подняли этот вопрос.
– Но ведь ты не чурался политических игр во время войны с Карфагеном? – осторожно уговаривал его корифей искусства интриги Квинт Цецилий Метелл.
– Одно дело – Фабий Максим, и совсем другое – Порций, – с досадой отмахнулся от приставаний Публий. – Потом, я ведь всей своей жизнью, надеюсь, заслужил право вести себя честно и прямо, не унижаться до лжи и лицемерия. Но самое главное различие в том, что тогда я отстаивал свою идею и боролся за Родину, а сегодня вы мне предлагаете грызться с Петилиями ради себя. Пусть народ сам решает: нужен ему Сципион или нет. В конце концов, я дал Республике гораздо больше, чем взял, так что Рим должен дорожить Сципионом ничуть не меньше, чем Сципион – Римом!
«Постарел наш Корнелий», – думал, слушая эти слова, Цецилий.
– Ты же понимаешь, что народ – могучее, но лишенное зрения животное, – не унимался Метелл, – он послушно идет за поводырем и с равным рвением творит добро и зло. Так что для него же будет лучше, если он последует за нами, а не за кучкой разбогатевших ничтожеств с прожорливым брюхом вместо души.
– Что же тогда стоят наши труды и наши победы, если народ ныне так же слеп, как и был прежде? – мрачно философствовал Сципион. – Что нам толку в Испании, Африке, Греции и Азии, если люди остались столь же мелки, какими были в маленьком городишке, хуже того, становятся все мельче с увеличением наших владений? Как могло произойти, что после «Илипы», «Метавра», «Замы», «Киноскефал» и «Магнесии» в Риме возникли петилии и теренции? Увы, мы взрастили тело государства, но не его душу!
«Постарел!» – окончательно решил превосходящий товарища годами Цецилий и оставил его в покое.
Однако не все соратники подобно Метеллу простили Сципиона. Многие были обижены на него, считая, что, укрепив собственный авторитет, он тем и удовольствовался, а их интересами пренебрег.
У Сципиона же были иные заботы. Ему казалось, будто все случившееся после его возвращения из Азии, происходило не с ним, а с его тенью. Неким высшим знанием он понимал, что его судьба покатилась вниз с крутого откоса, с каждым днем убыстряя обороты. Причем это низвержение было вызвано не Катоном, Петилиями или Антиохом и не сенатом или плебсом. Его участь решилась совсем в других сферах, и жестокою насмешкою судьбы ему дозволили узреть будущее. Восприятие внешнего мира изменилось, и действительность как бы стала недействительной. Все вокруг сделалось чужим и отдаленным. Он словно смотрел на землю, на которой его уже нет.
Временами Сципион испытывал прилив сил и боролся с депрессией. Он внушал себе, что его пессимизм вызван неприятностями реальной жизни, а значит, и преодолен может быть земными средствами. При желании всему можно подобрать объяснение. Досадная болезнь помешала ему проявить себя в Азии, а пленение сына и вовсе омрачило впечатление от похода. В Риме он застал разгул низменных страстей: в мир пришло новое поколение, и оно сказалось не таким, какого чаяли отцы. Самого его, Публия Сципиона Африканского, на родине встретили не благодарностью за беспримерные заслуги перед Отечеством, а завистью и злобой. Тот, кто спас государство от Ганнибала и дал государству власть над Испанией, Африкой и Азией, был обвинен в государственной измене! Как ему было не скорбеть о таком падении народа! Как ему было не поверить в рок судьбы!
Разбирая конкретные причины неудач, Сципион взбадривал себя доводами рассудка и намечал план действий по преодолению отрицательных явлений, но, сталкиваясь с реальностью, быстро терял пыл и снова впадал в пессимизм. Он ощущал себя дельфином в луже грязи, где, несмотря на сильные плавники и гибкое тело, ему невозможно пуститься в плаванье.
7
Обнаружив, что Сципион не помышляет о преследовании обидчиков, Катон воспрял духом и решил возобновить наступление на врага, внеся в свою кампанию соответствующие настоящему моменту коррективы. Сейчас его лагерю принадлежали все городские магистратуры, но в дальнейшем добиться такого расклада должностей не представлялось возможным, ввиду присутствия в Риме Сципионов, потому Катону было необходимо достичь поставленной цели именно в этом году. Однако действовать прежним способом не следовало. Обвинение Сципиона Африканского в измене Отечеству было явным перебором. В те древние, темные века средства пропаганды еще не достигли такого развития, чтобы тиранически господствовать над разумом, совестью и честью, и народу нужно было подавать более тонкие политические блюда, чем то, за версту смердящее ложью, которое он сварганил вместе с Петилиями.
Порций надумал привлечь в помощь бациллы новой тогда для Рима, но уже весьма распространенной и злободневной болезни – алчности и выдвинул, естественно, через Петилиев обвинение Сципионам в присвоении части азиатской добычи. Он полагал, будто перед деньгами не устоит никто, и потому считал такую формулировку правдоподобной, и обвинение – неотразимым. Причем во всеуслышанье говорилось о нечестности одного только Луция Сципиона, дабы не слишком больно ранить порядочность простолюдинов, но одновременно подразумевалось, что братья действовали совместно.
Другим новшеством стала сотканная Катоном идеологическая подкладка затеваемого судебного процесса. Каждому камню на форуме внушалась мысль о нашествии на Город страшного врага – алчности. Да, именно так! Катон решил пожертвовать собственной богиней, отлично зная, что она стерпит любые словесные поношения, лишь бы только непрерывно наполнялось ее бездонное чрево. Некоторым оправданием ему может служить то, что он искренне верил, будто существует порочная корысть, ворующая у государства, и есть честное, добропорядочное стяжательство, обирающее граждан этого самого государства, а также – грабящее иноземцев и сосущее кровь рабов. Дело Сципионов подавалось народу как начало оздоровительной кампании в масштабах всей Республики. «Как нам ни жаль Корнелиев, некогда оказавших кое-какие услуги Отечеству, долг требует крутых мер по излечению граждан, пораженных азиатским недугом, – сокрушенно говорили перед плебсом катоновцы, хихикая в плечо. – Ведь мы бы не допустили на форум, в гущу народа или в сенат человека, больного чумой, сколь уважаемым он бы ни был. Таково наше нынешнее отношение и к консулу трехлетней давности. Он должен быть очищен от скверны взяточничества и воровства!»
В целях демонстрации глобального характера предпринимаемых оздоровительных мер, а также для создания впечатления о порочности всей среды обитания Сципионов, наряду с полководцами к ответу были привлечены квестор Гай Фурий Акулеон, легаты – братья Луций и Авл Гостилии и несколько чиновников из штабного персонала. Позаседав и пошумев, претор – все тот же Квинт Теренций Куллеон – и судьи оправдали Луция Гостилия и чиновников. Так народу были даны косвенные свидетельства объективности и добросовестности организаторов судебной эпопеи.
Поддавшись гипнозу грозно-величественных манипуляций городских властей, потрясающих связками прутьев и трибунскими знаками, плебс опять поверил в серьезность дела Сципионов, и потому, когда был назначен день суда над ними, на форуме собралась столь же возбужденная и агрессивная толпа, как и несколько месяцев назад при первой попытке расправиться с Публием Африканским.
8
Над Римом уже давно взошло солнце, которое, словно прищурившись, скептически смотрело на форум сквозь дымку разреженных облаков, а воинственность трибунов все еще пожирала их самих за неимением более достойной пищи. Возле ростр, забаррикадировавшись пучками розог, восседал претор, тут же сгруппировались обвинители, грифами озирали толпу судьи, против них в окружении знатных сенаторов стоял с демонстративно-независимым видом Луций Азиатский, за его спиною, нервно покусывая губы, переминались с ноги на ногу Фурий Акулеон и Авл Гостилий, а вся площадь пенилась стриженными макушками жаждущего зрелища плебса. Но при таком обилии лиц и судебных атрибутов вся сцена в целом выглядела незавершенной, безжизненной, лишенной содержания, поскольку отсутствовал главный герой, для задействования которого и затевалось это представление. На форуме не было Публия Сципиона Африканского.
Никто не мог назвать причину отсутствия принцепса, и это дало возможность строить предположения всем. В толпе быстро разнесся слух, что Сципион заболел. Но столь простое решение вопроса не удовлетворило взыскательную публику, и вскоре уже, как о чем-то несомненном, говорилось о тайном бегстве Африканского из города, тут же нашлись люди, утверждавшие, будто видели его рано утром у Капенских ворот переодетым в рабский балахон, однако относительно его дальнейшего маршрута мнения расходились: одни предполагали, что он обосновался на Альбанской горе и собирает ветеранов; по мнению других, – отплыл в Карфаген, дабы возглавить пунийское войско и с ним вторгнуться в Италию, о чем у него якобы уже была договоренность с лидерами совета ста-четырех; третьи заверяли, что он отбыл в Сирию, где Антиох обещал ему половину царства.
Петилии вначале перепугались, ожидая от непредсказуемого Сципиона какого-либо подвоха, потом решили, что он сам порядком напуган, и осмелели до наглости. По закону неявка подсудимого на собрание расценивалась как признание им вины, и Петилии уже собрались настаивать на заочном осуждении принцепса, но Катон, понимающий, что Сципион так просто не уступит, потянул за узду и остановил своих рысаков. Те ограничились несколькими выражающими возмущение фразами.
«Вот вы в прошлый раз презрели отеческие законы, оставили претора, судей и словно стадо овец, пошли за Корнелием, чтобы в сотый раз восславить его за древние, поседевшие и полинявшие от времени подвиги! – выговаривали Петилии простолюдинам. – А сегодня он, уверившись в собственной безнаказанности, пренебрег не только нами, но и вами!»
Излив избыток гнева, Петилии успокоились и принялись за Луция Сципиона, отложив решение участи его брата на конец дня. В прыткой, как галоп молодого скакуна, речи они обвинили победителя Антиоха в присвоении гигантской части азиатской добычи, исчисляемой примерно в четыре миллиона сестерциев. Эмоциональным фоном для обсуждаемого преступления вновь стали намеки на мягкие условия мира и любезность царя в отношении племянника консула.
Луций был человеком тщеславным и остроумным, но честным и справедливым. Благодаря первым качествам, он приготовился выступить с хлестким ответным словом, намереваясь при этом не столько защищаться, сколько атаковать своих обвинителей, но из-за второй группы качеств пришел в крайнее возбуждение от столкновения с клеветою и злобой, а потому его речь получилась сумбурной и чрезмерно резкой.
Вначале Луций заговорил о своей азиатской кампании. Описал весь ход войны, решающее сражение и главные итоги. Затем, сбиваясь от волнения, он принялся доказывать, что предъявленные им требования к побежденным были ничуть не мягче, чем условия, выставленные Карфагену или царю Филиппу.
«Так на чем же основаны упреки? – возмущенно вопрошал Сципион Азиатский. И, забыв о дипломатичности, откровенно отвечал: – На недобросовестности Петилиев и на вашем невежестве, квириты! Толпа, зовущаяся ныне римским народом, с каждым годом включает в себя все меньше истинных римлян, с оружием в руках победоносно прошедших весь круг земной, и все больше всяческих отщепенцев: изворотливых рабов, сумевших обмануть своих хозяев, любителей легкой жизни, сошедшихся в столицу со всей Италии, и прочих проходимцев. Таким людям нет дела до Македонии, Карфагена или Сирии, нет дела до славы Рима, вся Вселенная для них заключена в корзинке с завтраком, подаренной патроном за порцию лести, да в подачках городских властей и триумфаторов. Разве они могут знать, что территория, отобранная у Антиоха, в ширину составляет десять дней пути, а в длину – тридцать дней, разве они способны сосчитать, что контрибуция, затребованная с азиатского царя, в полтора раза превышает выкуп Карфагена и в десять раз – дань Филиппа! Разве они в состоянии понять душу Сципионов! Они верят в нашу корысть, они пытаются измерить нас деньгами! Да, такие люди – находка для Петилиев: их глупостью можно сотворить любое преступленье. Из рыхлой, аморфной массы обывателей авантюристы испокон веков лепят монстров, пожирающих лучших сынов народа, чтобы потом беспрепятственно подчинить себе обезглавленную толпу!»
Эта речь вызвала взрыв истерического бешенства, и Луция хотели тут же стащить в Гемонии, но слово в качестве свидетеля взял Публий Сципион Назика и несколько утихомирил страсти.
Он пояснил, что в своем обличении Луций имел в виду не римский народ как таковой, а лишь худшие, чужеродные его элементы, и уж никак не хотел обидеть присутствующих здесь доблестных и почтенных граждан, которые, несомненно, представляют собою соль земли.
Успокоив разгоряченный народ, Назика стал развивать те же положения, которые только что высказал Луций, но поскольку делал это в более изысканной форме, перемежая изложение сути с хламом пустых комплиментов плебсу, то вместо гнева толпы, снискал ее расположение. Из симпатии к оратору, простолюдины поверили в лживость, завистливость Петилиев и выразили доверие Сципионам.
«Как же так, недавно мы порицали пунийцев за неблагодарность к своему великому соотечественнику Ганнибалу, а сегодня сами стали трижды неблагодарны к Сципионам! – развивая успех, воскликнул Назика. – Но ведь карфагеняне изгнали побежденного, а мы преследуем победителей! Неужели мы опустимся ниже презренных пунийцев? Неужели мы, свергнув с пьедестала славы Отечества Сципионов, возведем на него Петилиев? Вы только сравните их…»
В толпе пробежал смешок, ибо, как ни топорщили грудь и не воздевали кверху нос трибуны, представить их на месте Сципионов было невозможно.
«Вы только сравните их! – с повышенным эмоциональным накалом повторил Назика. – Одни руководили легионами, другие повелевают писцами, одни организовывали величайшие кампании нашего Отечества, другие – позорную травлю героев, Сципионы сражались мечом и копьем, а Петилии – броскими фразами и лживыми наветами, Сципионы бились с врагом, а Петилии – с согражданами, Сципионы привели в действие все лучшее, что есть в народе римском, и победили могущественные государства, а Петилии мутят людские души, стараясь поднять с их дна осадок самых низменных страстей, присущих человеческой природе, чтобы победить победителей! Так неужели вы отдадите предпочтение последним перед первыми! Неужели злые начала в вас восторжествуют над добрыми!»
Штурм был отбит. Атакующих отбросили от твердыни авторитета Сципионов, нанеся им ощутимый урон. В штабе осаждающих началась возня. Озабоченные сновали туда-сюда адъютанты, легаты и гонцы, только сам император судебных битв Марк Порций Катон оставался невозмутим, правда, лишь внешне, в потусторонних глубинах его существа, как и в душе всякого полководца во время сражения, клокотали неистовые страсти. Публий Назика отобрал у него победу, когда Луций Сципион, растворив ворота, опрометчиво ринулся в контратаку и угодил в хитрую ловушку. За это Катон обрек Назику пасть жертвой своей мести следом за его двоюродными братьями. Прежде Порций ненавидел этого человека как представителя рода Сципионов, но теперь он, вдобавок, возненавидел его и персонально как Публия Назику. Такое подкрепление в полку Катоновой ненависти с лихвой восполнило только что понесенные моральные потери, и Порций, невзирая на изменившееся настроение плебса, вновь ощутил в себе необъятные силы и почуял трупный запах своей близкой победы.
Прыткие молодцы, разрезая толпу острыми локтями, устремились от ставки командующего на передовую, чтобы довести до Петилиев и Теренция приказы «императора». Их прибытие внесло оживление в ряды нападающих. Хмурый лик Куллеона просиял внезапной надеждой, и претор, возникнув перед плебсом во весь рост, заявил, что если Сципионы действительно невиновны, то пусть предъявят ему счетные книги, чтобы, проверив их частные траты, суд мог косвенно, как бы подойдя к проблеме с другой стороны, убедиться в отсутствии каких-либо следов в их доме Антиоховых денег.
Луций Сципион побледнел от такого унижения.
– Мне отчитываться в домашних тратах перед тобою, Теренций, перед вами, Петилии! – воскликнул он.
– Перед судом! – помпезно возвестил Куллеон, любовно поглаживая пурпурную полосу на магистратской тоге.
– Боги нам судьи, а не пунийский раб!
Петилии налету схватили эту фразу, словно тощие псы – жирную кость.
– Вот каковы они, Сципионы! – страстно возопили трибуны. – Они пренебрегают судом, унижают народ римский и оскорбляют избранного вами претора! Вот она, царская надменность Сципионов! Посмотрите только, как взбеленился этот обласканный вами Корнелий! «Как же так, вы, ничтожные плебеи, будете рыться в моих книгах, обсуждать мои дела!» – кричит его гневный облик. Видите, как презирает нас, плебеев, этот высокомерный патриций! Словно у нас и не две ноги, как у него, словно мы существа низшей породы, быдло, самою природой назначенное льстить ему и пресмыкаться перед ним, а также совершать ратные подвиги, которые он будет приписывать себе!
Итак, в бой была брошена грозная сила взращенной веками ненависти плебеев к патрициям. В последнее столетие эта тема утратила актуальность ввиду фактического стирания границ между обеими категориями граждан и уступила место борьбе верхов общества – нобилитета, куда наряду с патрициями влились и могущественные плебейские роды, и низов, условно именуемых плебсом. Однако вражда плебеев к патрициям проникла в их плоть и кровь, стала генетической. Она была подобна спящему зверю, который теперь был разбужен громкими криками трибунов и издал грозный рык тысячами глоток раздраженных людей. Вдвойне ненавистен был им сейчас Сципион: и как патриций, и как нобиль.








