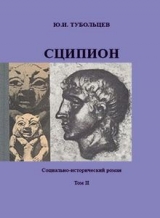
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 43 страниц)
– Однако я рад, что царь, несмотря на политические и военные трудности, сохранил в себе человека и чтит дружеские отношения, – любезным тоном сказал он. – Я благодарен ему за предложенные дары, но приму только один из них, зато несравненно лучший из всего, что может быть на свете, – сына. Остальное же, всякое там богатство, полцарства и тому подобное меня ничуть не интересует, и по этому поводу лишь замечу следующее: царю было бы полезно получше изучить римлян, дабы понять, что сокровища души и ума несравненно ценнее россыпей золота и бриллиантов, равно как и толпы рабов.
– Итак, передай царю величайшую мою благодарность за сына, – подытоживая, внушительным тоном сказал Сципион, – но при этом прошу подчеркнуть, что я согласен принять только частное благодеяние, оказанное мне как частному человеку, но как государственный муж я не возьму от царя ничего.
– О, само собой разумеется! – воскликнул Гераклид, с ужасом думая о том, как он объяснит господину, что, отдав заложника, фактически ничего не получил взамен.
Сципион знал, что в сложившейся ситуации Антиох вернет ему сына уже хотя бы в силу одной только царской кичливости, но решил смягчить дело пухом летучих слов.
– А в свою очередь я как частный человек дам царю совет, каковой, не сомневаюсь, вполне стоит царской щедрости, – заявил он. – Так вот, передай Антиоху, Гераклид, чтобы он, не раздумывая, соглашался на все условия римлян. Пусть он пожертвует Малой Азией ради дружбы Рима, ибо не о каких-то конкретных территориях стоит ему теперь думать, а о том, как спасти свое царство от полного краха. Ты сам говорил недавно, что мы отнимаем земли у врагов и дарим их друзьям. Так пусть же царь станет нашим другом, тогда сама собой отпадет причина для завоевания нами Азии, в противном же случае нас не остановит ничто и никто. Да, сейчас часть Антиоховых владений мы отдадим Эвмену, поскольку мы чтим тех, кто делает нам добро, и караем противников за причиненное зло, но, если царь последует моему совету, наступит день, когда мы стократ возместим Антиоху нынешние потери. Посмотрите на Филиппа! Семь лет назад он был нам заклятым врагом, а теперь мы уже позволили ему вернуть часть утерянного. Его успехи были бы еще грандиознее, если бы он стремился не в Грецию, а в глубь материка, дабы распростирать тело и дух цивилизации на дикий мир.
С последними словами Сципион сделал последние шаги на пути к лагерным воротам, и продолжение этого разговора стало невозможным.
На следующий день Гераклид объявил консулу, что доложит царю ответ римлян на его предложения, и отбыл в Сарды.
6
Будучи уверенными в том, что Антиох не подчинится им, не испытав предварительно судьбу в сражении, Сципионы оставили приморский лагерь и двинули войско в глубь Азии. Однако они несколько отклонились от прямого пути и завернули в Илион.
Прославленное место произвело сильное впечатление на римлян, но их чувства были чувствами посетителя заброшенного кладбища, где над прахом героев произрастают пыльные сорняки и копошатся муравьи вокруг своих убогих кучек. Нынешнее поселение, полугород-полудеревня, расположенное в окрестностях древней Трои, точное местоположение которой теперь уже никто не мог указать достоверно, мало походило на воспетый Гомером город, десять лет противостоявший объединенным силам всей Греции в войне за обладание торговыми путями в Черное море. Несмотря на попытки Александра и Лисимаха возродить былое величие Илиона, это место оставалось бесплодным, словно исчерпав свой жизненный потенциал в давние века. Город имел довольно большую территорию, протяженные стены, но половина его сооружений лежала в развалинах, свидетельствующих о набегах варваров, и даже заселенные дома выглядели почти как руины. Увы, с образованием греческих колоний на берегах Геллеспонта и расцветом малоазийских городов, таких, как Фокея, Пергам и Эфес, Троя оказалась в стороне от торговых маршрутов и утратила экономическое значение, а потому никакие искусственные меры по ее восстановлению, предпринимавшиеся честолюбивыми царями, желавшими связать собственные имена со знаменитым городом, не принесли успеха. Великая Троя продолжала свое существование только в стихах Гомера. Так миру была явлена истина, гласящая, что никакому царю не под силу состязаться с настоящим поэтом. По-прежнему грандиозной, как и тысячу лет назад во времена Приама, Гектора и Энея, выглядела только Ида – не столь уж высокая, но протяженная гора, изогнувшаяся дугой подобно гигантской сколопендре в попытке объять собою легендарную область. Именно здесь, на Иде, до недавних пор обитала Великая Матерь богов, ныне перекочевавшая в Рим и принятая на Тибре в образе черного космического камня Сципионом Назикой.
Римляне взирали на жалкое зрелище современной Трои с торжественно-скорбным видом налитых силой молодцов, вернувшихся из длительного путешествия по миру к родному очагу и могилам почивших в нищете и запустении родителей.
Сципионы всегда придавали большое значение идеологическому оформлению своих кампаний. На этот раз они решили как следует обыграть миф о происхождении римлян от троянца Энея, якобы бежавшего в Италию после гибели Отечества. Поэтому грозные пришельцы приветствовали полудиких жителей полуразрушенного Илиона как своих прародителей и потрясли их почтительностью и благородством. Погостив у нынешних троянцев и облагодетельствовав их дарами и вниманием, римляне тронулись дальше. Если прежде малоазийские греки встречали их хотя и радушно, но все же с некоторой опаской, то теперь население близлежащих городов и деревень в полном составе выходило навстречу войску и осыпало солдат цветами. Римляне ступали по Азии как долгожданные сыновья этой земли, прибывшие, чтобы очистить ее от сирийской тирании и принести свободу родственному народу. Так Сципионы превратились как бы в законных хозяев этой страны, а Антиох стал чувствовать себя здесь иноземцем.
Римляне стремительно приближались к Сардам. В дороге к ним присоединился Эвмен, который, возвращаясь с флотом из Геллеспонта, был остановлен на половине пути плохой погодой, однако бросил свои корабли и прибыл к консулу с небольшим отрядом, дабы в нужный момент продемонстрировать союзникам преданность и рвение. Но царь недолго находился в лагере, от него ожидали не столько прямой военной помощи, сколько услуг по снабжению армии. Поэтому вскоре Эвмен был снаряжен в экспедицию и отбыл в свое царство.
До этого дня дела римлян шли превосходно, но теперь случилось непредвиденное осложнение: вместе с обозом, отправленным за продовольствием, в Пергам уехал Публий Сципион Африканский, причем именно уехал, так как идти он не мог.
Увы, с пленением сына Сципиона, судьба не оставила дерзких попыток одолеть полководца нетрадиционными средствами и наслала на него болезнь.
После беседы с Гераклидом Сципион был уверен, что Антиох из гордости сдержит свое слово относительно его сына даже при самом неблагоприятном развитии событий для самого царя, поэтому настроение Публия резко улучшилось, вихрь непривычной радости подхватил его душу и понес к облакам, он пребывал в эйфории, весь сиял и искрился блестками счастья, как сверкает фонтан в беспокойном свете факелов. Это извержение эмоций водопадом обрушивалось на окружающих, обдавало их брызгами остроумия и заражало весельем. Чрезмерное оживление прославленного императора бодряще действовало на легатов, во всем римском штабе царило воодушевление, и поход против огромной державы воспринимался как прогулочная экскурсия в экзотические края.
Однако на местное население такое легкомысленное поведение римлян и особенно простодушная резвость Публия Африканского производили дурное впечатление. Азиаты, включая и здешних греков, привыкли зреть сатрапов в роскошных носилках или в раззолоченных каретах и почитали за счастье поймать ленивый презрительный взгляд богача, царя же тут боготворили так, что, произнося про себя его имя, падали ниц пред мысленным образом Великого. А все римляне ходили на собственных ногах, сами носили оружие, шутили и смеялись. Правда, перед консулом неизменно шествовали грозные ликторы, но во всем остальном он тоже выглядел человеком, а не властелином. Общительность же Сципиона Африканского, который, как все знали, является мозгом, душой и волей всего войска, казалась азиатам просто возмутительной. Его открытое широкое лицо никак не выдерживало, в их представлении, сравнения с надменным, величавым, словно окаменевшим в своей царственности ликом Антиоха. «Куда они идут, эти римляне, о чем они думают? – мысленно вопрошали вечно кому-нибудь подвластные азиаты. – Неужели эти простачки надеются уцелеть в схватке с богоравным Антиохом Великим?» Но римляне, встречая это пассивное осуждение сирийцев, лишь снисходительно посмеивались над их духовной закрепощенностью и рабской подавленностью чувства человеческого достоинства.
Несколько дней Сципион пребывал в лихорадочном возбуждении. Постепенно радость стала убывать, вытесняемая тревогой ощущения приближающейся беды, но лихорадка, наоборот, усиливалась и вскоре из радостной сделалась болезненной. Так, незаметно, он из состояния счастья перешел в состояние болезни. Врачи, как обычно, ничего определенного сказать не могли и прятали глупость под масками многозначительной важности, а Сципион почувствовал симптомы того недуга, который некогда надолго свалил его с ног в Испании. Это напугало Публия. Тогда он был так близок к смерти, что во всей стране начался разброд: иберы подняли восстание, а солдаты забыли дисциплину и превратились в грабителей – но молодой организм одолел болезнь. А как-то будет теперь, ведь силы его подточены годами? Если он сейчас умрет, Антиох может посчитать себя освобожденным от обязательств и оставить юного Сципиона у себя в заложниках!
С каждым часом здоровье Публия ухудшалось, и в конце концов консул внял доводам Эвмена, обещавшего больному помощь лучших во всей Азии пергамских лекарей, и доверил ему брата. Так Сципион был доставлен сначала в Пергам, а затем в Элею. Но и высоколобые густобровые знахари Эвмена ничего не смогли сделать: болезнь прогрессировала прямо пропорционально количеству принимаемых снадобий.
Публий не знал, как бороться с этой новой, внезапно нагрянувшей опасностью, против которой оказались бесполезными его таланты полководца и политика. Бессилие сковывает разум, и тот камнем идет ко дну омута отчаянья, вслед за чем ослепленную душу поглощает мрачная бездна трансцендентности. Сципион вновь стал думать о судьбе, ему мерещились ларвы, лемуры и прочая нечисть, он начал бояться снов, раскрашенных болезнью во все краски ужаса. Ему казалось, будто им правят злые чары, будто непостижимая чуждая воля, захватив власть над ним, спрессовывая время, разгоняет его до умопомрачительной скорости и мчит в пропасть. Его страшила смерть и одновременно ужасала жизнь, над которой отныне он не властен.
Вдруг однажды в промежутке между двумя приступами горячечного бреда Публий сообразил, что находится как раз в таком состоянии душевного дискомфорта человека, затравленного судьбою, каждый миг ожидающего, что на него обрушится лавина беспричинного, а потому неправедного гнева богов, в которое он старался привести Антиоха, выстраивая стратегию азиатской кампании именно по принципу все сметающей на своем пути лавины. Уловив это сходство, Сципион поразился низкой циничности судьбы и ожесточился до такой степени, что изгнал все страхи, и думал лишь о том, как ему достойно умереть, не выказав слабости пред всемогущим космическим злом. Сжав зубы, Сципион глотал стоны от нестерпимой жаркой боли в голове и разрывающего душу отчаянья.
Он не знал, сколько длилась эта неравная борьба, поскольку пребывал в состоянии вязкого безвременья, но внезапно одно мгновение отпечаталось в его мозгу образом сына. Ему показалось, будто встреча произошла где-то глубоко в подземелье. Поддавшись первому порыву, он жалобно попросил своего маленького Публия, вдруг представившегося ему большим, подать руку и вытащить его из этого сырого подвала, но тут же испугался, подумав, что они оба оказались в царстве Орка, потому как увидеться на земле никак не могли, и смолк с застывшим от ужаса лицом. Однако юноша в самом деле протянул отцу правую руку и, поддерживая левой за плечо, поднял его и посадил на ложе.
Когда Сципион Африканский покинул лагерь и отбыл в Элею, Антиох решил, что либо он сознательно самоустранился от войны в ответ на обещание возвратить сына, либо в самом деле серьезно болен. По мнению царя, и в том, и в другом варианте ему следовало поскорее выполнить данное римлянину слово, в первом случае – в качестве оплаты бездействия опаснейшего из врагов, а во втором – для того, чтобы эффектным образом продемонстрировать миру свое благородство, оказывая милость сопернику в трудный для него час, тем более, что вполне вероятная смерть Сципиона от болезни вообще лишила бы его такой возможности. О главной же причине, побуждающей его к доброму поступку, он старался не думать. Однако когда Антиох, вежливо простившись с римским юношей, отослал его в сопровождении надежного конвоя к отцу, то в первую очередь испытал не щекотливый зуд тщеславия, предвкушающего грядущие хвалы, и не удовлетворение от сознания хорошо исполненной политической сделки, а чувство облегчения и просветления в душе. Могильная плита, придавившая прах его собственного сына, тяжким грузом легла и на него самого, вместе с телом убитого сына оказалась погребенной душа убийцы-отца. И вот теперь каменная глыба надгробия словно стронулась с места и открыла щель, через которую Антиох увидел синее небо. Помимо прочего, образ Сципиона был связан с отцовскими страданиями Антиоха и временной зависимостью. Именно в момент совершения преступления римлянин находился рядом с царем, и беседы с ним, в которых Антиох в абстрактной форме поделился своим горем, помогли ему пережить страшные дни. Поэтому царь испытывал искреннюю признательность к Сципиону. Все это привело к тому, что Антиох исполнил добрый поступок с максимально возможными для царя добрыми чувствами.
Присутствие сына сразу вернуло Сципиону сознание, овладев же разумом, он постепенно стал овладевать и телом. Жар уменьшился, и болезнь начала отступать. Мысль, что небеса не отвернулись от него окончательно, и что главный враг на данный момент – обыкновенный телесный недуг, а не призрак потустороннего зла, прибавила Публию сил. Он захотел жить, и жизнь снова приняла отвергнутого в свое лоно.
Правда, встреча с сыном принесла ему не только радость, но и огорчения. Упав с коня, младший Сципион ушиб спину, потому и не смог оказать сопротивление нападавшим. Боль в позвоночнике через несколько дней почти утихла, но и без того слабый организм пришел в расстройство. Однако еще более глубоким оказался моральный надлом, произошедший в юной душе, с детства истерзанной страданиями. Мальчик узнал жизнь одновременно с болезнью, все радости существования, на которые обычный человек получает право вместе с рождением, были для него закрыты, каждый шаг на жизненном пути давался ему с великим трудом. Ценою запредельных физических и, в первую очередь, душевных усилий он выжил, он сумел вытребовать у природы все то, в чем первоначально она ему отказала, и вот, когда настала пора пожать первые плоды, его постигла катастрофа. Судьба грубо ударила вечного неудачника и разом отбросила его к исходной точке существа, способного лишь смотреть на жизнь со стороны, но не участвовать в ней самому. Публий считал себя опозоренным навсегда, так как вернуть честь можно только совершив подвиг, на который у него, увы, не было сил. Но еще более страшным итогом этой неудачи стало парализующее волю убеждение, что злой рок никогда не выпустит его из своих оков, и ему никогда не быть достойным своего имени.
Отцу юноша сказал, что собирался покончить с жизнью по примеру стоиков, дабы не унижать собою род Сципионов, хотя и ничуть не сомневался в том, что отец найдет способ вызволить его из плена, однако в критический момент ему почудился голос небес, приказавший жить и терпеть собственное ничтожество ради некой высшей цели.
«С этого часа я твердо знал, что мне предначертано совершить важный поступок, который оправдает мое существование, и потому я не волен распоряжаться своей жизнью, ибо она принадлежит этому самому поступку», – закончил объяснение Публий с твердостью в голосе, но безо всякого оптимизма.
Сципион не знал, как утешить юношу, но надеялся, что со временем все уладится надлежащим образом. Поэтому он большее значение придавал факту спасения сына, чем его тяжелому душевному состоянию.
Радость Сципиона была столь велика, что он даже не особенно тяготился чувством долга перед царем. Публий привык с лихвой одаривать всех своих дарителей, щедростью превосходить самых щедрых, а великодушием затмевать самых великодушных. Но в отношениях с Антиохом он пока был в проигрыше, однако твердо рассчитывал отблагодарить его в будущем, не подозревая, что бездна недвижной вечности уже раскрыла над их головами смертоносный зев, и ни ему не хватит времени, чтобы расплатиться с царем, ни царю, чтобы получить причитающееся.
Царским послам, доставившим молодого человека в Элею, Сципион велел передать царю еще один совет: не вступать в решающее сражение, пока он, Публий Африканский, не вернется в строй. Этим Сципион пока и ограничился, надеясь лично держать ситуацию под контролем, чтобы не допустить катастрофического для царя и не требуемого для римлян развития событий, по возможности, смягчить его поражение, дабы уже сейчас заложить фундамент будущего союза с Сирией.
7
Луций Сципион в глубине души был рад отсутствию брата, поскольку теперь он, наконец-то, вышел на первый план в войске и не только формально, но и по существу стал хозяином положения. Отправляясь с Эвменом, Публий старался подбодрить товарищей и в шутливом тоне высказал несколько серьезных пожеланий. В частности, на свое место первого легата в штабе и командующего правым флангом он рекомендовал Гнея Домиция Агенобарба, подчеркнув, что в данной ситуации тот справится с этой ролью ничуть не хуже его, Сципиона Африканского. «Теперь я вам не нужен, коль скоро в ставке Антиоха нет Ганнибала», – превозмогая слабость и боль, с улыбкой говорил он. Консул незамедлительно приблизил к себе Домиция, а также выполнил и все другие указания Публия. Такое соблюдение преемственности еще более утвердило всеобщее доверие к Луцию, который действовал как бы от имени всех Сципионов. Укрепив свой авторитет, Луций приступил к завершающей стадии кампании и решительно двинул войско к Сардам.
Антиох сначала выступил навстречу врагу, но, получив совет Публия Африканского воздержаться от форсирования событий, отошел к Магнесии у Сипила. Там он расположился на склоне горного кряжа, имея перед собою реку Фригий, и возвел мощный укрепленный лагерь.
В несколько переходов достигнув Фригия, консул остановился в замешательстве. Переправу через реку охраняла тысяча вражеских всадников, а из близлежащего сирийского стана в самый неподходящий момент могли подоспеть и другие подразделения неприятеля. Вступать в битву при столь неблагоприятных обстоятельствах было опасно даже для римлян.
Разбив лагерь, консул два дня имитировал колебания, исподволь возбуждая воинственность солдат. Наконец, когда воины пришли в крайнее нетерпение, а видавшие виды ветераны африканской кампании открыто стали требовать бросить их в бой, во всеуслышанье заявляя, что перед ними не войско, а стадо убойного скота, Луций собрал штаб для обсуждения плана наступления.
Той же ночью римляне малыми силами завязали стычку с вражеским отрядом у реки и, играя в поддавки на нумидийский манер, втянули их в сражение, в ходе которого подключили резервы и полностью уничтожили врага. После этого все войско шагнуло в реку и к утру благополучно завершило переправу.
Антиох, введенный в заблуждение сведениями о первоначальном успехе его всадников в схватке с римским дозором, разобрался в обстановке лишь тогда, когда увидел противника на своем берегу. Посланные царем отряды конницы и легкой пехоты не смогли сбросить римлян обратно в реку и даже не помешали им возвести лагерь.
На следующий день консул в боевом порядке вывел легионы на середину равнины, недвусмысленно заявляя о своем намерении немедленно разделаться с царем. Антиох отсиживался за мощными укреплениями, состоящими из вала, глубокого рва и стены, с которой можно было легко истреблять врага при попытке форсировать ров. Штурмовать такую твердыню, да еще расположенную на холме, значило потерять половину войска, потому сирийцы чувствовали себя здесь спокойно. Однако, когда римляне день за днем стали повторять свой угрожающий маневр, а затем еще и приблизили лагерь, оставив между собою и противником только поле боя, сирийцы заволновались всерьез. Лучшей почвой для страха является бездействие. Сомнения постепенно переросли в неуверенность, которая тут же уступила место панике. Азиаты стали ссориться друг с другом, каждый род войск приписывал себе главную роль в битвах и хаял все остальные, одни племена подозревали другие в недобрых помыслах, измене, а все вместе они выражали недоверие командованию, но, конечно же, не царю, ибо в монархиях такое не принято, а советникам царя, которые якобы по глупости и низости мешают великому, гениальному самодержцу рулить прямиком к победе.
Наблюдая, как падает боевой дух армии, Антиох во второй раз изменил стратегию на противоположную, что само по себе уже является ошибкой и опасно для войска так же, как крутой разворот – для корабля во время шторма. Кроме объективных обстоятельств, его подхлестнуло к этому шагу царское тщеславие, не позволившее ему усидеть на месте при виде вызывающего поведения в два раза численно меньшего противника. Итак, своевременно не приняв бой, Антиох не смог до конца выдержать и роль обороняющегося. В итоге он вывел на генеральное сражение деморализованное войско. Солдаты полагали эту меру вынужденной и спускались на равнину с чувством обреченности.
Тем не менее, Антиох все же имел немалые основания надеяться на успех. Его армия насчитывала свыше семидесяти тысяч воинов, в том числе, двенадцать тысяч всадников. Значительную часть конницы составляли с ног до головы закованные в броню катафракты, даже лошади которых были защищены металлическими панцирями. Пехота включала в себя подразделения всех мыслимых типов и самых разнообразных родов вооружения от фалангитов с устрашающими сариссами до пелтастов и критских лучников. Кроме того, царь располагал серпоносными колесницами, пятьюдесятью четырьмя слонами и экзотическим отрядом арабских всадников, восседавших на верблюдах.
Консул мог противопоставить этому огромному пестрому воинству чуть более десяти тысяч римлян-легионеров, примерно столько же латинов, вооруженных так же, как и римляне, две-три тысячи италийской конницы, восемьсот всадников Эвмена, несколько тысяч легкой, в основном, греческой и пергамской пехоты, две тысячи македонских и фракийских добровольцев, присоединившихся к римлянам по пути их следования к Геллеспонту, и шестнадцать слонов, присланных Масиниссой.
По согласованию с Эвменом, который, отдав в Пергаме необходимые распоряжения относительно снабжения римлян провиантом, молниеносно возвратился в лагерь, консул сделал ударным правый фланг своего войска, где сосредоточил большую часть легковооруженных и почти всю конницу. Легионная пехота была построена обычным порядком, и от нее, по замыслу командующего, не требовалось ничего сверхъестественного, левое крыло располагалось у реки, крутые берега которой представлялись надежным прикрытием, потому здесь почти не было вспомогательных войск и конницы. Слоны находились в резерве в тылу войска.
Антиох впереди всего строя разместил колесницы вперемежку с арабами, конница густыми скоплениями чернела на обоих флангах, в самом центре глубоким построением в тридцать две шеренги стояла фаланга с вкрапленными в нее слонами, справа и слева от нее толпились разноязыкие орды, согнанные сюда со всей Азии.
Царь рассчитывал забросать римлян стрелами, расшатать их дружный строй колесницами, слонами, верблюдами и прочей нечистью, после чего пробить вражескую фалангу у реки и, используя численное превосходство, обойти ее с другого края, а затем взять противника в кольцо и уничтожить. Исполнение завершающей фазы возлагалось на фалангу, организованную по образцу македонской, которую Антиох, кроме всего прочего, обучил сражаться совместно со слонами. Такое взаимодействие было особенно выгодно, так как стрелки, размещенные в башнях на спинах грозных животных, могли сверху поражать неприятеля, нападающего на фалангу, а слоны при этом были защищены густым строем, и враг почти не имел возможности нанести им ущерб, поскольку метательные снаряды, пущенные издали, отражала броня, покрывавшая наиболее уязвимые места животных. Однако для реализации совместного маневра столь различными родами войск требовалась отменная выучка и людей, и слонов, потому как последствия малейшей рассогласованности в действиях были чреваты катастрофой.
Пока азиаты в утреннем сумраке выстраивали свои гигантские полчища, с окружающих холмов опустились облака и покрыли долину густым туманом. Резкое ухудшение видимости, как и всякое осложнение обстановки, в первую очередь отразилось на более громоздком и менее обученном, то есть сирийском войске. Между подразделениями образовался информационный разрыв, что привело к потере слаженности в действиях и чувству неуверенности, которое стало основой для последующей обвальной эпидемии страха. Но на начальном этапе битвы гораздо заметнее сказались другие последствия прихоти погоды: туман был столь плотным, что промочил и людей, и их снаряжение не хуже настоящего дождя, луки азиатов пришли в негодность, тогда как основное вооружение римлян – мечи и копья – не пострадали. Ввиду этого первый натиск сирийцев получился ослабленным. Римляне же, напротив, отлично исполнили свой маневр и захватили инициативу.
Ведущую роль в этот период исполнял царь Эвмен, который вместе с вверенными ему подвижными частями конницы и легкой пехоты на правом фланге без предварительной разведки разом обрушился на передовой эшелон врага, состоявший из колесниц, причем его воины старались поражать не возничих или стрелков, а лошадей и, пугая животных, создавали всеобщую сумятицу в рядах противника. Одновременно все римское войско издало боевой клич, что также произвело сильное впечатление на коней. В результате этой психической атаки лошади, по мере возможности, бросились врассыпную, и запряженные четверней колесницы, совершая замысловатые зигзаги, рывками покатились в разные стороны. Они сталкивались друг с другом, наезжали на своих легковооруженных, косили их серпами, пронзали металлическими клыками, торчащими из этих машин смерти, и лишь изредка ранили кое-кого из римлян.
Обработав свой фланг, Эвмен сместился к центру и произвел там аналогичный фурор. Вскоре колесницы, увлекая за собою верблюдов и вспомогательные войска, бежали с поля боя через фланги, во многих местах поранив строй своей тяжелой пехоты.
Развивая успех, римская конница правого крыла стремительно атаковала катафрактов. Оставшись без поддержки легковооруженных, бронированные всадники, громыхающие на бронированных конях, не смогли противостоять маневренной кавалерии римлян и со страшным лязгом обратились в бегство. Римляне со свойственной им гибкостью ума быстро сообразили, что не стоит тыкать копьями в сплошное железо, и потому просто сталкивали неповоротливых катафрактов на землю, откуда те уже не могли подняться без посторонней помощи, находясь как бы в кандалах собственных доспехов.
Разогнав прочий разноплеменный сброд, римляне оголили вражескую фалангу и напали на нее с фланга и тыла. Страдая от тяжести своего оружия, фалангиты обливались потом в напрасных попытках перестроиться и принять боевой порядок на атакованных участках. Быстрыми наскоками легкая греко-италийская пехота совместно с конницей теребила грозный строй, с каждым разом внося в него все больший хаос. Наконец такой ход битвы возмутил слонов, встроенных в фалангу, и, презрев крикливых вожаков, они принялись топтать сариссоносцев, стараясь выбраться на волю из бестолково мечущейся людской толпы.
Когда такими действиями Эвменовы удальцы окончательно порушили порядок в фаланге, в дело вступила тяжелая легионная пехота и совершенно смяла врага.
Не подозревая, благодаря туману, обо всех этих прискорбных событиях, Антиох громил ослабленный левый фланг римлян. Присутствие царя вдохновляло сирийцев, и те быстрее, чем рассчитывал консул, опрокинули латинян, бросившихся спасаться от катафрактов и прочих экзотических убийц к своему лагерю. Но там с лучшей стороны проявил себя военный трибун Марк Эмилий Лепид. Он командовал двумя тысячами вспомогательных войск, оставленными для охраны лагеря. С ними Эмилий преградил путь отступающим. Выиграв бой с соратниками, он еще раз обратил их вспять и возглавил сопротивление полчищам Антиоха. К этому моменту на помощь подоспела конница во главе с Атталом – братом Эвмена, и наступление сирийцев затормозилось. Антиох получил время оценить ситуацию, и тут он обнаружил, что его войско разбито на противоположном крыле и в центре. Тогда царь вспомнил о несправедливости судьбы, преследующей его неудачами, обиделся на богов и, все бросив, бежал с поля боя.
В последующие часы сражение превратилось в бойню, в которой было истреблено около пятидесяти тысяч азиатов. В тот же день римляне овладели вражеским лагерем и сделали свою победу абсолютной. Их потери составили несколько сотен человек.
Забыв царскую изнеженность, Антиох скакал всю ночь, словно какой-нибудь низкородный гонец, и незадолго до рассвета прибыл в Сарды. Там, укрывшись за мощными стенами, царь нашел некоторое успокоение на мягком троне лидийских сатрапов, но, к сожалению, ненадолго. Утром в город с шумом влетела Виктория, ставшая верной спутницей римского оружия, и ослепила жителей серебристым сияньем своих крыл. Из глаз горожан посыпались искры, а их мозги перевернулись кверху дном, и, еще вчера почитая Антиоха величайшим из людей, сегодня они уже не могли назвать никого презреннее, чем он. Увы, тот, кто добывает поклоненье блеском внешних атрибутов власти, мгновенно лишается всякого уважения с утратой этого блеска.
Бормоча отборные антикомплименты по адресу лидийцев, впрочем, негромко, дабы его слышала только свита, по необходимости сохранявшая верность, Антиох снова оседлал коня и продлил свои дорожные страдания еще на несколько дней, пока не достиг Апамеи. Этот город располагался на границе территории, избранной римлянами, и глубинных владений царя. Серединное положение Апамеи диктовало ее населению соответствующую географии идеологию, и оно сохраняло нейтралитет. Поэтому там Антиох Великий сумел получить приют.








