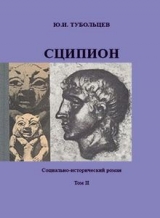
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 43 страниц)
14
Трясясь в повозке, Сципион угрюмо озирался по сторонам, но ничего не видел вокруг, поскольку его взгляд был направлен внутрь. Он вспоминал. Перед мысленным взором вновь проползала унылая колонна пленных пунийцев, которых он некогда вел в триумфальной процессии. Потом в стране прошлого, называемой памятью, проходили тысячи и тысячи других несчастных побежденных, вводимых в Рим многочисленными триумфаторами, каковые своим скорбным видом, неизбывным горем создавали разящий контраст облику победоносных полководцев, мраком своего отчаянья оттеняли блеск торжества римлян. Каждый шаг по мостовой этого города накладывал на них особую печать и делал их все менее похожими на самих себя, ибо с каждым шагом они все глубже погружались в бездну рабства. Публий пытливо всматривался в лица этих жалких существ, когда-то бывших людьми, и старался угадать ту беспощадную силу, которая заставляла их терпеть позор, тешить своими страданиями победителей, осквернять собственное достоинство, топтать душу. Его всегда удивляла их способность выдерживать этот марш, оскорбления, плевки, безнадежность будущего, доходить до Капитолия, смотреть на возвышающегося над их головами триумфатора, слышать рукоплескания врагов своему бесчестию, затем дожидаться смерти в тюрьме или торгов на невольничьем рынке. Он никогда не понимал способности людей к беспредельному паденью… А теперь сам уезжал из Рима, по существу, как изгнанник, и тоже не понимал, какими происками судьбы продолжал дышать, чувствовать и даже мыслить, отчего глаза его не вывалились из орбит при виде неблагодарной толпы, ноги не отнялись, когда он совершал прощальный круг по форуму, мозг не воспламенился от сознания чудовищной обиды.
Публий сделал краткую остановку у родовой гробницы Сципионов, чтобы проститься с прахом предков, а затем его кибитка снова загромыхала деревянными колесами по видавшим виды камням знаменитой трассы. Оставив позади могилы родных, Сципион окончательно расстался с прежней жизнью и целиком погрузился в чуждый мир изгнания.
Тем временем слева проплывала величественная, на взгляд любого римлянина, Альбанская гора, где некогда располагалась Альба-Лонга – прародина римлян. Это священное место своим видом неоднократно вдохновляло Сципиона на подвиги во имя Отечества, когда, отправляясь в дальние походы, он проходил здесь со своими легионами. Но сейчас Публий ничуть не был тронут: насыщенный вековою славой пейзаж окрестностей великого города казался ему пустынным, как склон вулкана, покрытый коркой застывшей лавы, похоронившей под собою все живое.
Когда у человека сгорает дом, он не может восторгаться благоухающей зеленью природы, окружающей пепелище, когда человек теряет Родину, у него пропадает вкус к путешествиям. Он лишается системы координат, утрачивает шкалу ценностей и не способен адекватно воспринимать мир.
Чем дальше отъезжал Сципион от Рима, тем более удалялся от жизни. Казалось, будто эта, столь знакомая дорога теперь вдруг провалилась под землю и ведет его в Тартар, или еще того хуже: он очутился на другой планете, где есть декорации, но отсутствует реальность, где обитает Смерть, грубо пародирующая Жизнь.
Эмилия непрерывно болтала всякий вздор о том, как отлично они устроятся в Литерне. Ее словоохотливость питалась предвкушением грядущего довольства и комфорта, царской роскоши без царских забот, тишины и покоя вдали от суеты, зависти и злобы прыщеватых обывателей.
Публий безропотно терпел этот женский треск. Он не перебивал Эмилию, понимая, что словесной бутафорией она старается прикрыть тоску, виновником которой так или иначе был он сам. А когда становилось совсем невмоготу, Публий объявлял, что у него затекли ноги, и какое-то время шел впереди коляски. Тогда его уши отдыхали от бичей глупых фраз, но зато глаза страдали обозрением италийских просторов. Для счастливого человека весь мир наполнен радостью, для несчастного – затоплен мутными волнами уныния. Чем живописнее были окружающие холмы, чем шире были раскинувшиеся вдоль дороги равнины, тем больше они вмещали скорби. Он с бессмысленной надеждой всматривался в линию горизонта, мечтая о пределе земного круга. Однако достичь его можно только в смерти, Публий же твердо решил выжить назло судьбе.
Так, пребывая вне времени, Сципион незаметно достиг Литерна, который показался ему более зловещим, нежели когда-то Карфаген. Без остановки он проследовал дальше в свое имение и немного успокоился, лишь когда запер за собою дубовые ворота усадьбы.
Отныне высокий забор и эти ворота отделили его от неблагодарного мира, и их крепость служила ему гарантом возможности спастись от людского предательства и выработать образ дальнейшего существования. Но, увы, защита, обеспечиваемая забором, была всего лишь защитой тюремных стен, не способных укрыть жертву от палача, и следом за Публием, прячась за его спиною, к нему в убежище проскользнуло оскорбленье, каковое незамедлительно слоем грязи легло на дом и сад, атрий и хозяйственные помещения, на стол и ложе, засорило воздух и куполом пыльного облака заслонило небеса. Все здесь сразу стало ему противно. Его отвращение было столь сильным, что он ощущал не только моральный, но даже физический дискомфорт. Глядя по сторонам, Публий испытывал чувство, будто здесь только что диким табуном протопала злобная толпа римской черни и запятнала все вокруг навозными отпечатками нечищеных башмаков.
Это ощущение было таким навязчивым и неотступным, что Сципион велел тщательно вымыть и выскрести дом и вообще всю территорию усадьбы, после чего запретил впускать во двор кого бы то ни было постороннего, будь то родственник, бывший друг, почтовый курьер или торговец. Сам он не выходил за ворота, ограничиваясь ежедневными прогулками вдоль забора своих владений, а рабов, при возвращении из внешнего мира, заставлял мыть ноги, чистить обувь и произносить покаянную молитву, чтобы не заносить к нему мирскую грязь. Сципион сам понимал смехотворность этих очистительных мер, но его брезгливость к людям превосходила разум, и он старательно следил за соблюдением заведенного обряда, жестоко наказывая виновных в его нарушении.
У Эмилии была другая страсть, помогавшая ей коротать время. Она благоустраивалась. Загромоздив все помещения усадьбы хламом атрибутов роскоши, вывезенных из Рима, великосветская дама этим не удовольствовалась и затеяла грандиозную реконструкцию деревенского дома, дабы превратить его во дворец. Она наняла архитекторов, подрядила всевозможных дельцов и дни напролет проводила в жарких спорах с этой холодной публикой.
При всем сострадании к жене Публий, тем не менее, как мог, противился проникновению в дом ее соратников по тщеславной суете. Однако ему не удалось пресечь болезненную предприимчивость Эмилии, ибо очень трудно излечить людей, заразившихся чесоткой богатства, которая заставляет мельтешить своих жертв в угаре псевдодеятельности до скончания их дней: одних – в стремлении избавиться от непомерного богатства, реализовать его хоть в сколько-нибудь пристойной форме, а других – в жажде его обрести. Итог же и первого, и второго процессов всегда один – канувшая в небытие жизнь.
15
Сейчас, смотря на происшедшие события с некоторого удаления как пространственного, так и временного, Публий поражался чудовищности нанесенной ему обиды. Оскорбленье, которое первоначально встало перед ним стеною, отгородившей его от мира, теперь, при взгляде с большего расстояния, представало взору как гора, не только закрывшая собою горизонт, но и заслонившая небеса. Оно было столь огромным, что не вмещалось в человеческом восприятии, и потому он был обречен познавать его частями каждый день и всякий миг, и каждый день душа принимала новую дозу этой отравы.
Где бы он ни находился и в каком бы состоянии ни пребывал, воспаленный обидою мозг все время пятнал взор овалами лиц бесчисленных катонов, петилиев, теренциев и их бездумных приспешников. Сотни и тысячи искаженных злобой лиц, беснуясь в хороводе исступленной ненависти толпы, сливались в единый омерзительный лик оскорбленья.
Нет ничего более пагубного для человеческой души, чем несправедливость – порожденье деградировавшего общества, когда духовная тупость народа вынуждает его исполнять роль дубины в руках подлецов. И оскорбленье – крокодилова пасть, которой несправедливость кусает честных людей. Причем, оскорбленье – хищник, пожирающий именно лучших представителей рода человеческого. Негодяй не доступен оскорбленью, поскольку это – прежде всего незаслуженное наказание, в том его принцип, в неправедности его суть. Бессильно оскорбленье и против болвана, как бессильны клыки самого свирепого хищника против каменной глыбы или бревна. Честность и великая душа – вот лакомая добыча для несправедливости.
Будучи квинтэссенцией подлости, несправедливость не только люто ненавидит доблесть, но и, сознавая свое конечное поражение, тщится найти утешенье в особой циничности ее поруганья. Ей мало уничтожить того или иного субъекта доблести, ей важно надругаться, осквернить его. Она – и палач по призванию, и, являясь антиподом человечности, вожделеет к казни. Атакуя жертву, несправедливость берет ее в осаду и ищет Ганнибаловы способы проникновенья в центр цитадели. Реализуясь в форме оскорбленья, она окружает ее частоколом злобы, ядом пропитывает все предметы, удушливой отравой заражает воздух, пачкает само время, превращая этот прозрачный поток в струю грязи, и, наконец, пробирается вовнутрь, гложет сердце, высасывает мозг и клубком червей гноит душу. Такою тотальной, изнурительной осадой оскорбленье уничтожает веру в людей и, следовательно, убивает любовь к жизни. Пораженный этим оружием человек как бы носит в себе мертвеца. Труп же любви – ненависть. Она разлагает душу и лишает последнего прибежища в беде. Человек умирает изнутри, он задыхается от трупного смрада, источаемого глубинами его существа, который ударяет в голову и захлестывает разум волною безумия.
Это состояние столь же тяжко, сколь и унизительно, так как из него нет выхода. Кому противостоит нормальный враг, тот может бороться и, даже будучи побежден физически, сохраняет духовную опору в образе Отечества, в лице своих единомышленников, которые, как он знает, обязательно продолжат борьбу. Но оскорбленье лишает как возможности сопротивления, так и надежды, одолеть его может только справедливость, которая, однако, не достижима в угасающем обществе.
Сципион нигде не находил себе места, его повсюду преследовало оскорбленье. Спасаясь от погони зубастого чудовища, он метался по дому, саду, пробовал заниматься хозяйственными или интеллектуальными делами. Увы, все было тщетно: невидимый, но вездесущий хищник не отставал ни на шаг, преодолевая все пространственные преграды, и проникал в любое духовное состояние. Публий постоянно ощущал себя с ног до головы облитым нечистотами, зловонный яд которых зудящей болью въедался в тело. Потому он то и дело порывался содрать с себя кожу, чтобы выбросить ее вместе со всей налипшей грязью, и, если бы это действительно сулило освобожденье от оскорбления, он так бы и сделал.
Сципион ненавидел все и всех вокруг и избегал общества даже членов своей семьи. Он презирал Эмилию за ее натужную возню по обустройству быта, за ее стремленье в мертвой роскоши вещей найти замену богатству живого общения; он сторонился сыновей, поскольку они требовали его доброго отношения, на которое у него уже не осталось духовных сил; и даже жизнерадостный вид дочерей, от избытка энергии и просыпающейся женственности поминутно прыскающих смехом и «строящих глазки» деревьям, облакам и солнцу за неимением иных ценителей их очарованья, не умилял его. Зато он на каждом шагу придирался к рабам и вымещал на них накопившийся гнев. Сам человеческий облик был теперь невыносим его взору. Более того, даже копошившиеся в пыли куры раздражали Публия, поскольку тоже были двуногими существами, хотя и в перьях, и он гонял по всему двору горластого назойливого петуха, который, проворно ретируясь перед знаменитым полководцем где-нибудь на пустырях, возле курятника, на виду у своих подруг, преображался, становился смелее Ганнибала и, выпятив грудь, громко кричал и хлопал крыльями, вызывая Сципиона на бой. Публий желчно смеялся над собою и отходил в сторону, но через несколько мгновений снова терял терпение и с постыдным рвением метал камни в краснобородого гладиатора или шел врукопашную и давал врагу такого пинка, что заставлял того вспоминать о своем птичьем происхождении и перемахивать через высокий забор.
Так, понукая рабов, враждуя с петухом, да еще со строптивым круторогим бараном, который узрел в Сципионе соперника в борьбе за место вожака овечьего стада и оттого сделался воинственным, как галл, Публий проводил дни литернского заточенья. Он, привыкший жить заботами целой цивилизации, вершить судьбы могучих государств, ныне был напрочь лишен возможности действовать. У него было отобрано истинно человеческое оружие против тоски и бед текущего периода, благодаря которому люди своими трудами перешагивают время и простирают жизнь в будущее. Изъяв Сципиона из сферы его деятельности, общество разом низвергло великого человека чуть ли не до положения животного.
Публий задыхался в тюремной камере вынужденного покоя и все более терял собственное лицо. Приступы гнева, который он обрушивал на слуг, жену или домашний скот, стали почти ежедневными. Но если Эмилия давала ему энергичный отпор и даже петух храбро защищался в меру своих куриных сил, то рабы безропотно сносили любые упреки и поношенья независимо от того были те справедливы или нет. Они молчаливо терпели униженья и побои и, наверное, столь же послушно исполнили бы приказ хозяина умереть, как исполняли все прочие его прихоти. Эти люди, многие из которых были сильны телом и в иных условиях вполне успешно могли бы оказать сопротивление Публию, не смели не только противиться ему, но даже молить о пощаде или взывать к справедливости. Каждый раз при виде их чудовищной покорности Сципион приходил в замешательство, прежде чем свершить над ними господскую волю, и наконец он ясно, всем существом своим понял, что они – рабы, и осознал, что значит быть рабом. А ведь далеко не все они заслужили такую участь, не все виновны в постигшем их несчастии. Ведь и сам Публий при всей своей доблести, воле и талантах оказался в положении бесправного изгнанника, от которого лишь один шаг до рабства. Публий понял, что они терпят его неправедный гнев не потому, что будто бы являются низшими существами в сравнении с ним, а только потому, что они еще более несчастны, чем он. Обижать раба хуже, чем бить лежачего. Сципиону открылась еще одна бездна общественной несправедливости, в которую прежде он не заглядывал. Он устыдился собственного поведения и с тех пор стал вести себя сдержаннее по отношению к рабам, что, однако, сразу усугубило его душевные страдания, поскольку оказался перекрытым последний шлюз, через который он избавлялся от чрезмерной отрицательной энергии.
Прошло всего несколько месяцев, как Сципион покинул Рим, а его силы в борьбе с тягучим временем, опустошенным безнадежностью и запачканным оскорбленьем, иссякли, терпение кончилось. Он лихорадочно перебирал в уме доступные в его положении развлечения, как то: охота в горах, боевые упражнения с копьем и мечом, любовные приключения с рабынями, чревоугодие, сельскохозяйственные страсти, в кои претворяется неуемная алчность некоторых владельцев латифундий, – и все их с негодованием отвергал. Публий даже подумывал о том, чтобы заразиться какой-либо тяжелой болезнью, дабы недуг вместе с его телом сковал моральные страдания и физической болью отвлек внимание от нравственной пытки бесцельного существования, однако это было бы бегством от трудностей, ничуть не лучшим, чем самоубийство, которое он отверг, уповая на свою духовную силу. Именно за счет воли он должен одолеть неблагодарность сограждан и не прибегать при этом к каким бы то ни было ухищрениям и внешним факторам. Подкрепленный таким осознанием долга на остаток своей жизни, он вновь и вновь упрямо встречал рассвет за рассветом, таращил ослепшие от отсутствия интереса глаза на благоухающую летними красками природу и молился о приближении ночи, тогда как с наступлением тьмы проклинал ночь и жаждал скорейшего наступления ненавистного дня. Он, мучительно тужась, толкал груз времени к концу собственной жизни, так же, как Сизиф толкал камень к вершине горы, и с тем же успехом. На пути этого неблагодарного восхождения он периодически срывался и скатывался вниз, в глубокое ущелье черной депрессии. Там его душа несколько суток корчилась от боли безысходности жизни, но каждый раз обязательно распрямлялась, поднималась во весь рост, и он вновь начинал карабкаться по бесконечно длинному склону своего могильного холма.
В один из периодов упадка духа к Сципиону подошел старший сын и попросил ознакомиться с его новой работой. Оказывается, он оставил историю Пунийских войн и обратился к жизнеописаниям. Это не понравилось отцу, показалось ему свидетельством отсутствия целеустремленности Публия и его недобросовестности в труде, потому он резко раскритиковал такой поворот в тематике и не удостоил новое произведение внимания. Но через некоторое время младший Публий снова напомнил старшему о плодах своего вдохновения, заявив при этом, что он тщательно переработал сочинение и приблизил его к желанному идеалу, заложенному в душе каждого художника. Отец поморщился и нехотя взял свиток, однако не спешил с его прочтением. Он опасался новых разочарований, а кроме того, испытывал отвращение ко всяким теоретическим трудам вообще, поскольку потерял смысл собственной работы.
Когда-то Сципион говорил друзьям, что на досуге у него особенно много дел, имея в виду писательскую деятельность. Он много жил и много размышлял, ему было что рассказать людям, но, разочаровавшись в перспективах человечества, он не захотел оставлять на поруганье презренной толпе результаты изысканий своего ума и полетов души и уничтожил все написанные им свитки. «Те, кто читает Катона, не достойны читать Сципиона», – произнес он, глядя на пылающий в очаге папирус. С тех пор бывали моменты, когда Публий раскаивался в содеянном, но тут же гнал все сомнения прочь, считая их непростительной слабостью для человека его масштаба. Решение принято, и он следовал ему неуклонно. Бросив писать, он прекратил и чтение. К чему читать о добродетели, если в мире утвердился порок, внимать книжной мудрости, если вокруг царствует невежество, вникать в рассуждения о благе и смысле жизни, когда сама жизнь выродилась в азартные скачки, в жестокую погоню за миражем фиктивных ценностей? Если Публий теперь и думал о ком-либо из греков, то отнюдь не в связи с их учением, так, например, Зенона он вспоминал лишь в связи с тем, что тот покончил с собою, задержав дыхание.
Но при всем том, Сципион сознавал, что не имеет права переносить свои взгляды на сына, для которого писательская деятельность была единственной дверью в жизнь. Поэтому он, творя над собою насилие, в конце концов развернул свиток, однако, едва коснувшись взглядом строк, вдруг преобразился и неожиданно легко прочел его целиком, не прерываясь и даже не меняя позы. Это было захватывающее повествование о жизни Марка Фурия Камилла, исполненное боли за катастрофическое неразумие народа и муки великого человека, но прежде всего – веры в окончательное торжество справедливости. Закончив чтение, Сципион надолго задумался. Произведение было написано талантливо, однако не это являлось предметом его размышлений. Публия поразил смысл сочинения, выпукло проступающий на полотне представленных событий. Да, римский народ, пойдя на поводу у худших из граждан, оклеветал и неправедно осудил Камилла, но за это подвергся нашествию варваров, практически уничтоживших Рим, и лишь вмешательство простившего соотечественников изгнанника спасло Город от окончательной гибели. Народ осознал ошибку, опять пошел за Камиллом и благодаря этому победил иноземного врага, а затем и восстановил родной город. Здесь не было ничего нового для Сципиона, и сама по себе эта история мало его вдохновляла, поскольку он понимал, что в те века народ в глубине души своей был чист и лишь под действием дурных веяний на него садился налет порока, который можно было удалить, тогда как теперь порча вызревала в человеческих недрах и, проступая наружу, свидетельствовала о полной нравственной гибели людей. Новым для него стало то, что эту тему избрал его сын. Что руководило им? Созвучие этого повествования с жизнью самого Сципиона несомненно, причем в нем как бы дается оптимистическое продолжение его судьбы. Что это значит? Ищет ли юный Публий положительный выход из тупика для государства с тем, чтобы вместе с Отечеством и самому обрести смысл жизни, или старается ярким историческим примером воодушевить отца? А может быть, он упрекает его за отход от дел и ставит ему в пример Камилла, который в критической ситуации продолжал верить в победу справедливости и добился ее?
Сципион перечитал сочинение во второй и в третий раз и тогда окончательно понял, что оно обращено к нему и только к нему. Истинным героем этого жизнеописания Марка Фурия Камилла являлся Сципион Африканский. Многие детали в изображении суда и травли четырехкратного триумфатора чернью были взяты из недавней истории Сципионов, но еще более значительное сходство обнаруживалось в описании переживаний безвинно осужденного. По отрывочным фразам и мелким деталям поведения Сципиона его сын воссоздал картину грандиозной трагедии большой личности. С присущей художнику способностью проникать за кулисы внешних явлений в сердцевину чужой души он узрел и суть обиды Сципиона, и ее тончайшие нюансы, а поскольку он их не только увидел, но и сам пережил благодаря таланту перевоплощенья, то сумел достойным образом все это запечатлеть в неровных строках нервного почерка.
Сципион был тронут такой заботой сына, явленной в столь необычной и энергетически насыщенной форме, но не более того. В те времена художественный талант ценился только в изображении эпических картин битв или политических распрей, но не в передаче психологии страдающего индивида. Возможно, где-нибудь на Востоке, в эллинистическом мире, у этого художественного произведения и нашлись бы ценители, но не так дело обстояло в Риме.
Сципион позвал Публия и сообщил, что прочел его труд. Потом он некоторое время помолчал, ожидая, пока утихнет волнение молодого автора, а затем сказал:
– Работа любопытная, яркая, но… бесполезная. Она не заслужит признания граждан, потому как не является ни историческим исследованием, ни поэмой.
– Я это знаю, но я ставил перед собою более благородную цель, нежели поучать или забавлять сограждан, – с достоинством ответил Публий.
– Дорогой мой Публий, нет задачи благороднее, чем воспитывать соотечественников, но, увы, это не всегда возможно: существуют целые поколения, изначально созданные обществом слепыми и глухими. А что касается твоей цели, то скажу так: я ценю тебя как сына, но пока не могу отметить как большого историка, тогда как второе долговечнее первого, а значит, предпочтительнее.
– Оно представляется тебе предпочтительным лишь потому, что я не сумел, как следует, исполнить задуманное, – с огорчением заметил Публий.
– Нет, на избранном тобою пути дальше двигаться некуда, ты достиг вершины, так что дело не в исполнении, просто бывают такие времена, когда не стоит трогать руины разрушенных городов, а надлежит создавать новые очаги жизни. Я свое назначенье исполнил, и обескураживающий результат, ставший итогом моих побед, выбил меня с моей орбиты. Я не знаю действенных путей к выходу государства из морального кризиса, а вслепую блуждать по дебрям подлости и лжи не желаю, поэтому я ушел. А вот ты в силу своего возраста уйти не имеешь права, ты еще не исчерпал заложенный в тебя природой и нашим Римом потенциал, а потому обязан искать дорогу к победе. Я сжимал в руках меч и двигал легионы, твое оружие – стиль и мысль. Ступай же смело вперед, как в свое время сделал это я, и пусть тебе повезет больше, чем мне.
Немного подумав, младший Публий сказал:
– Да, ты прошел большую часть пути и прошел доблестно, меня же еще в детстве закружил смерч болезни и перебросил сразу к финишу. Так что мы оба у черты. Глобальное зло разлилось над миром, ныне благоденствуют лишь мерзавцы да болваны. Ведь только посмотри: нет в Риме человека, выносливее крепкого, как лошадиное копыто, Порция, пышут самыми яркими красками здоровья физиономии Теренция и Петилиев, а сколько звериной энергии у фанатичных поклонников золотого истукана слепой богини Алчности! Нам же достается только все плохое, в том числе, болезни. Так, недуг отнял у тебя славу победителя Антиоха и втоптал мой ум и прочие способности в бездонную трясину немощи. Я заметил, что в последние годы неестественно часто болеют и другие честные люди.
Сципион не знал, что ответить юному старцу, и бессильно поник головою.
Вскоре после этой сцены здоровье Публия вновь ухудшилось то ли от переутомления, то ли от разочарования, и он слег на несколько месяцев. Отец ежедневно проводил у его ложа четыре-шесть часов. Стараясь отвлечь больного от грустных мыслей, а заодно расширить его исторические познания в расчете на будущую писательскую деятельность, Сципион читал ему греческие книги. По ходу чтения они обсуждали представленные на их суд древними авторами события и особенно жарко спорили по вопросам оценки знаменитых личностей. Как это ни странно на первый взгляд, телесно слабый и вялый в жизни молодой человек проявлял большую склонность к авантюризму, нежели его отец, проведший три блистательно-дерзкие военные кампании и предпринявший неисчислимое множество отчаянно-смелых боевых операций. Публий симпатизировал таким людям, как Александр, Пирр, Алкивиад, Лисандр, Кир Младший и порою восхищался даже Ганнибалом. Сколь ни близки были по духу отец и сын, эпоха взяла свое: она раскрасила нрав представителя нового поколения в вызывающе пестрые цвета эллинистического индивидуализма. Как ни доказывал старший Сципион младшему, что объекты его восторга являются типичными представителями вымирающей цивилизации и не несут в себе ничего иного, кроме хищной энергии разрушения, тот стоял на своем и по-прежнему считал вполне допустимым для выдающихся людей использовать все имеющиеся под руками средства ради достижения славы. Впрочем, индивидуализм Публия выступал как бы незаконным сыном его мировоззрения, возникшим из мутных волн эмоций, тогда как разумом он был республиканец и при этом даже не подозревал, что одно, по сути, противоречит другому.
Пока сын находился в тяжелом состоянии, отец, забыв о собственных неприятностях, жил его заботами, но когда Публий начал выздоравливать, Сципиона снова схватило за горло оскорбление. Он опять потерял интерес к грекам, как и ко всему вообще, стоящему по ту сторону преграды, отделившей его от мира. Однако на этот раз отчуждение не стало полным. Слишком свежо было впечатление от недавней встречи с любимыми чуть ли не с детства героями, от только что возобновленных в памяти сцен великих общественных потрясений и личных драм. Пред мысленным взором чередою прошли многие цивилизации в своем рождении, расцвете и крахе, он прожил десятки пестрых, головокружительных, с крутыми изломами жизней, успел побывать Фемистоклом, Павсанием и Камиллом. Еще в юности его потрясли их судьбы, еще тридцать с лишним лет назад он с неким пророческим трепетом внимал страданиям этих людей, и вот теперь сам оказался в их положении. Поток несчастий Сципиона влился в море людского горя, и течение его замедлилось. С позиций целого частное стало казаться не столь уж значительным.
Он длительное время барахтался в этом море человеческих несчастий, смывая его едкими водами грязь оскорбленья со своей души. Но наступил момент, когда он стал захлебываться этой смесью слез и крови и почувствовал необходимость выбраться на сушу. Оказавшись на берегу, Сципион попытался обозреть весь гигантский клокочущий скорбью котлован людских бед и заглянуть за горизонт в надежде обнаружить там величественные горы и вьющийся в них путь к восхождению. Но сколько он ни напрягался, глаза его видели только страдания, а уши слышали лишь стоны. Чтобы проникнуть за горизонт, необходимо руководствоваться высшим зрением, присущим именно человеку. Где оказываются бессильны органы чувств, там дорогу прокладывает разум. Сципион предпринял попытку осмыслить историю, а для этого ему в помощь потребовались не анналисты, а философы. Так он перешел на следующую и предельную ступень человеческого знания.
В вопросах построения справедливого государства греки не могли быть советчиками Сципиона. Ему, выросшему в период расцвета республики, их умозрительные политические конструкции представлялись не только наивными, но и реакционными. По его мнению, невозможно было даже измыслить более порочного порядка, чем платоновское разделение людей на сословия правителей, стражей и работников с их профессионализацией по областям жизни. Распределение обязанностей дает хороший результат в материальном производстве, но никак не приемлемо в духовной сфере. Что станется с человечеством, если уделом одних людей будет мудрость, вторых – мужество, а третьих – тяжкий труд? Лишившись гармоничного развития, человек утратит себя как личность и превратится в существо уже иной породы. Как истинный римлянин, Сципион считал, что каждый гражданин должен быть хозяином не только своих вещей, но и самому себе, а поскольку люди живут сообща, то и заниматься управлением им надлежит также сообща. Вследствие того, что общество оформлено в виде государства, и именно государство распоряжается людьми вместе с их скарбом, то есть решает вопросы войны и мира, устанавливает законы, поощряет и наказывает, каждый человек должен иметь реальную долю в управлении этим государством, соответствующую его значению. Любое отчуждение от власти какой-либо группы или категории людей под предлогом профессионализма, делает их слепыми исполнителями чужой воли, причем почти всегда чуждой им, потому что правящий класс обязательно использует свое господство в собственных интересах. Никто из правителей никогда добровольно не позаботится о гражданах, если те не имеют на него ответного влияния, а значит, такие, отстраненные от власти люди фактически окажутся в положении рабов или точнее – обывателей, что гораздо прискорбнее, ибо не все рабы сломлены духовно, но никогда не было, нет и не будет обывателя с высокой и свободной душой. Бесспорно, не каждый человек обладает талантом вождя, но и не всякий умеет лепить горшки, и не всякий может сочинять стихи. Однако из этого не следует, что гончар должен быть рабом поэта или поэт – рабом гончара. Пусть прирожденный лидер руководит, но не получает за это особых прав, как не получают их гончар и поэт. А для того, чтобы правитель выражал своей деятельностью чаяния всех сословий граждан, эти сословия должны иметь возможность воздействовать на правителя через народное собрание, избирательные комиции и суд, в этом и будет заключаться их участие в управлении. Все это было ясно Сципиону, как и любому римлянину, однако он не судил строго Платона, понимая, в какое время тот жил. В век упадка греческих республик, в период, когда люди при материальном благоденствии деградировали в идеологическом, а следовательно, и в личностном плане, так как идейность для мировоззрения – то же, что направление для вектора, Платон не мог представить иного средства укротить броуновское движение узкокорыстных интересов мелких, как молекулы, индивидов, кроме военной силы целого класса профессиональных стражей. Его ум был целиком занят поиском политической системы, способной обуздать человеческие пороки, тогда как следовало думать о том, как построить общество, ориентированное на положительные качества и воспитывающее доблесть, ибо, как сказал Антисфен, государства погибают, если перестают отличать хороших граждан от дурных. Впрочем, игнорируя результирующую идею Платона, Сципион использовал его труды для изучения «чистых» форм политической власти, поскольку ему требовался материал для ответа на главный вопрос. Увы, несмотря на то, что Римская республика со своим сложным политическим устройством, снабженным двумя параллельными обратными связями (комиции и трибунат), являла собою новое качество в сравнении не только с утопией Платона, но и со смешанной структурой управления, предложенной Аристотелем, она, подобно предшественникам, также не выдержала испытания богатством и вдруг резко покатилась к закату, пока еще только моральному, за которым, однако, как доподлинно знал Сципион по историческим примерам, неизбежно, хотя и с временной задержкой, последует интеллектуальный, а затем и материальный упадок.








