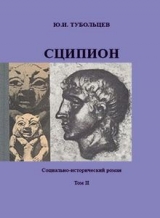
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 43 страниц)
11
Но и этой стычкой у зловещего порога Мамертинской тюрьмы неприятности Сципиона не закончились. В тот же день, вернувшись домой с праздничного обеда на Капитолии, он столкнулся с не менее грозным противником, чем Катон или Теренций. После всех фальсифицированных процессов ему довелось принять настоящий суд разгневанной Эмилии, которая, узнав о том, что муж без ее ведома просватал младшую дочь, пришла в неистовство. В таком состоянии она могла бы встретить мужа с мечом в руках, если бы не была уверена, что пронзит его острым словом и испепелит взглядом. Долгое время копившееся в ней недовольство поведением Публия и вопиющей неблагодарностью сограждан наконец получило законный повод излиться наружу, и произошло извержение. Гнев, как раскаленная лава, хлынул на усталого после путешествия из Этрурии и схватки на форуме Сципиона, а заодно – и на провожавших его друзей, сметая с их лиц последние цветы доброго настроения и оставляя за собою безжизненный рельеф уныния.
Ситуация была критической. Тут Публию не способны были помочь ни слава его побед над карфагенянами, ни ссылки на волю Юпитера. Однако судьба пощадила знаменитого императора, внезапно обнажив брешь в наступательных порядках врага, и позволила ему с честью выйти из, казалось бы, безнадежного положения.
– Я не потерплю никаких оправданий! Ты поступил бесчестно, подло по отношению ко мне и нашей маленькой Корнелии! – кричала она, этими громогласными восклицаниями сопровождая молнии, метаемые из глаз. – Каков бы ни был твой выбор, знай, тебе не будет снисхожденья… даже, если ты назначил ей в мужья Тиберия Гракха!
При этих словах уже готовые впервые в жизни обратиться в позорное бегство Сципион и его легаты вдруг разразились гомерическим смехом. Они смеялись так искренне, что Эмилия пришла в замешательство и даже замолкла. Будучи опытным полководцем, Сципион мастерски воспользовался минутной слабостью неприятеля и без промедления предпринял контратаку.
– Мы зря с тобою ссоримся, нежная моя красавица, – сладко произнес он, обнимая жену обволакивающим взором, которым, несмотря на весьма прозрачную иронию, в самом деле превратил ее в нежную красавицу, – у нас с тобою очень много общего во взглядах и вкусах. Основываясь именно на этом сходстве, я и выбрал нашей прелестной Корнелии жениха, а зовут его как раз Тиберий Семпроний Гракх.
Эмилия улыбнулась такой забавной развязке конфликта, но тут же снова приняла строгий вид на зависть самому суровому претору, а пожалуй что – и цензору, и повелительным тоном промолвила:
– Так я же и сказала: не жди пощады, даже если это Тиберий Гракх.
– Ах, мой непреклонный император! – искрясь усмешкой, воскликнул Публий. – Я все же жду от тебя пощады и смиренно припадаю к краю твоей триумфальной столы в надежде вымолить прощенье, ибо что еще остается в удел несчастному преступнику!
Мир был восстановлен и закреплен за легким ужином кубком, пригубленным всеми присутствующими, включая Эмилию.
Когда светильники устали бороться с ночным мраком, а гости разошлись, Эмилия, расчувствовавшись, изъявила намерение пооткровенничать с мужем, чтобы излить томившие ее тревоги и переживания. Но Публий, привыкший за последние годы к сварливости жены, посчитал, будто она опять затевает скандал и собирается попрекать его за принципиальную гражданскую позицию, не выгодную в нынешних условиях с точки зрения благополучия их дома, потому, решительно прервав разговор, отправился спать. Утром с просветленным благодаря ночному отдыху сознанием он раскаялся в проявленной им жесткости и в свою очередь предпринял попытку объясниться с женою, но тоже безуспешно. Эмилия всю ночь терзалась обидой и утром была менее, чем когда-либо, расположена к душевному общению. Так они упустили последнюю возможность восстановить духовную близость накануне событий, окончательно разделивших их непреодолимой стеной.
День также не принес Сципиону радости. Вокруг его дома околачивались подозрительные личности, по всей видимости, из числа побочного пополнения римскому гражданству, дарованного государству Марком Катоном и Теренцием Куллеоном, которые громко возмущались засильем знати и скандировали лозунги на тот предмет, что либо Сципион, либо Свобода должны уйти из Рима. Возле этих активистов останавливались праздные зеваки, образуя толпу, каковая, несмотря на пассивность, самим своим присутствием, своею массой создавала поддержку крикунам. Наверное, лозунги хорошо кормили демонстрантов, потому как их глотки исправно работали на протяжении всего дня, и в доме Сципиона не существовало уголка, где можно было бы усомниться в их добросовестности.
Когда Публий вышел на улицу, все замолкли и, потупив взоры, принялись рассматривать мостовую. Подобная молчаливая враждебность сопровождала Сципиона на всем его пути. Перед домом Луция Азиатского, к которому направлялся Публий, кучковались такие же борцы за освобождение Рима от аристократии и за предание его в рабство толстосумам, как и на форуме возле храма Кастора и Поллукса. При виде Сципиона Африканского они тоже закрыли рты и все дружно поглядели в землю.
Луций встретил брата недружелюбно. Его, как и Публия, с утра донимали злобными выкриками, и это создало мрачный фон для осмысления безрадостных событий последнего времени. Но в отличие от Публия Луцию было проще концентрировать свой гнев, и, будучи доведен до отчаянья беспрестанными преследованиями, он пришел к выводу, что во всех его бедах виноват брат. «Не будь Публия с его непомерной славой, заставляющей злобствовать и завидовать весь мир, меня бы никто не трогал», – целый день твердил себе Луций, и не без оснований, поскольку в принятом им гипотетическом случае, ему действительно жилось бы проще, тем более, что, не будь Африканского, он и сам не стал бы Азиатским. Впрочем, последнее соображение в его голову не приходило. Он привык быть Азиатским и против этого ничуть не возражал, а возражал только против Африканского. Об этом он и поведал, кстати, а может быть, наоборот, некстати заявившемуся брату.
Публий попытался его успокоить. Он стал уверять Луция, что в этом году его больше никто не посмеет беспокоить, а весною при новых магистратах они обратятся к народу с апелляцией, и все встанет на свои места. Однако Луций продолжал нервничать и упрекать Публия в том, что из-за него никому из его близких нет жизни. Тогда Публий грустно посмотрел на брата и ушел восвояси. С его удалением на Луция вновь обрушился шквал проклятий, изрыгаемых дежурившей у входа толпой.
Подобная картина наблюдалась и в других местах, где появлялся Сципион Африканский. Повсюду шумел катоновский плебс, и все друзья принцепса, устав от неблагодарной борьбы с завистью и ненавистью, тяготились своим знаменитым товарищем, ставшим объектом гражданского раздора. Так или иначе они давали ему это понять и старались поскорее отделаться от него.
Итак, в Риме вызревало мнение, что если бы не существовало Сципиона Африканского, то всем было бы лучше. В самом деле, зачем теперь римлянам Сципион? Весь цивилизованный мир частью покорен, частью усмирен, серьезных врагов не осталось, могущественнейшие цари состязаются друг с другом за благорасположение победоносного народа, некогда страшный Ганнибал превратился в изгнанника и флибустьера, ради пропитания и крова продающего полководческий талант азиатским царькам. На Рим снизошло небесное умиротворение. После многовековой бурной жизни, наполненной борьбою и страстью, государство наконец-то достигло вершины и получило возможность перейти к спокойному существованию. Отведав иноземной роскоши, римляне почувствовали вкус к физическим наслаждениям. Добыча триумфаторов завалила город всевозможными предметами потребления. Отныне римлянам не нужно, да и некогда было производить, они едва успевали потреблять. Вместе с изменившимся образом жизни пришлось адаптироваться к новым условиям и сознанию людей. Мораль стала претерпевать трансформацию. Традиционный аскетизм сегодня мешал римлянам вкушать телесные удовольствия, а потому утратил социальный престиж. Духовные радости являются следствием самореализации личности, потому ориентация на духовные ценности порождает энергию созидания, тогда как телесные – возникают в результате потребления, и производство в этих условиях становится подневольным. В силу обвального характера обогащения, римлянам пришлось срочно умертвить душу ради торжества чрева. Благодаря этому они на некоторое время обрели иллюзию простого, всем понятного счастья и смачно хрустели челюстями, с самодовольством прислушиваясь к урчанию сытого брюха. Однако переход на иные ценности не принес людям покоя, а, наоборот, вызвал более ожесточенное соперничество, причем сделал его порочным. Если прежде люди стремились превзойти друг друга в благодеяниях для своего народа, то есть в подвигах во имя Отечества, то теперь каждый старался как можно и как нельзя больше присвоить себе в ущерб окружающим. Каков сарказм! Народ стал ценить не тех сограждан, которые вели его к победам и расширяли сферу жизнедеятельности государства, а тех, кто успешнее других его обирал. Изменились и пути достижения цели. Раньше, чтобы добиться уважения соотечественников, надо было взрастить в себе доблесть и развить положительные способности, ибо слава не приемлет лжи, но зато богатство неразборчиво, как шлюха, и отдается всякому, кто не побрезгует им, оно не требует от своего хозяина иных достоинств, кроме загребущих рук. В том принципиальное отличие качественных факторов престижа от количественных: первые – растят человека, а последние – только его имущество при полном безразличии к самому человеку. Безликость количественных показателей, кроме того, создает широкую базу для преступлений внутри общины, то есть для присвоения плодов чужой жизни, а по сути – для присвоения в том или ином объеме самой жизни сограждан. При таких правилах игры люди очень быстро понимают, что не стоит стремиться добывать богатство законным способом, потому как гораздо проще получить его в обход законов. Отсюда следуют соответствующие задачи нового воспитания. Между тем и само законодательство трансформируется, приспосабливаясь к видоизменившимся общественным отношениям.
Но все это предстояло познать римлянам в будущем. А пока они захлебывались потреблением, с наслаждением утопая в болоте роскоши, забыв, кто они и зачем явились на свет. Сципион же был осколком их прежней жизни и, подобно флагу на торчащей из воды мачте затонувшего корабля, напоминал им об их былой доблести. Он нарушал обывательский сон, самим своим существованием будоражил память, пробуждал в людских душах голос совести и долга, более того, имел бестактность в открытую говорить согражданам об их измельчании, о позоре перед отцами и дедами и о гибельности будущего. «Нет – Сципиону! Пусть он сгинет в беспокойном прошлом вместе со своими подвигами! – кричали обыватели. – Он препятствует нам идти к благам тихой жизни, он сковывает нас, мешает нашей свободе! Не хотим равняться на Сципионов, нам легче и сытнее с Катонами, а будущее нас не волнует, потому как на наш век хватит богатств, завоеванных отцами и дедами!» Так в массе плебса все более утверждалось мнение, что Сципион стал слишком велик для нынешнего Рима, а потому должен избавить сограждан от своего непомерного, непосильного их одряхлевшим душам авторитета.
Каких только парадоксов не сочинит циничная насмешница судьба в желании потешиться и развеять скуку своего вечного существования. Когда Катон боролся со славой Сципиона, пытался опорочить его, унизить, он потерпел крах, но зато преуспел, развернув кампанию по безмерному возвышению противника. Ему не удалось преуменьшить значение Сципиона для Рима, тогда он его преувеличил настолько, что вывел за пределы общества и тем самым отстранил образ Сципиона от людей. Конечно, Порций не сам создавал эти настроения. Как талантливый, но не гениальный политик, он лишь улавливал существующие тенденции и, расставляя акценты, выгодные для себя – стимулировал, а неблагоприятные – затушевывал.
В отличие от одуревших во хмелю триумфальных пиршеств простолюдинов, с пеной у рта кричащих, что они, римляне, не хотят больше быть римлянами, а потому им не требуются истинно римские лидеры, сплоченный класс торгово-финансовой олигархии отлично сознавал собственные нужды и имел ясную цель – свержение древней аристократии. Поэтому направляемая ими политика оппозиционных сил при внешнем сумбуре по существу проводилась последовательно и логично.
Однако силы Сципиона тоже были весьма значительны, тем более, что при угрозе широкого наступления олигархии теоретически становилось возможным объединение нобилей различных партий. Но группировка Сципиона имела ориентацию на внешнюю политику и в существующем виде не была готова к назревавшей гражданской войне. Вдобавок к этому, персональный характер преследований лидеров аристократии замутнял картину разворачивающихся событий перипетиями личных связей и отношений, вносил раскол в ряды нобилитета. Многие видные сенаторы были рады падению Сципиона, поскольку им надоело находиться на вторых ролях, а сам Сципион не желал поднимать одну половину граждан на борьбу с другой половиной для отстаивания будто бы своих личных интересов, собственного авторитета.
Подспудно римская аристократия угадывала глобальный характер грянувшего конфликта, но не сознавала этого явно, потому надеялась, что все еще образуется и для восстановления прежнего положения достаточно принести в жертву новым, хищным силам общества одного только Сципиона. Помимо того, значительная часть нобилитета сама оказалась в плену у богатства и, постепенно срастаясь с олигархией, уже не могла считать таковую своим врагом.
Публий грустно усмехался при мысли об уготованной ему роли жертвы, и вновь, уже в который раз видел себя Курцием, бросающимся на коне в провал преисподней ради спасения Отечества. Но броситься-то он мог, на то он и Сципион, чтобы совершать непосильное большинству, но вот в возможности спасения Отечества очень и очень сомневался, и оттого ему не хотелось ни жить, ни умирать впустую.
На одном из заседаний сената развернулся спор по вопросу об идеологии внешней политики. Во весь голос заявили о себе агрессивные силы, помышлявшие об устройстве провинций не только в Испании, но и в Африке, Нумидии, Греции, Македонии и Азии. Тогда Порций громогласно заявил, что Карфаген должен быть разрушен, о чем потом, как помешанный, твердил сорок лет. Такие перспективы сулили чудовищное обогащение олигархам и пурпурные тоги с триумфальными колесницами Фабиям, Фульвиям и Фуриям. Сципион выступил с резкой критикой этой политики. «Да, – говорил он, – Рим должен главенствовать в мире, но благодаря разуму, а не насилию, быть хозяином, но не господином». Далее он в очередной раз попытался привить свои идеи о гармоничном устройстве ойкумены основной массе сената, но встретил меньшее понимание, чем когда-либо прежде. Ему все-таки удалось отстоять прежний внешнеполитический курс, направленный на создание в Средиземноморье дружественных государств, относящихся к Риму как к оплоту справедливости и порядка. Однако он нажил себе новых врагов, причем даже из числа бывших друзей, и большинство сенаторов, подобно плебсу, готово было вскричать: «Не хотим слушать Сципиона!»
Вскоре после конфликта в сенате к Публию обратились многочисленные клиенты рода Корнелиев с предложением организовать отпор Катоновым крикунам, засоряющим атмосферу Рима вредоносными лозунгами. Но Сципион велел этого не делать, чтобы не давать недругам повода для массовых беспорядков в городе. В итоге, его верные сторонники из народной среды остались разрозненными на мелкие группы и практически бесследно растворились во враждебной массе плебса.
Так от Сципиона постепенно отворачивалась и откалывалась одна группа граждан за другой, один слой населения за другим. Его все сильнее сжимало кольцо одиночества, все плотнее обступала пустота, сквозь мрак и холод которой доносились лишь безумные протесты.
Публию стало неуютно в городе, который казался ему безлюдным, как Ливийская пустыня, и одновременно тесным и суетливым, как Вавилонский базар во времена Навуходоносора. Его стонущая от обозрения действительности мысль обратилась за помощью к памяти, и та подсказала, что когда-то, в годы юности, ему удавалось изживать невзгоды и обретать душевное равновесие в храме Юпитера. Он решил снова прибегнуть к этому средству и, взойдя на Капитолий, уединился в храме.
Долго сидел там Сципион в ожидании потока живительных космических лучей и нисхождения к нему божественного духа. Но в храме звенела все та же пустота, которая преследовала его в городе. Он напрягался и расслаблялся, сосредотачивался и уносился фантазией к звездам или парил в облаках, но при всем том, никак не мог обнаружить следов духовных владык мира. Священное место Рима опустело: боги покинули храм, оставили город.
Назавтра Сципион повторил опыт и, принеся жертвы, провел в храме много изнурительных часов. К вечеру самого длинного дня своей жизни он окончательно пришел к выводу, что покровители римлян, как и он сам, разочаровались в своих подопечных, прекратили бороться за их счастье и бросили горожан на растерзание собственным порокам. Вывод был однозначным: боги ушли и этим указали путь ему самому.
Публий подобно прочим аристократам не был лишен скептицизма в отношении официальной религии, но не сомневался в существовании космического разума, одним из атомов которого ощущал и себя. В данном случае его обращение к небесам было слишком серьезным, а пустота в храме – беспощадно отчетливой, потому у него не возникло колебаний в оценке полученного знамения, данного как раз в форме отсутствия каких-либо знамений.
Публий Корнелий Сципион Африканский, не унывавший ни в каких ситуациях, отвечавший энергичными действиями на любые происки врагов или превратности судьбы и всегда выходивший победителем, ныне, так и не познав поражения, впал в сентиментальную печаль, как девица в разрыве с любимым или как мать в разлуке с сыном, а может быть, как сын, навсегда расстающийся с матерью, как римлянин, теряющий Родину. Самым страшным наказанием в Риме было изгнание, в сравнении с которым смертная казнь казалась лишь минутной неприятностью. Римляне не могли выносить разлуки с Родиной, в том была оборотная сторона величия духа этого народа.
Публию предстояло расстаться с Отечеством. «Сципион или Свобода должны уйти из Рима!» – вопили на всех городских площадях обыватели, не имеющие представления ни о Сципионе, ни о Свободе, о том же аккуратно намекали ему сенаторы, и то же самое говорили глаза родственников и друзей, а сегодня Сципиону предложила покинуть город его жена.
Не сумев спровоцировать на неблаговидный поступок самого Сципиона, его враги смогли добиться требуемой реакции от Эмилии. Однажды властная женщина попала в окружение катоновского хора и в ответ на оскорбления велела многочисленным рабам своей свиты разогнать толпу бичами. Ей удалось обратить голосистое воинство в бегство, но с этого дня плебс повсюду встречал и провожал ее возмущенными возгласами. «Нет на вас Ганнибала! – восклицала она в ответ. – Жаль, что мой муж не дал возможности Пунийцу истребить вас всех до единого!» Однако, хотя Эмилия чисто по-женски отводила душу в звонких проклятиях плебсу, жизнь в городе сделалась для нее невыносимой. О том она и заявила Публию.
Правда, нрав Эмилии был не таков, чтобы позволить ей бежать от трудностей, поэтому вначале она предложила мужу свой, давно взлелеянный ее мечтами выход из положения.
– Народ слишком испортился, – решительно подытожила она события последних лет, – а потому он более не способен к самоуправлению, и Риму требуется централизованная монархическая власть. Ты же как принцепс должен взять на себя главную роль и, перетряхнув государство, реорганизовать его на новой основе.
– Так, значит, ты хочешь, чтобы я тоже испортился вместе с народом? – грустно поинтересовался Публий.
Эмилия приняла упрямый вид и враждебно молчала.
– Да, – продолжил Сципион, – то, что ты предлагаешь, является физическим выходом из нынешнего кризиса, но не нравственным. Я много походил по миру и видел различные социальные образования. Поверь же, что монархия – самый удручающий из них тип. Это всеобщее замкнутое по кругу рабство, жизнь без достоинства, уважения, без человеческих целей. Нет, я не ввергну Рим в эту бездну деградации. Я дам ему время образумиться. У меня еще есть надежда, что Отечество произведет на свет настоящих людей, и Республика возродится, причем уже на более высокой стадии развития. Вышло так, что Рим разом проглотил все Средиземноморье, и у него наступило несварение, однако это еще не означает неизбежную смерть. Возможно, крепкий организм нашего народа сможет переварить чужеземное угощение, впитать в себя все лучшее и отбросить требуху, очиститься от скверны. Сколь ни мал этот шанс, я не имею права отнимать его у сограждан.
– Тогда уходи! – с жестокой логикой вывела итог из его речи Эмилия. – Не хочешь царствовать, будь изгнанником! Здесь же нам оставаться просто унизительно. Нужно либо действовать, либо исчезнуть.
Да, Публий понимал, что ему предстоит расстаться с Отечеством, но он пока не нашел приемлемую форму для осуществления этого действа. Значима была смерть отца и сына Дециев на виду всего войска в насыщенный эмоциями час битвы, великолепен поступок Курция, закрывшего собою зловещую трещину, расколовшую Рим, но как ему, Сципиону, закрыть трещину, возникшую в душе народа? Какая-либо демонстративная смерть лишь насмешила бы и позабавила его врагов, причем не только в Риме. Ему представилось, как будет хвататься за живот африканец Ганнибал на пирушке у какого-нибудь Прусия при известии о самоубийстве своего победителя, и он содрогнулся. Такое отвратительное зрелище могло заставить его жить вечно. Вот уж удивился бы и, пожалуй, проклял бы самого себя Ганнибал, если бы узнал, что ненароком сохранил жизнь Сципиону!
Итак, спасительный ход стоиков не годился Сципиону. Значит, ему оставалось уехать в какую-нибудь далекую страну и влачить там годы пустого прозябанья?
Несмотря на затруднения, Публий даже и не помышлял о том, чтобы подобно Ганнибалу наняться к какому-то царю и имитировать бурную деятельность, совершая за деньги то, для чего он мыслил единственную награду – благо Родины и уважение сограждан. Вдали от Рима он мог только доживать, но никак не жить.
Память рисовала ему заманчивые пейзажи страны его молодости. Он словно наяву видел величавые горы и тучные долины Испании. Но прибыть изгнанником в тот край, где его чтили могущественнейшим человеком, было невозможно. Тогда – Афины. Он давно мечтал посетить этот город, а теперь может вовсе поселиться в нем… Однако нынешние Афины – живая иллюстрация будущего упадка Рима. Сегодняшние афиняне – пустые краснобаи и подхалимы, пресмыкающиеся перед всяким, кто способен взять в руки меч, они представляют собою карикатуру на граждан свободной республики. Нет, он не выдержит соседства ничтожных потомков великих предков. Остается Пергам. О, как будет гордиться Эвмен, если у него на содержании окажется Сципион Африканский! Какое чванство будет чернить последние и без того черные годы Сципиона! Может быть, Карфаген? Пожалуй, его там примут, даже окружат почетом и, вполне вероятно, исподтишка убьют. Все это весьма привлекательно, особенно последнее, но в глазах мировой общественности будет выглядеть слишком вызывающе по отношению к Риму.
В рассмотренных Сципионом вариантах был еще один, причем самый главный изъян: удалившись в другую страну, Публий потерял бы гражданство, оказался бы официальным изгнанником и в этом качестве выглядел бы перед римлянами осужденным, признавшим свою вину.
Выход неожиданно подсказала Эмилия. Она предложила поехать в их имение на благодатном кампанском побережье. Уже несколько лет Литерн был любимым местом отдыха семьи Сципиона, и почему бы ему действительно не укрыться там от слепой злобы сограждан? Этот небольшой городок, образованный именно Публием Африканским как колония его ветеранов, был отделен от Рима достаточным расстоянием, чтобы обосновавшегося в нем Сципиона не беспокоили эмоции сумасшедшей столицы, и в то же время, не столь далек, чтобы дать повод недругам предполагать, будто он кого-то боится.
Сципиона удовлетворило найденное решение, и он похвалил жену за разумную идею. Эмилия усмехнулась и ничего не сказала в ответ, хотя ей, как женщине, очень трудно было устоять перед соблазном выложить все свои тайные мысли и надежды, связанные с намерением отправиться в Литерн. В отличие от мужа, не помышляющего о возвращении в Рим, она, избирая местом ссылки Литерн, как раз имела в виду, что из этого города Публий всегда может вернуться в столицу и снова занять свое законное место первого сенатора. Она ничуть не сомневалась, что с удалением Сципиона римляне поостынут и успокоятся, а успокоившись, задумаются, задумавшись же, обязательно раскаются. По ее мнению, уже к весне и плебс, и сенаторы спохватятся, поймут, что они натворили и кого потеряли, а потому придут к Сципиону с повинной и будут просить его возглавить государство с не меньшим энтузиазмом, чем когда-то пунийцы молили пощадить их Отечество.
Итак, Публий принял решение уехать в Литерн, однако все еще медлил с его осуществлением. Наконец он наметил дату печального события и напоследок вздумал еще раз посетить Капитолийский храм. При этом Публий даже в уме не мог произнести слова «а вдруг…», хотя они постоянно огненными буквами горели в его мозгу и, незримые, все же жгли глаза нестерпимым пламенем. Он говорил себе, будто ни на что не надеется и только хочет свести обычай, в некоторых случаях предписывающий троекратное обращение к богам.
В эти дни обстановка в Риме еще более накалилась. Толпы плебса в предчувствии победы без устали скандировали антиспипионовские лозунги и, не покладая языков, трудились даже по ночам. Правда, с появлением перед ними самого Публия Африканского они, как и прежде, затихали, но стоило Сципиону проследовать дальше, и в спину его били истошные вопли обезумевших от ненависти людей, которые ярой злобой вознаграждали себя за четвертьвековое восхищение этим человеком.
Проходя сквозь такой строй, Сципион внешне сохранял полную невозмутимость, но душа его чернела, и вступить в храм он уже не мог. Его желание в третий раз вопросить Юпитера об отношении к происходящему и получить совет так и осталось нереализованным.
Незадолго до отъезда Публий еще раз поссорился с братом Луцием и после этого уже не рисковал обращаться к другим родственникам или друзьям. Все считали его конченным человеком и спешили отречься от былой дружбы. Его сторонились, как разлагающегося трупа. Впрочем, многие не торопились окончательно хоронить авторитет Сципиона и, опасаясь новых виражей судьбы, старались не показываться на глаза опальному колоссу, чтобы не выказывать ни вражды, ни приязни, равно опасных в условиях неопределенности будущего. Лояльнее прочих к нему относился Публий Назика, но его сочувствие в основном было молчаливым, поскольку он не мог сказать Африканскому ничего утешительного, так как подобно Цецилию Метеллу, Корнелию Лентулу и другим матерым политикам считал, что принцепс упустил благоприятный момент для контрнаступления, и теперь его положение уже непоправимо.
В такой обстановке Публию хотелось увидеться с Лелием. Но Гай не пришел к нему проститься. Говорили, будто он был тяжело болен. Однако Сципион усматривал в этих слухах всего лишь уловку, тем более, что именно Лелию в городе приписывали фразу: «Сципион сам отвернулся от друзей, посчитав, будто на вершине славы они не нужны, так пусть же и теперь обходится без них», которой в эти дни многие нобили прикрывали свою измену, потому он тоже не стал предпринимать шагов к сближению.
В конце концов тотальное недоброжелательство Рима вызвало у Сципиона взрыв гнева, и он проклял всех бывших друзей. «Я упрекал за дурное поведение народ, но вы оказались еще хуже. Плебс возненавидел меня по безграмотности и недомыслию, а вы – исходя из хитрости», – сказал он на прощанье всем Корнелиям, Эмилиям и Сервилиям. Это произошло накануне его ухода из Рима.
Слишком медленно и слишком быстро шли последние часы пребывания Сципиона в родном городе. Но там, где есть время, есть и конец всему. Сколь ни тягостна жизнь, наступает час смерти; настал и день изгнания. Сципион собрался в дорогу на рассвете, чтобы следующую ночь провести как можно дальше от этого города.
Несмотря на то, что дата отъезда держалась в секрете, из-за чего даже вещи было решено отправить не вперед, а вслед хозяевам, плебс неким чутьем угадал, когда свершится столь ожидаемое всем государством событие, и необозримой толпою запрудил форум. Правда, сегодня народ вел себя тихо и изо всех сил таращил глаза на дверь дома Сципиона, совсем как несколько месяцев назад, в сравнительно недавний, но уже очень далекий день первой попытки осудить принцепса.
Увидев у входа толпу, Публий нахмурил и без того хмурое чело и решил молча пройти сквозь эту массу пышущих разрушительной энергией тел. Он уже занес ногу над ступенькой лестницы, ведущей вниз, но вдруг передумал, остановился на высоком пороге и, используя его в качестве трибуны, обратился к плебсу.
«Вы зачем столпились здесь! – резко крикнул он, словно новобранцам, в сутолоке боя потерявшим свое место в строю. – Жаждите в последний раз поглазеть на Сципиона Африканского? Ну что ж, торопитесь, больше вам такой возможности не представится. А может быть, хотите послушать меня? Так навострите уши! Уж, так и быть, подарю вам десяток ласковых слов, достойных дезертиров.
Я вас предупреждал, что вы ступили на гибельный путь, но вы не вняли предостережению, и вот результат: я бросаю вас. Да, я отрекся от вас, ибо вы безнадежны, вас уже нельзя вернуть к достойной жизни, а я не берусь за безнадежные дела. Барахтайтесь в болоте собственных пороков, коли не нашли в себе силы подняться вслед за мною к высотам римского духа, служите рабски злу, как олицетворенному в ваших нынешних кумирах, так и сидящему в каждом из вас, пожирайте друг друга и самих себя на потеху побежденным вашими отцами народам. Да, мы победили всех врагов, а вас они, уже будучи побеждены нами, купили грудой серебра и подчинили прихоти вещей. Вот уж поистине вы обрели диковинное рабство! Прежде слабые служили сильным, а теперь вы, рожденные сильными, сделались рабами… нет, даже не слабых, а вовсе мертвых предметов, вы стали рабами вещей. Уж какие вам после этого Сципионы! Для вас сегодня и Теренций Варрон слишком велик!








