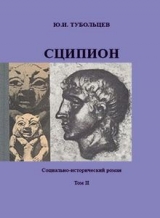
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 43 страниц)
Расспросив напоследок царя о новостях в Азии, послы завершили переговоры и, поблагодарив хозяина за гостеприимство, отправились в Эфес – малоазиатскую столицу Антиоха. Правда, продолжили поход только Виллий и Сципион, а престарелый Сульпиций, истомившись дорожными тяготами, разболелся и остался в Пергаме.
В настоящий момент сложилась очень благоприятная обстановка для реализации плана Сципиона. Антиох только что отбыл в центральную часть Малой Азии усмирять взбунтовавшиеся горные племена, и это давало послам возможность погостить в Эфесе при царском штабе.
Придворные министры встретили римлян холодно, но, следуя законам международного права, предоставили им все необходимое для жизни в городе и через гонца известили царя об их прибытии. Монарх сообщил письмом, что примет послов при первой же возможности, о чем своевременно их уведомит.
«Ну что же, будем ждать», – разведя руки, с сожалением в голосе сказал Виллий закованному в дорогие одеяния царскому советнику, принесшему эту весть, словно не стремился к такому ожиданию с самого начала.
Римляне с комфортом расположились в одной из палат обширного дворца и сделали вид, будто настроились на приятное времяпрепровождение. Однако их культурная программа получилась короткой. Горожане, возгордившись честью, оказанной им Антиохом, выбравшим Эфес своей резиденцией, подобно придворным недружелюбно косились на гостей в тогах, но в отличие от них мимикой, жестом, а то и терпким словом норовили выказать неприязнь. В свете этого недоброжелательства архитектурные достопримечательности Эфеса показались римлянам сумрачными и невыразительными. Они кое-как уделили внимание только знаменитому храму Артемиды, который греки причисляли к семи чудесам света, да и то потому, что это грандиозное сооружение стояло за городом. Впрочем, не камни и мрамор интересовали их в Эфесе, а люди, точнее, всего один человек. Поэтому, ничуть не расстроенные спесью горожан, они с важным видом стали расхаживать по бесчисленным залам и перистилям дворца, исследуя атмосферу, царящую в ставке Антиоха и изучая его придворных, с которыми им вскоре предстояло схлестнуться за столом переговоров, а затем и на поле боя.
Очень скоро в одном из колонных залов римляне встретили того, кого как раз и хотели здесь повстречать. В окружении льстивых азиатов и профессионально угодливых пунийских диссидентов их взорам предстал Ганнибал. Сципион небрежно поздоровался с бывшим карфагенянином и, скользнув по нему скучающим взглядом, пошел дальше. Виллий чуть задержался и перекинулся с давним врагом несколькими бессодержательными фразами, обозначив ими свою приязнь, а затем догнал Сципиона.
Бежав с родины, Ганнибал, как и ожидалось, нашел приют при дворе Антиоха. Он предложил царю свой полководческий талант, ненависть к Риму и надежду на поддержку Карфагена. Такой товар Антиоху годился, и он принял опального пунийца с расчетом как-нибудь пристроить его к делу.
Заводя два года назад секретную переписку с Ганнибалом, царь, конечно же, полагал, что африканец со временем предоставит в его распоряжение пунийскую армию тысяч в пятьдесят копий, и теперь, увидев его лишь в сопровождении десятка слуг, был разочарован. Однако Ганнибал пустил слух о несметных сокровищах, будто бы припрятанных им на каком-то острове по пути из Карфагена, и этим весьма заинтересовал жадного, как все богачи, Антиоха. Царь начал внимательнее присматриваться к своему гостю и постепенно проникся к нему уважением. Будучи наслышан о Ганнибале, о его громких победах и провалах, Антиох составил мнение о нем как о человеке тщеславном, хвастливом и слишком самоуверенном. Таким Пуниец представился ему и в письмах. Как настоящий царь Антиох желал, чтобы все окружающие были ниже его. Поэтому он с неприязнью думал о чрезмерном гоноре африканца, но с первой же встречи был приятно удивлен поведением Ганнибала, который, при том, что держался с достоинством, ничем не задевал амбиций царственной особы, более того, по всему чувствовалось, что Пуниец даже не помышляет сравнивать себя с Антиохом. И хотя он прямо не говорил об этом, но царь улавливал с его слов, что он, Антиох, для Ганнибала в настоящее время является высшим авторитетом. В их беседах Пуниец выражал безмерное восхищение Александром Великим и, подчеркивая, что в итоге тот стал властелином Азии, выводил отсюда главенствующую роль в мире именно этой необъятной страны, откуда делал переход к нынешней Азии, проча ей славу, превосходящую все былое. Размашисто рисуя блистательные перспективы Азиатской державы, Ганнибал тем самым давал понять, что видит в Антиохе прямого последователя Александра, а говоря о себе, выражал надежду прославиться в качестве сподвижника и слуги великого человека. При этом он приосанивался и казался исполненным гордости. Не привыкший к столь благородной и возвышенной лести Антиох сплоховал перед пунийской хитростью и сделал Ганнибала чуть ли не вторым человеком в царстве. Оттого и распространились в Риме тревожные слухи, будто Антиох собирается вручить Пунийцу верховное командование в войне против римлян, и оттого пустился в столь дальний путь Сципион, сказав дома ближайшим друзьям, что если Отечеству грозит Ганнибал, то действовать должен именно он, Сципион.
В последующие дни Виллий неоднократно беседовал с Ганнибалом, выказывая при этом дружелюбие. Он говорил, что вся их вражда осталась в прошлом. Рим и Карфаген ныне добрые союзники, хотя союзный договор между ними пока и не заключен, а потому и Ганнибалу, по его мнению, следует не отставать от хода истории и смирить свою беспричинную ненависть к римлянам. «Да-да, конечно, вся вражда в прошлом», – с готовностью подтверждал Пуниец, воображая, как его наемники, безразлично какой народности, маршируют по улицам Рима, а Виллий на пару со Сципионом гремят кандалами, понуро плетясь перед его колесницей.
Сципион же не проявлял никакого интереса к побежденному сопернику и при встречах на ходу обменивался с ним несколькими словами по формуле вежливости, после чего равнодушно продолжал свой путь. Он вообще держался особняком; обслуживающие послов римляне из числа писцов и охранников вели себя с ним подобострастно, до азиатов он и вовсе не снисходил. На этом фоне формальные фразы, брошенные им Ганнибалу, казались великой милостью.
От этих «милостей» у Пунийца начиналась лихорадка, он смолкал на полуслове, замирал в одной позе и завороженно следил уголком глаза за уходящим Сципионом. Карфагенянин мог бы подумать, будто римлянин слишком кичится победой и оттого надменен, но он не усматривал в его поведении ни позерства, ни презрения: у Сципиона был вид человека, страдающего от одиночества, но сознающего его меньшим злом, чем общение с окружающими, среди которых нет сколько-нибудь интересных людей; и это действовало на Ганнибала, как ледяной душ. Он привык к тому, что его боятся, проклинают, боготворят, ненавидят, он привык вызывать у людей сильные чувства, будоражить их страсти, чем гордился как свидетельством своей неординарности, гениальности. И вдруг Сципион скучает в его присутствии, словно он, Ганнибал, какой-нибудь Виллий, Эвмен или Антиох! Это казалось каким-то чудовищным наважденьем. Ганнибал пытался отмахнуться от него, не думать об этом странном римлянине, но тогда в его памяти возникали страшные картины побоища у Замы, которое было делом ума и воли этого самого Сципиона. Ганнибал всегда был уверен, что его сокрушительное поражение в Африке – лишь недоразумение, злая проделка судьбы; с иным представлением он просто не смог бы жить. Но теперь его начали донимать сомнения: случай одолел его или все же человек; и это было ужасно. Мысль, что кто-то его превосходит, превышала силы его души, была больше, чем он сам. «Да кто же он, этот Сципион!» – вскрикивал по ночам Ганнибал, просыпаясь в холодном поту. Мысленно прослеживая шаг за шагом всю жизнь Сципиона, карфагенянин отдавал ему должное. Он понимал, что полководец, завоевавший Испанию и Африку, не может быть рядовой личностью, что политик, который сумел в трудный период убедить сенат в верности своих идей, а теперь вот уже десять лет почти безраздельно господствует в государстве, не может быть рядовой личностью. Но при всем том он не мог равнять Сципиона с самим собою, ибо этого не позволяла его система координат, не позволяло его мировоззрение. Предстань ему хоть сам Геркулес или Мелькарт, хоть Зевс, хоть Юпитер, хоть Баал: Ганнибал все равно будет смотреть на него сверху вниз, как на существо второго сорта. Потому он не был способен разрешить задачу о Сципионе, но, увы, не мог отмахнуться от самого факта существования такой задачи. Неразрешенные противоречия терзали его душу, Ганнибал страстно жаждал нового поединка со своим обидчиком, причем не обязательно на поле боя: он ощутил бы облегчение, если бы просто уязвил его насмешкой или обыграл в кости, хотя, конечно же, его душа требовала полного торжества над Сципионом как личности над личностью!
Ганнибал стал присматриваться к своему обидчику, даже следить за ним, но Сципион вел себя инертно, ни во что не вмешивался, почти ни с кем не разговаривал и ничего не делал; потому распознать его не было никакой возможности. Африканец напрягал всю свою пунийскую хитрость, но уличить его на каком-либо характерном поступке не мог. Ум Ганнибала разбивался о бесстрастие Сципиона, казавшееся гораздо неприступнее башен Сагунта. Но карфагенянин не привык пасовать перед трудностями и, не взяв крепость с ходу, начал искать окольные пути в стан вражеской души. Пользуясь словоохотливостью Виллия, Ганнибал принялся исподволь выведывать у него всяческие сведения о Сципионе. А Таппул, едва заходила речь о принцепсе, делал значительное лицо и в каждом предложении расставлял восклицательные знаки, но ничего конкретного тоже не говорил. Это еще сильнее возбуждало африканца, и он все более походил на своего хищного полосатого земляка, когда тот мечется по арене цирка, кидаясь за куском мяса, который перебрасывают у него над головой из рук в руки.
Наконец, совсем отчаявшись, Ганнибал пошел в лобовую атаку на Виллия, и в упор спросил, почему Сципион его избегает.
– Разве? – наивно удивился римлянин. – Верно, ты, Ганнибал, ошибся: он никогда никого не избегает. Может, всего только лишний раз не стремится к общению…
– Хорошо, пусть так. Почему же он не стремится к общению со мною?
Виллий изобразил недоумение, и Ганнибал понял, что сгоряча выпалил глупость.
– Видишь ли, – задумчиво произнес Таппул, – не нам, конечно, судить о мыслях и чувствах Сципиона Африканского… Но однажды Корнелий сказал мне, что его влечет лишь новое, он не любит возвращаться на пройденные дороги.
«Это я-то – пройденная дорога!» – в душе взбеленился Ганнибал и поскорее отошел в сторону, так как почувствовал, что больше не владеет собою.
Снедаемый небывалой страстью, Пуниец смотрел на Сципиона, как смотрит пылкий юноша на салонную красавицу, когда не умеет подступиться к этому кусочку солнца на паркете или, точнее, на мраморе. Впрочем, Ганнибал не знал, как смотрят пылкие юноши, ибо никогда не был таковым. В детстве он с восхищением смотрел только на отца, а потом – только в зеркало. Из ребенка Ганнибал сразу превратился в мужа, стал фактически монархом Испании и хозяином наемного войска. Женился он по политическому расчету на иберийке и, естественно, не познал любви, а в дальнейшем, заметив некое прелестное создание, отдавал распоряжение, солдаты приводили жертву в его палатку, и он, не снимая доспехов и ножен, расправлялся с нею скорее, чем успевал ощутить волнения жарких чувств. И вот теперь судьба наказала его за пренебрежение мирскими радостями: он горел страстью, только если женщины похищают у юнцов сердца, то Сципион похитил у Ганнибала тщеславие и даже более того – веру в себя. Потому Пунийцу необходимо было во что бы то ни стало сразиться со Сципионом, вскрыть его душу и извлечь оттуда ту самую, утраченную им веру в себя. И вот однажды Ганнибал подстерег Сципиона в аллее дворцового парка, когда римлянин прогуливался там почти в одиночестве, то есть за ним поодаль следовали только двое слуг и какой-то чиновник. Свита Ганнибала была не больше. Пуниец, как и при Заме, решился дать Сципиону генеральное сражение и с отчаянной смелостью выступил ему навстречу. Насмешливо щуря зрячий глаз и «подмигивая», как в былые дни, слепым, Ганнибал сказал по-гречески:
– Берет меня зависть, глядя на тебя, Корнелий, задумчив ты и спокоен, нет тебе дела до нашей суеты. Хотел бы я иметь столь высокие думы, чтобы за ними забыть о земных горестях. Поделись секретом, Корнелий.
Он опасался, что римлянин, как всегда, отделается общими фразами и со скучающим видом пройдет мимо, но Сципион, хотя и обозначил жестом такое намерение, когда обнаружил перед собою Ганнибала, затем переменился в лице и приветливее, чем обычно, ответил:
– Попробуй, Ганнибал, для начала задуматься о гармоничном устройстве ойкумены. Ручаюсь, что в этом случае твои Ганноны и Антиохи сразу окажутся на задворках мысли.
– Охотно последовал бы твоему совету, Корнелий, будь я Платоном, а не Ганнибаалом.
– Ты не понял. Я говорю не об устройстве государства – тут меня пока удовлетворяет римская традиция – а о построении единой межгосударственной цивилизации, например, у нас, в Средиземноморье. Представь себе такое объединение городов и общин, в котором каждая народность занята присущим именно ей делом, наподобие того, как разные органы внутри нас строго выполняют только свои функции, ведь не борются за власть печень с желудком, не дерутся руки с ногами, почему же должны враждовать Рим и Карфаген? Пусть карфагеняне торгуют, если это поприще им по сердцу, пусть римляне ведут политику и устанавливают законы, а греки развивают науки и радуют всех нас искусствами.
– Мечтатель ты, Корнелий, или притворяешься… Не торговля мила карфагенянам, а по сердцу им деньги, так же, как и вам, и грекам. Так что у всех одна цель, а значит, драки не избежать.
– Не скажи, Ганнибал, у нас все благородные люди мечтают о магистратурах, хотя их исполнение несет убыток и немалый. Римляне, не задумываясь, жертвуют деньгами ради славы и любви народа.
– Это из-за того, что вы не доросли до денег. Вот мы, когда торгуем с дикарями африканской глубинки, тоже вынуждены обменивать одни товары на другие, потому как они денег не знают: они в перьях. Так и слава ходит промеж вас как неудобоваримая монета, пока вы не повзрослели и не поняли, что всякое людское взаимодействие – торговля, и вся жизнь – торг, а расцвет торговли достижим лишь при деньгах, следовательно, и расцвет ойкумены – тоже.
– Но ведь на деньгах стоит печать и нет лица, они все нивелируют.
– Так в том их сила! Я богач – мне все подвластно, и никому нет дела, преступленьем добыто богатство или потом. Впрочем, чтобы потом достичь моего богатства придется вычерпать всю соль из Океана! Так-то вот, полная свобода! Отпадают путы морали – прибежища глупцов и ничтожеств! Я богат – я господин, и все!
– А остальные – рабы?
– Выходит, да, пока кто-нибудь из них не возвысится и надо мною.
– И это хорошо? Я имею в виду – для тебя; о других тут уж и речи нет: с тобою можно говорить только о тебе самом.
– Для меня, конечно, хорошо, а другие пусть не спят. Я для них ориентир, маяк. Как видишь, вопреки твоему мнению, я забочусь и о них.
– Но, если ты стремишься сделать окружающих рабами, почему же теперь ты ищешь общения со мною? Вон ведь сколько вокруг тебя рабов! Беседуй с ними, наслаждайся превосходством!
Ганнибал от удивления так широко раскрыл левый глаз, что, показалось, вот-вот прозреет и на правый. Однако он так и не прозрел, а Сципион продолжал:
– В том-то и дело, Ганнибал, что деньги, как я сказал, все нивелируют. Заменяя собою, воплощая в себе все ценности, они высасывают их из человека и людей подменяют печатью, а печать, будь она на золоте или на лице, есть лишь мертвый оттиск былой жизни, человек же без своего лица – не человек.
– Софистика какая-то, Корнелий. Попробую тебе растолковать это дело по-иному. Зайдем с другой стороны. Вот ты говоришь о неком общественном организме, подобном биологическому. Это – чушь, это нереально. Хищники будут биться до тех пор, пока не победит сильнейший и не проглотит всех остальных.
– А кого он будет глотать потом? Что дальше? Голодная смерть?
– Опять софистика. Не перебивай, Корнелий. Так вот, реальна, я тебе скажу, империя Александра Великого. Когда-нибудь и страны будут продаваться на политическом рынке, шаг к этому уже сделан, недаром же Филипп II говорил, что осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость. Ну а пока цивилизация не достигла такого уровня, государства приходится брать силой, и хвала Александру за то, что у него это вышло! А вот у меня из-за вас, увы, не получилось. Ваша победа, Корнелий, отбросила человечество лет на триста назад.
– Она спасла цивилизацию!
– Нет, она затормозила развитие! Но придет время, когда и у вас найдется свой Александр или Ганнибаал, который возродит монархию уже в средиземноморском масштабе, если, конечно, я не смогу раньше взять реванш. В последнем случае все это произойдет скорее. Вот оно, будущее ойкумены!
– Путь, указанный тобою, ведет к краху цивилизации!
– Нет, к ее упорядочению! То есть к строгому разделению на господ, коих должны быть единицы, если не вовсе один, и на рабскую массу, имя которой – чернь! И я, Корнелий, полагал, что ты сумеешь правильно использовать свою победу над Карфагеном, я думал, именно ты станешь таким римским Александром!
– Нет, Ганнибал, я предпочитаю жить среди людей, а не рабов, и человеческое уважение ценю выше рабского страха и ненависти.
– Но страх и ненависть – единственные искренние чувства! Все остальное – ложь!
– Несчастен ты, Ганнибал!
– Разочаровал ты меня, Корнелий!
– Твое мировоззрение, Ганнибал, построено на всем худшем, что появилось в людях по мере искажения их взаимоотношений, а мое – на всем лучшем, зародившемся в них у истоков человечества и человечности.
– Ах, Корнелий! Я был более высокого мнения о моем удачливом сопернике! А ведь, я слышал, тебе предлагали царство, или как там оно у вас зовется: диктатуру, пожизненное консульство. Но ты не потянул на Александра Великого и вместо империи удовольствовался прозвищем «Африканский».
– Это потому, что дороже Александра мне Фемистокл и Павсаний. Македонца я ценю, как ценю Дионисия и Агафокла за достижения в укреплении государства, а еще более – за успешную борьбу с вами, но по-настоящему мне близки другие.
– Да-да, защитники Родины. Как же, понимаю! Вы восторженны, как юнцы, ибо народ ваш слишком молод и не дозрел до взрослых рассуждений. А не обратил ли ты, Корнелий, внимание на то, что и Фемистокла, и Павсания эти самые, спасенные ими Отечества с позором изгнали, да еще продолжали травить на чужбине, пока не доканали совсем, причем Павсания так даже не погнушались растерзать в храме!
– Это объясняется тем, что, сумев отстоять свои народы от персидской агрессии, они не успели воспитать их.
– Воспитать! Что может быть смешнее этого слова! А вот как раз Александр всех усмирил, то бишь воспитал.
– И был отравлен.
– Возможно, и так. Но зато никто не посмел выступить против него открыто. А твои греки – это вообще дрянь!
– Неужели тебе совсем некого выделить из них?
– Ну, разве что Адкивиада. Удалой был молодец. Сражался у афинян – побеждал спартанцев, переходил к спартанцам – побеждал афинян. Ника ходила за ним, как привязанная.
– Да, с Алкивиадом у вас много общего. Твой поход в Италию, например, очень напоминает его сицилийскую затею…
– Вижу, к чему ты клонишь, только напрасно ты это делаешь. Алкивиад довел бы до конца кампанию в Сицилии, если бы ему не навредили афинские завистники, точно так же, как и я добился б своего, если бы не помешали всякие Ганноны, да Газдрубаалы Гэды.
– Неужели ты до сих пор усматриваешь причину неудач только в этом, лишь в сопротивлении тех, кто остался в Карфагене? А как же два войска, которые тебе привели братья? Они же пропали. Ты не сумел их использовать. И неужели ты думаешь, будто мой Фабий Максим был слабее твоего Ганнона? Может быть, это не довод, а всего лишь отговорка, предназначенная, как ты выражаешься, для черни и рабствующих духом историков? О чем-то подобном ты мне когда-то намекал…
– В какой-то степени и то, и другое: наполовину – правда, наполовину – довод для тех, у кого есть уши, но нет головы.
– А что же повлияло, кроме этого?
– Судьба.
– Да, Ганнибал, ты неисправим… А ходят слухи, будто царь дает тебе войско для вторжения в Италию…
– Так и будет, если только у Антиоха хватит ума послушаться меня, – приободрившись, не без удовольствия подтвердил карфагенянин.
– А зачем такая суета?
– То есть, как это зачем?
– Ну если ты не сделал правильных выводов из первой попытки, то стоит ли предпринимать вторую? Ведь будет то же самое, даже хуже, потому как если ты выказываешь готовность повторять свои ошибки, то мы, римляне, не делаем этого никогда.
– Ах, как громко сказано! – воскликнул Ганнибал, чтобы скрыть досаду по поводу неудачи в дебюте поединка, которую он, впрочем, отнес на счет стартового волнения.
– Нужно только приветствовать, когда правда звучит громче лжи, а то ведь чаще бывает наоборот, – хладнокровно добил противника Сципион.
На некоторое время собеседники смолкли, словно спохватившись, что разговор принял уж слишком откровенный характер, и украдкой следили друг за другом, как бы выискивая слабые места во вражеских редутах.
Публий обратил внимание, что Ганнибал несколько постарел, осунулся, черты его лица заострились, сделались еще более угловатыми, но при том в душе он нисколько не изменился и остался таким же безнадежно самоуверенным, каким был десять и двадцать дет назад, только излишне нервничал, разговаривая с ним.
Во время беседы они, как перипатетики, двигались по роскошной аллее, щедро украшенной весенней зеленью. Но теперь аллея кончилась, дальше в глубь сада вела только узкая тропинка. Для двоих на ней места не было. Ганнибал искоса стрельнул хитрым глазом на Публия и решительно ступил на эту дорожку, опередив соперника в надежде вызвать его недовольство и поколебать душевное равновесие.
Пуниец грубо нарушил каноны античной морали, ибо не ему, а Сципиону как победителю следовало идти первым. Таким поступком африканец показывал, что, вопреки фактам, не считает римлянина победителем. Публий разгадал этот ход и, избегая ловушки, предпринял обходной маневр, стараясь исподволь вынудить Ганнибала признать свою неправоту. Он сказал:
– Так, значит, Александра ты ценишь выше всех как государственного деятеля, и уж, конечно, считаешь лучшим полководцем всех времен?
– Да, именно так, – слегка обернувшись, через плечо бросил Ганнибал.
– Ну а кого поставишь на второе место?
– Пожалуй, Пирра.
– Он же грек!
– Он царь, а у царей нет национальности: они все одной породы.
– Хорошо, а кто же, по твоему мнению, будет третьим?
– Третьим я считаю Ганнибаала, сына Гамилькара.
Тут Публий едва не обиделся. Но он видел, сколь жаждет этого его оппонент, а потому мило улыбнулся и с едва уловимой иронией в голосе произнес роковую фразу, которой запер африканца в логическом ущелье покрепче, чем когда-то Фабий Максим – в самнитских теснинах. Он с коварным простодушием поинтересовался:
– А что бы ты сказал, Ганнибал, если бы я не победил тебя?
Пуниец засветился внутренним напряжением, но, подобно противнику, скрыл свои эмоции и вышел из западни так же ловко, как когда-то в Самнии.
– О, тогда, Корнелий, я поставил бы себя выше и Пирра, и Александра! – с воодушевлением воскликнул он.
Сципион едва не рассмеялся от удовольствия, вызванного такой отчаянной остротой. Он даже не сразу понял, что это высказывание открывало ему сразу и пропасть, и вершину: в прозвучавшей фразе можно было увидеть и презрение к нему, Сципиону, как к пустому месту, ни на что не претендующему, и тут же – узреть высшую похвалу как личности несравненной, одна победа над которой сразу возносит человека над всеми смертными.
– Вот ты тут похваляешься, топаешь как победитель, – после паузы заговорил Публий, – а мне не понятно, как ты можешь гордиться победами, которые в конце концов привели твой народ к краху. Неужели тебе доставляет удовольствие, что твое имя часто мелькает у поэтов и историков, в то время как название «Карфаген» все реже звучит в реальной современной жизни? Неужели возможно считать себя победителем, когда все, кто был с тобою, проиграли?
– Ну, Корнелий, тут тебе явно изменил дипломатический такт!
– Ничуть, Баркид, просто я ориентируюсь на уровень собеседника. Так отвечай же!
– Хорошо, ответ будет столь же острым, сколь и вопрос. Попытаюсь и я приноровиться к уровню оппонента. Слушай же, Корнелий, да только не опьяней от крепких слов: разгадка содержится в самом твоем вопросе и, чтобы извлечь ее на свет, достаточно очистить от шелухи эмоций. Так и всегда надлежит поступать настоящим мужчинам, ибо эмоции хороши лишь для толпы, дабы нам было за что ее ухватить, и для женщин, дабы они могли скрыть отсутствие всего остального. Отвечаю же: я действительно победил, а Карт-Хадашт в самом деле проиграл. Все удачи – плод моих заслуг, все беды – итог глупости и ничтожества карфагенян. Моя же победа огромна! Она заключается даже не в том, что произошло у Требии, Тразименском озере и Ауфиде, хотя и это немало, а в том, какие горизонты я открыл сильным людям. Я показал, на что способна выдающаяся личность, когда оборвет путы, коими связана со стадом посредственностей, и запряжет это самое стадо в свою колесницу. Да, Александр будто бы преуспел, а я вроде бы – нет, но не все так просто. Он сражался с азиатами, каковые уже с рождения – рабы, а я с вами, первобытными дикарями, неукротимыми в своей фанатической преданности стаду, неподвластными не только мечу и копью, но даже – деньгам! Следовательно, мои победы имеют куда большую ценность, чем его. А неудачи, как я уже отметил, целиком на совести, точнее на бессовестности жалких Ганнонов, да Газдрубаалов. Потому я – победитель.
– Бедные Ганноны и Газдрубалы. Ты вспоминаешь о них всякий раз, когда тебе туго в споре, невзирая на состоявшееся признание. А кстати сказать, куда подевался мой давний знакомый Газдрубал, сын Гизгона.
– Его где-то зарезали заговорщики. Точнее не знаю, меня он не интересовал: моего внимания не заслуживает человек, лишившийся всех своих сил.
– Хорошо, вернемся к обсуждению того, кто тебя интересует. Так, значит, ты, Ганнибал, не чувствуешь своей ответственности за Родину?
– Ты смешишь меня, Корнелий, а еще Африканский! Родина для вас, что папенька с маменькой для малого дитяти, вы и на миг боитесь от нее оторваться, а моя Родина там, где я существую и действую, она в моей воле, в моих свершениях, в моих победах! Вот если бы тебя изгнали твои твердолобые латины, так ты через год окочурился б с тоски. И поделом бы было, чтоб проучить тебя, как Павсания! А я, как видишь, здесь и процветаю, и так же грозен, как когда-то, настолько грозен, что вы теперь со страхом смотрите не на Африку, а на Сирию! Моя сила не в финикийцах, а во мне самом, и для меня все равно, будут ли в моем войске ливийцы, галлы или сирийцы, состав не имеет значения – важно, что полководец – Ганнибаал!
– А я бы оскорбился, если бы мне предложили одерживать победы для азиатов. Ведь я – гражданин Рима, а не безродный наемник!
– Ты словно и не слышал того, что я тебе здесь толковал.
– Я слышал. А теперь ты услышь меня, Ганнибал. Я был в Карфагене, я видел ваш сенат, который выплевывает на свет таких вот героев, из среды которого, как ты ни отрекайся, вышел ты сам, твой Гамилькар и сын Гизгона – вопреки тебе, замечу – тоже фигура весьма неординарная, и беда его только в том, что ему не попались Теренции и Фламинии. Так вот, не было перед моими глазами зрелища постыднее, чем явление в наш лагерь под Тунетом вашего совета тридцати. Мои слуги ведут себя куда достойнее вашей знати, а наш сенат посланцы Пирра некогда назвали собранием царей и богов.
– Но никто из этих «царей» не может властвовать, – с горячностью перебил Пуниец, – никто не способен встать над остальными, подчинить их собственной воле и сделать орудием свершения своих великих замыслов.
– Потому мы и все цари, что никто не пытается подчинить других, а наоборот, стремится увлечь, зажечь их своей идеей, целью, ибо тогда они будут действовать на столько же эффективнее, на сколько войско граждан боеспособнее банды наемников – уж этого-то ты не оспоришь!
– Оспорю другое. Пусть кто-то у вас в самом деле умеет убеждать, увлекать и действовать, но при этом он все равно остается лишь одним из многих. Так, что в том проку? Его усилия – Сизифов труд. Я оспариваю смысл вашей системы и утверждаю, что вы не люди, а муравьи и вам не испытать и даже не постичь истинную гордость!
– Поскольку мы все вершим совместно, наша гордость умножается с ростом числа достойных людей. Слава современников присоединяется к подвигам предков, и так она копится столетиями. Каждый из нас сопричастен делам всего народа, всего Рима, дух каждого гражданина объемлет века. Вот истинный размах жизни! Мы воздвигаем громаду, в сравнении с которой отдельный, выброшенный из общества человек – что камень на обочине против подпирающей небеса египетской пирамиды! Нам есть чем гордиться, и гордость наша несет в себе созидательный потенциал, а у таких осколков человечества, каким ты себя изображаешь, вместо гордости – лишь пустоцвет тщеславия!
– Смесь изощренной риторики с воображением наивного юнца! Вот уж где пустоцвет во всем своем цветении и во всей своей пустоте!
– Вот тебе раз! А как же наши победы, Ганнибал? Разве они не свидетельствуют в пользу моих слов? Жизненность наших идеалов и ценностей, Ганнибал, подтверждена в Италии, Сицилии, Испании, Африке и Греции, подтверждена тем, что мы всегда одерживаем верх, подтверждена тем, что побежденные народы не становятся нашими врагами, а вливаются в наше государство. Так что истинный победитель – не бездомный скиталец, авантюрист-одиночка, а римский народ, и он же истинный герой истории!
– Против патетики я бессилен, Корнелий. Уволь! Ты надрываешься передо мною, едва не воздевая руки в священном экстазе, словно я – толпа безмозглой черни, а не Ганнибаал. Давай без эмоций, я тебя уже учил. Вот ты сейчас гордо взираешь на меня с пьедестала твоих побед и стадной морали, но через сто лет уже никто не будет знать о твоих достижениях. «Сражение при Заме?» – скажут: «Было такое». «Кто победил?» – «Римляне». А вот победу при Каннах всегда будут называть Ганнибаловой! Так-то тебе боком выйдет ваш коллективизм! Ну и чем же ты гордишься?








