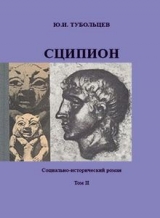
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц)
Потом пунийские старейшины удивлялись такому необычайному духовному подъему и не могли понять, как случилось, что этот вечер для многих из них стал самым интересным в жизни, хотя то был единственный вечер, когда они ни слова не сказали о деньгах. Силясь объяснить этот парадокс, пунийцы, в конце концов, решили, что Сципион просто колдун, и одурманил их гипнотическими чарами.
На следующий день послы в сопровождении высших карфагенских магистратов осматривали город. За более чем трехлетнее пребывание в Африке, Сципион хорошо изучил пунийцев и их страну. Столица же характеризовалась в первую очередь чрезвычайной концентрацией, спрессованностью пунийской жизни. Весь Нижний город, заселенный простонародьем, был превращен в огромный базар, в хаосе которого через торгашеские муки рождался пунийский порядок. Среди этой толчеи и пошловато притязавшей на жизнерадостность пестроты, разрисовавшей разноцветными узорами и орнаментами все от стен многоэтажных домов до хитонов горожан, за мрачными грядами холмов возвышались суровые здания храмов, где до сих пор приносили человеческие жертвы. Почти в каждом храме имелись сложные машины для жертвоприношений, делавшие и без того жестокие обряды еще более устрашающими. Пунийцы были охотниками до всяческих механических чудовищ, клацающих каменными или металлическими челюстями при поглощении жертв; неспроста они, захватив в сицилийской войне пресловутого «быка Фаларида» – изощренное орудие пыток агригентского тирана в виде полого медного тельца, который, хотя и ничем не клацал, но зато здорово ревел, когда в нем жарили людей, – привезли его в Карфаген как великую ценность. Публий и раньше видел зловещие тофеты, разбросанные по всей стране, но в столице жертвенники были превращены в произведения дьявольского искусства и сияли на раскрашенном всеми цветами радуги городском пейзаже величественными провалами в Аид. Смерть здесь выглядела внушительнее жизни.
На вершине Бирсы стоял храм Эшмуна, занимая в Карфагене местоположение, подобное тому, какое было у храма Юпитера Капитолийского в Риме, из чего напрашивалась аналогия и по значению соответствующих богов. Однако Публий так и не сумел разобраться в функциях главы карфагенского пантеона: по рассказам сопровождающих, получалось, что Эшмун представляет собою нечто вроде Эскулапа, а как Эскулап может быть верховным богом государства, он не понимал.
Римляне обратили внимание на то, что в Карфагене не видно ни цирков, ни театров. «Наверное, пунийцам не нужно иных зрелищ, кроме созерцания своих сундуков», – подумали они.
Для того, чтобы осмотреть Мегару, гостям пришлось сесть в коляску, так как этот аристократический район занимал вдвое большую площадь, чем Нижний город и Бирса вместе взятые. Мегара разительно отличалась от перенаселенных плебейский районов и если те выглядели базаром, то здесь был сад. Утопая в зелени, на пологом склоне вольготно разметались роскошные виллы богачей, построенные большей частью по греческому образцу, но с нагромождением всевозможных восточных излишеств. Изредка попадались тут и типично пунийские, старинной архитектуры дома-башни с окошками под крышей. Все это надменное царство богатства было отделено от остального города мощной стеной, чтобы низкая чернь не пачкала тщательно замощенных садовых дорожек пунийского рая своими презренными сандалиями.
Показывая римлянам владения пунийской олигархии, магистраты полагали, что те обязательно пожелтеют от зависти, ведь здесь было известно, в какой тесноте живут сенаторы победоносного Рима и сколь страдают они от близости простонародья. На послов действительно произвела впечатление Мегара, но они стыдились своих восторгов, поскольку в глубине их душ сиял республиканский идеал, в свете которого стена, разделяющая Карфаген, виделась как одна из причин его поражения. Сципион же опять недобро помянул невидимую, но почти непреодолимую границу, отделившую недавно первые четырнадцать рядов римского амфитеатра от остальных мест.
В безупречном ансамбле Мегары был обнаружен только один изъян, которым пунийцы, однако, гордились перед римлянами – это руины разрушенного год назад дворца объявленного вне закона Ганнибала. Сципион поморщился, глядя на немощные развалины, ставшие итогом деятельности могучего человека, и, не сумев ввиду своего характера одобрить поступок карфагенян, а в силу своего положения – осудить его, промолвил нечто о целесообразности взвешенной политики, чтобы гасить внутренние конфликты без применений подобных мер.
Вечером римлян пригласили к себе лидеры партии Ганнона, но Сципион вежливо отказался, пояснив, что намерен встречаться здесь только с официальными представителями государства, чтобы не вносить раскол в ряды карфагенских граждан. В прошлом году, когда пунийская масса пошла за группировкой Ганнибала, римская делегация, наоборот, вела сепаратные переговоры с оппозицией и коварной дипломатией насаждала раздор, но сейчас, когда власть в Карфагене постепенно переходила к угодным Риму силам, было выгодно создавать иллюзию единства интересов всех слоев населения. Как раз гарантом соблюдения этих интересов Сципион и хотел себя представить перед пунийскими гражданами, а потому старался не давать противникам повода для провокаций. Кроме того, польщенный восторженным приемом простого народа, Сципион и в самом деле дорожил авторитетом у пунийского плебса и не желал ронять его какими-либо закулисными играми.
Вскоре прибыли нумидийцы. Самого Масиниссы с делегацией не было. Царь официально через послов объяснил свое отсутствие опасением диверсий со стороны коварных пунийцев как против него лично, так и против его страны, на самом же деле он остался в Цирте потому, что при встрече на высшем уровне труднее уйти от решения проблемы. Как ни стремились увидеться давние друзья, и Сципион, и Масинисса понимали, что из политических соображений им следует воздержаться от непосредственного общения.
Переговоры сразу же пошли в эмоциональном, нервозном тоне. Римляне вели себя спокойно, но контрагентов успокаивать не собирались, дух конструктивности здесь был неуместен. Пунийцы и нумидийцы с равным темпераментом доказывали свои права на спорные территории, которые действительно были спорными, так как на протяжении многовековой истории переходили из рук в руки. Однако в последние десятилетия карфагеняне превосходили военной мощью и нумидийцев, и ливийцев, а потому владели этими землями именно они, что давало им повод считать существующее положение вещей законным. В ответ нумидийцы совершали словесный экскурс на шестьсот лет назад и напоминали пунийцам, что они вообще чужаки в Африке и им ничего здесь не принадлежит, а захваченное силой у них теперь силой же и отобрали. Рассмотрение всевозможных документов от международных политических и торговых договоров до частных контрактов на покупку земли или поставки товаров тоже толком ничего не прояснили.
С точки зрения абстрактной справедливости ближе к правоте казались нумидийцы, как коренные африканцы, но, с другой стороны, пунийцы давно обжили район Лептиса и укоренились в нем, многие жители этой зоны особенно из среды знати ныне говорили на пунийском языке и вели свое происхождение от карфагенян. Вообще, римлянам, которые сами владели Италией, Сицилией, Испанией и Сардинией, была ближе позиция карфагенян, но Масинисса являлся их союзником. Первое выступало как субъективный фактор, а второе – как реальная сила.
Задача посланцев великой державы была не из самых достойных, но и не входила в число сложных: им следовало убедить обе стороны в недостаточности их доводов. Для таких титанов римской политики как Сципион и Цетег, это не составило труда. Когда же карфагеняне попытались возмутиться, Сципион намекнул на картину, увиденную им в порту, отнюдь не свидетельствующую об их честности. Пунийцы смутились, а Публий, развивая успех, уже прямо заговорил о том, как карфагенянами соблюдаются условия, предписанные им победителями, и потребовал, чтобы ему показали внутренние помещения гигантских городских стен. Еще во время войны он узнал от перебежчиков, что в этих стенах оборудованы казармы для наемников, конюшни, стойла для слонов, а также склады и оружейные арсеналы. Не подлежало сомнению, что там и сегодня можно обнаружить не менее любопытные вещи, чем возле военной гавани. Пунийцы заверили Сципиона в фанатически ревностном соблюдении ими римско-пунийского договора и начали улыбаться нумидийцам.
Видя, что они все поняли, Сципион несколько охладел к экскурсии в полости стен, но не отказался от нее совсем, оставив пунийцев под гнетом отрезвляющего от лишних амбиций страха. Он и сам не желал увидеть то, что от него здесь скрывали, поскольку, уличив пунийцев, вынужден будет поставить им невыполнимые условия и тем самым спровоцировать конфликт. Сейчас же первостепенное значение имело не накопление карфагенянами оружия и военной техники, а воспитание их в духе подчинения Риму.
К этой, важнейшей цели Сципион шел весьма уверенно. После его атаки из засады, пунийцы забыли гонор и теперь уже не столько думали о приобретениях, сколько чаяли сохранить то, чем обладали.
Заседание было отложено до прихода делегации из Лептиса. А когда, наконец, прибыла третья сторона и получила слово, всем сразу стало ясно, что пунийцы, делая накачку своим вассалам, слишком переусердствовали. Представители Лептиса рьяно, без какой-либо оглядки на собственную родину, отстаивали интересы Карфагена и тем самым выдали и себя, и карфагенян, обнаружив перед окружающими тайный сговор.
Сципион изобразил возмущение и потребовал организовать выездную комиссию на место событий, чтобы опросить простых жителей и выяснить их отношение к карфагенянам и нумидийцам. Пунийцев охватил ужас, когда они представили, как попранные ими ливийцы будут характеризовать пришлых господ, и они сделались еще покладистее. В это время нумидийцы украдкой стали намекать им, что они смогут договориться с Масиниссой о спорных землях без участия не в меру дотошных римлян, если только не будут очень скупиться. Как только речь зашла о торге, карфагеняне почувствовали себя в родной стихии и приободрились.
Теперь пунийцы хотели поскорее отделаться от римлян и потому предложили не принимать сейчас окончательное решение по рассматриваемой проблеме, чтобы «получше изучить ситуацию». Полагая, что римляне могут не удовлетвориться таким итогом совещания, пунийцы принялись всячески их благодарить и хвалить перед народом за будто бы оказанную ими помощь в состоявшемся примирении с нумидийцами.
В итоге, Сципион, встреченный в Карфагене как герой, и покидал город героем. Он достиг поставленной перед его посольством цели, причем сумел повернуть дело ко всеобщему удовольствию, так, что пунийцы, ничего не добившись, были довольны результатом переговоров и изъявляли ему искреннюю признательность, ибо он не навредил им, хотя выявил немало возможностей для этого. Но при всем том, у Публия было скверно на душе, когда он взошел на палубу своей квинкверемы.
С точки зрения большой политики его поведение было безупречным как по применяемым средствам, так и – что самое главное – по своим целям. Да, он создал этот конфликт между Нумидией и Карфагеном, а теперь сделал его затяжным, как хроническая болезнь, однако при этом все заинтересованные стороны по большому счету только выиграли: Рим избавился от потенциального врага в лице Карфагена, Нумидия получила новые земли и военную добычу, а Карфаген, понеся некоторый ущерб, избежал гибели, неминуемой для него в случае третьей войны с Римом. Издержки формы исполнения своего замысла в виде двуличия и коварства Публий мог отнести на счет несовершенства ойкумены и утешиться тем, что ныне его деятельность более гуманна, чем пять-десять лет назад, а значит, мир, следуя выработанной им идеологии, движется к более разумной организации. И все же любой пунийских простолюдин, узнав всю правду, сказал бы, что Сципион обманул его, а потому воспоминания о восторгах карфагенского плебса, провожавшего делегацию рукоплесканиями, являлись Публию укором.
Чуть позже, когда квинкверема вышла из гавани и начала удаляться от Карфагена, Сципион, глядя на темнеющий в туманной дымке гигантский человеческий муравейник, поймал себя на мысли, что ему небезразлична судьба этого города, как небезразлична и участь Нумидии, Испании и Греции. Прежде Публий жил интересами только одного Рима, и в этическом плане все было проще, теперь же он вместе со своим Отечеством вышел на средиземноморский простор, и с изменением масштаба деятельности вырос масштаб его личности, но еще более усложнились стоящие перед ним задачи, в том числе, и нравственные.
В думах об этом он провел большую часть времени пути, что облегчило ему тяготы дороги, но не сняло тяжесть с души.
Прибыв в Рим, Сципион отправил письмо Масиниссе, в котором поздравил его с блестяще проведенной операцией. Вскоре он получил ответ с подобными же поздравлениями в свой адрес.
8
В отсутствие Сципиона в Риме началась очередная атака против его соратников. Консул Луций Корнелий Мерула в упорном кровавом сражении одолел бойев и потребовал, как то было заведено, триумф. Его победа имела не большее и не меньшее значение, чем достижения Марцелла, и других галльских триумфаторов, но фамилия консула возбуждала Катона, как хиосское вино, и, оседлав любимую тему о злоупотреблениях знати, Порций галопом ринулся в атаку на Мерулу, а заодно и на всех прочих Корнелиев. Вопрос о триумфе сделался предметом жаркой дискуссии.
Любимая катоновская тема всегда находила отклик у сограждан, ибо знать действительно злоупотребляла, злоупотребляла социальным положением, богатством и силой своей кастовой сплоченности. Особенно возросло влияние нобилитета в ходе Пунической войны, когда именно сенат, взяв на себя руководство государством после катастрофических поражений ставленников плебса, сумел мобилизовать все ресурсы Республики для отпора врагу и привести народ к победе. Завоеванный в те годы авторитет сенаторы теперь использовали в собственных интересах, преследуя порой корыстные цели. Разобщенная масса плебса, лишившаяся лидеров и дискредитированная, не могла выступать в качестве организованной оппозиции, и ее безысходное недовольство создавало переполненный, клокочущий ненавистью резервуар отрицательной общественной энергии, из которого некоторые политические деятели черпали силу для реализации своих амбиций. Особенно ловко это получалось у Катона, научившегося вовремя открывать кранчики людских душ и ядовитой струей их страстей обдавать идеологических противников.
Вот и теперь Порций рьяно нагнетал социальную напряженность, крича в уши всем и каждому, что Корнелий жаждет почестей за пять тысяч погубленных им италийцев. «Так пусть он идет к галлам и справляет триумф у них, потому как его победы на руку варварам, но никак не нам!» – гневно восклицал он.
Надоумило Катона провести эту акцию ставшее известным ему частное письмо Клавдия Марцелла к одному из сенаторов. Марцелл служил легатом в галльской провинции и, страдая от невозможности повторить отцовское достижение пятикратного консульства, ревниво присматривался ко всем нынешним консулам. С великим удовлетворением он находил всяческие изъяны в действиях полководцев и старался внушить окружающим, будто он, Марцелл, подобного промаха не допустил бы. В присущем ему стиле Клавдий раскритиковал поведение Корнелия Мерулы в битве с бойями. По его мнению, консул запоздал с вводом в бой резервов и несвоевременно дал команду на преследование отступающего врага, в результате чего римляне понесли чрезмерный урон, а галлы успели спастись в лесу.
Увидев, сколь успешно Катон разрабатывает «галльское дело», Фульвии, Валерии и Клавдии снова на некоторое время подружились с забиякой, тем более, что его затея не только грозила авторитету Корнелиев, но и давала шанс лишний раз отличиться принципиальностью их другу Марцеллу. Вдохновленный неожиданной удачей, Марк Клавдий сочинил целую серию писем, подобных тому, которое возбудило шум, и веером рассыпал их по курии. Дюжина сенаторов ходила меж скамей палаты заседаний и с обличительным пафосом потрясала табличками «вскрывающими правду о консуле».
Мерула решил срочно прибыть в Рим, чтобы лично навести там нужный ему порядок. Через своих столичных друзей он упросил второго консула Минуция Терма передать ему право проведения выборов, выпавшее Минуцию по жребию, и с этим поводом явился на Марсово поле. Встреча с сенаторами поначалу не предвещала ему ничего хорошего, и тогда за дело взялся корифей интриг в штабе Сципиона Квинт Цецилий Метелл. Метелл выступил будто бы против Мерулы и, раскритиковав его горячность, порекомендовал сенату отложить вопрос о триумфе до прибытия в столицу Клавдия Марцелла, якобы за тем, чтобы, выслушав обе стороны, принять взвешенное решение, выгодное не консулу или легату, а самой справедливости и, следовательно, государству. Такой мерой Цецилий рассчитывал притушить конфликт на период предвыборной борьбы, этапом которой он, несомненно, и был задуман противниками. В таком случае враждебная группировка потеряла бы политическую инициативу на время избирательной кампании, а затем, после выборов, триумф Мерулы уже никого, кроме плебса, не интересовал бы, и он получил бы возможность без особого сопротивления осуществить свою мечту. Ненавистники Корнелиев в ответ погремели грозными словами и смирились, поскольку возразить Цецилию было нечего, однако они дали понять, что их злоба – не благовония и от времени не выдохнется, а потому триумфу Мерулы не бывать.
Вообще, Рим встретил Сципиона по его возвращении из Карфагена недобрым молчанием. Только Катон выказал ему свое неослабное внимание и принялся будоражить народ рассуждениями о том, как Сципион затянул конфликт между Карфагеном и Нумидией вместо того, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией и разом покончить с извечным врагом. Именно тогда он и произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу о том, что Карфаген должен быть уничтожен. Но плебс не желал войны с Карфагеном, а потому злословие Порция оказалось менее эффективным, чем обычно.
Единственным отрадным событием для Публия стал успех Луция Эмилия Павла в исполнении эдилитета. Вместе с коллегой – молодым энергичным молодым человеком Марком Эмилием Лепидом – также представителем лагеря Сципиона, Павел раскрыл очередную махинацию предпринимателей и осудил многих раззолоченных преступников за спекуляции взятыми в аренду государственными землями. Совсем недавно состоялся суд над банкирами, жиревшими благодаря прорехам в законах по части ограничения ссудного процента на стыке прав римских граждан и латинян, теперь же на скамье подсудимых оказались не менее упитанные скотопромышленники, также нашедшие щели в здании государства, через которые можно было сосать кровь народа. На вырученные деньги эдилы украсили храм Юпитера и соорудили два портика. Простые люди по достоинству оценили деятельность обоих Эмилиев и были благодарны им как за обуздание алчности, так и за благоустройство города.
Жена Сципиона давно протежировала брату и терзала Публия пуще Катона, требуя обеспечить для него скорейшее восхождение на консульский пьедестал. Сципиону и самому нравился рассудительный и честный Луций, казавшийся, правда, несколько медлительным в поступках и мыслях, но очередь кандидатов на должности, включавшая героев африканской и испанской кампаний, а также столичный политический авангард, не позволяла Публию найти для него вакансию, кроме участия в аграрной комиссии. И вот теперь Эмилий Павел, наконец-то, достиг первой курульной должности и, отличившись при ее исполнении, сделал заявку на успешное продолжение карьеры. Эмилия торжествовала, но при своем гоноре она не могла долго чему-либо радоваться и вскоре начала еще агрессивнее атаковать мужа. Сципион пообещал, что в течение четырех-пяти лет предоставит Луцию вожделенное для нее консульское кресло. Такой срок вызвал у женщины крайнее негодование. Она попрекала его, в частности, стремительной карьерой Тита Квинкция. «Фламинина ты сделал консулом прямо из квесториев, а Луция томишь уже десять лет! Значит, тебе какой-то Квинкций дороже собственной жены! – возмущалась она, с истинно женским талантом источая яд всеми порами своего существа. Публий пытался отшутиться, говоря, что и саму ее возведет в консулы или назначит диктатором, если только она раньше не затравит его до смерти своими претензиями, но ничего не помогало, и тогда он резко сказал: «Ищи себе мужа, который сделает это быстрее». Тут Эмилия опомнилась и притихла, но эта фраза оставила глубокую трещину в их отношениях.
К предстоящим выборам Сципион подошел более серьезно, чем в предшествовавшие годы. В консулы он наметил Публия Корнелия Сципиона Назику и Гая Лелия, а в качестве резерва выдвинул Гнея Домиция Агенобарба и Мания Ацилия Глабриона. Были еще кандидаты от нейтральных фамилий, а именно: Луций Квинкций Фламинин и Гай Ливий Салинатор. Устрашенная массированным наступлением партии Сципиона оппозиция на этот раз не выставила своих соискателей, заранее отказавшись от борьбы.
Сципион и его товарищи, будучи уверенными в успехе, строили грандиозные планы на будущий год, намереваясь как следует осадить Антиоха. Но то, что оказалось не под силу недругам, смогли сделать друзья: в борьбу со Сципионами вступили Квинкции.
Тит Квинкций недавно справил триумф за великую победу, и его брат, служивший у полководца легатом, имел право рассчитывать на высшую магистратуру, тем более, что претура была им пройдена несколько лет назад. Квинкции торопились воспользоваться свежей славой, пока ее благоуханный аромат еще не выдохся на ветру времени, и сделали заявку на консульство. Правда, увидев ход принцепса, они сникли и поставили себе задачей хотя бы обозначить Луция как претендента, чтобы к следующему году он получил своего рода право давности на заветную должность. Однако нежданно-негаданно к ним пришла помощь от преторско-эдильской массы сената и плебса. Это старался Катон. Порций не мог открыто выступить за Квинкциев, чтобы не дискредитировать себя как врага нобилей, да те и не приняли бы его услуг, потому он действовал через друзей, а сам оставался в тени, храня неестественное для него беспристрастие. Поддержка низкородных сенаторов не очень польстила кичливым Квинкциям, а вот к проявлениям народной воли они прислушивались внимательно.
Чаяния народа сформулировали в обшарпанном, скромном до неприличия таблине Катона всяческие Порции, Титинии, Лицинии Лукуллы, Петилии, Невии и Актеи, затем выработанные лозунги провозгласили на форуме кучки их клиентов, действуя и порознь, и вместе. «Не хотим Сципионов! – кричали они. – Хотим Квинкциев! Сципионы – это наше прошлое, а Квинкции – настоящее и будущее! Нет возврата во вчерашний день, обратим взоры вперед!» Неорганизованная плебейская масса насторожилась и через час-другой подхватила чеканные фразы о будущем, ибо кто же захочет пятиться назад, в прошлое! Скандирование фамилии победителя Филиппа воодушевило солдат балканской экспедиции, еще не успевших разбрестись по родным селениям после триумфа и прогуливающих жалованье в столичных трактирах. Несколько тысяч этих молодцов обосновалось на форуме и, ревниво следя, чтобы на площадь не проник кто-либо из чужих, громогласно восхваляло своего императора.
Фабии, Фурии, Валерии и Клавдии тоже приободрились и, не сумев пробиться к консулату, утешались теперь местью Сципиону, всячески содействуя его соперникам. Причем не столь продуктивна была их прямая помощь, сколь эффективным оказалось возбуждение тщеславия Квинкциев. Они то и дело подзуживали братьев, насмехаясь над их зависимостью от Сципионов, или, наоборот, выражали им притворное сочувствие по этому поводу. «Как же так? – сокрушенно сетовали Фульвии и Валерии. – Деянья вы творите большие, а почет вам меньший». «До каких же пор будут царствовать в Риме Сципионы?» – гневно откликались Фабии и Клавдии.
Первым заболел горячкой тщеславия более простоватый и грубый Луций, который в свою очередь обрушился на Тита, обзывая его клиентом Сципиона. «Вспомни рукоплескавшую и боготворившую нас Грецию! – возмущенно обращался он к брату. – А кто такой Сципион? Победитель каких-то варваров!» Тут залихорадило и Тита. Он вообразил себе, как вдруг превзойдет в чем-то самого Сципиона Африканского, и голова его закружилась, а из глаз посыпались искры. В тот момент он понял, что уже давно жаждет этого, только прежде таил сокровенную мечту в глубине души, прикрыв ее сознанием долга перед благодетелем. Теперь же он с загадочной, неопределенной улыбкой, празднуя победу над самим собою, вышел на форум и стал открыто агитировать за брата. Люди, видя, как к ним обращается с просьбой недавний триумфатор, расчувствовались до сладких слез. Тот, кто только что возвышался над ними в триумфальной колеснице, ныне открыто выказывает свою зависимость от них, в чем-то признает их превосходство над собою! За такую утонченную лесть плебс мог согласиться на что угодно. Так иные готовы рабствовать, лишь бы их называли господами.
Сципион не хотел просить того, чего мог потребовать по праву. Поведение Фламинина вполне соответствовало римским обычаям, и соотечественники не усматривали в нем ничего недостойного. Но Публий перерос обычаи и не желал пресмыкаться даже перед всесильным римским народом. По его мнению, люди должны внимать доводам, а не бросаться вслед за порхающими эмоциями, и ценить прямоту, но не гибкую лесть. Он тоже выступал на форуме, но не просил за Назику, а доказывал его права на консульство и целесообразность избрания на высший пост в столь тревожный для государства период выдающегося человека. Характеризовать Сципиона Назику было легко, ибо еще в юности его признали лучшим гражданином, и в таком качестве он встречал в торжественной процессии символ Матери богов, доставленный из Малой Азии, а в зрелом возрасте в ранге претора одержал значительные победы в Испании.
В первый момент, когда Сципион узнал об активности Тита Фламинина, он хотел пригласить его к себе, чтобы открыто обсудить с ним возникшие затруднения и совместно выработать кадровую стратегию на ближайшие годы. Квинкций ныне стал заметной политической фигурой, и Публий признавал это, будучи готовым сотрудничать с ним почти на равных. Но Тит избегал Сципиона: сограждане чрезмерно раздули их соперничество, возвели его в принцип, и он страшился любого компромисса, боясь уронить свою честь. Отчужденность Фламинина, вызванную растерянностью и смущением, Сципион сгоряча принял за проявление надменности и оскорбился. Он отказался от мысли о личных контактах и с мрачной решимостью ринулся в бой. Такая враждебность в свою очередь отрицательно подействовала на Тита и избавила его от угрызений совести, он раскрепостился и заблистал всеми гранями своего дипломатического таланта, очаровывая соотечественников столь же успешно, сколь недавно – греков.
Но однажды противники все же неловко столкнулись на форуме в присутствии большого числа зевак. Сципион, морщась от досады, попытался молча пройти мимо, понимая, однако, что тем самым легализует ссору с Квинкцием и распространит ее за пределы предвыборной борьбы, но тут Фламинин неожиданно для самого себя, не вполне осознавая, делает ли он ловкий политический трюк или совершает действительно благородный поступок, шагнул прямо к Публию и улыбчиво поприветствовал его. Усердно скрывая радость, Сципион ответил менее доброжелательно, чем хотел. После первых традиционных фраз о здоровье, Тит сказал:
– Похоже, Публий, предвыборный ажиотаж вырвался за пределы разумного, и в народе бушуют нездоровые страсти.
– Весьма похоже, Тит, – согласился Сципион, пока еще не догадываясь, чего хочет собеседник, – весьма похоже, что страсти нездоровые, ведь многие от них бледнеют, а другие перестают краснеть.
Фламинин тонко улыбнулся с видом эстета, оценившего остроту, и продолжал:
– Может быть, нам, Публий, утихомирить этот поток эмоций, перегородив часть русла, чтобы воды людских желаний текли размеренно и спокойно? Может быть, мне, Публий, посоветовать брату Луцию снять свою кандидатуру и потерпеть до следующего года?
В толпе, собравшейся вокруг них, пошел гул, в котором смешались удивление, восторг и возмущение, но шум тут же стих, ибо уши, сколь это ни поразительно, одолели уста: все напряженно ждали ответа.
– Ну что ты говоришь, Тит, – внушительно сказал Сципион, честное соперничество лучших людей – важнейший источник совершенствования государства. Стремиться к почету у сограждан и к власти ради самореализации – дело благородное… Я ни в коем случае не рекомендовал бы Луцию отступать. Да, и потом, разве допустимо лишать народ возможности выбора достойнейшего из достойных?
– Ты успокоил меня, Публий, – удовлетворенно заметил Квинкций. – а то мы с братом сомневались: способны ли мы претендовать на столь высокое место, имеем ли право на такую честь… Но теперь, после одобрения наших планов таким великим авторитетом, мы будем смелее.
– Будьте смелее. Конечно, вы способны, – холодно подтвердил Сципион, – вспомни, как ты сам стал консулом, всем на удивление вознесшись на вершину прямо из квесториев.
Только что возликовавший Тит снова осекся от этого напоминания об услуге, оказанной ему Сципионом, и примолк, закусив губу. А Публий пошел дальше.
Сципион тоже не понял поступок Квинкция: было ли это продуманное коварство или добрый порыв, при исполнении которого Тит немного слукавил. Но как бы там ни было, шаг Фламинина, оказался очень удачным. Если бы подобный разговор состоялся в атрии или столовой Сципиона, итог, скорее всего, был бы противоположным, но на форуме Публий никак не мог дать Квинкцию иной ответ. Народ же воспринял этот жест как проявление высшего благородства и готов был вопреки законам избрать в консулы даже двух Фламининов сразу.
С этого дня состязание Сципионов и Квинкциев развернулось с особой широтою, как бы получив на форуме официальное одобрение народного собрания. Теперь даже Катон не стерпел позы нейтралитета и открыто, на виду у всех, рванулся в самую гущу битвы. Его набухший ядом язык более не мог помещаться во рту и искал уши сограждан, чтобы влить в них отраву. Причем если Квинкции в меру приличий хвалили себя и не говорили ничего дурного о Сципионах, то Катон со своими многочисленными единомышленниками не упоминал вовсе о Квинкциях и говорил только плохое о Сципионах.
Чем дальше люди отходят от своей природы, основанной на морали субъектов коллективного отбора, чем мельче они дробят духовное величие на множество разновидностей ползучей хитрости индивидуального приспособленчества, тем сильнее они ощущают где-то в забытых глубинах души собственное ничтожество. Не оттого ли они с мучительной страстью рядятся в пурпур и парчу, что тщатся скрыть внутреннее убожество? В безумной мании бежать от самих себя, они жадно хватают символы престижа и гордостью за свои дворцы и золотые россыпи стремятся заглушить презрение к самим себе как таковым. Но отчужденные элементы престижа добавляют им вес лишь в глазах подобных же страдальцев, а потому не дают полноценного удовлетворения. Успокоение же этим несчастным, страждущим над собственными пороками, приносит лишь злорадство, утверждение во мнении, будто все люди родственны червям. Слова «подвиг», «герой» и «гений» крушат их низколобые черепа страшнее топоров, все возвышенное терзает их, преследует кошмаром до тех пор, пока они не вымажут его родною грязью и не обратят в посмешище. Великое им не доступно, они пресмыкаются перед многочисленным. У них психология вырождения, их эгоистические идеалы несут глобальную гибель. Когда категория таких людей начинает преобладать в составе какого-либо сообщества, оно умирает, становясь добычей соседей. Однако то, что на развалинах вырастают новые цивилизации, свидетельствует о реальности понятий «подвиг», «герой», «гений» и их первопричины – патриотизма как высшей ценности.








