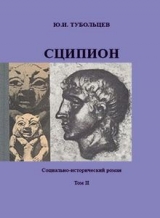
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 43 страниц)
Назавтра Филипп намеренно сильно запоздал якобы потому, что перебирал в уме все уступки, каковые намеревался сделать грекам, и попросил позволить ему в целях экономии времени объясниться один на один с консулом. Греки долго возмущались такой просьбой, и вечер уже замаячил на западе розоватыми оттенками небес. Под угрозой полного срыва переговоров римские союзники смирили гонор, и состоялась аудиенция полководцев. Этот разговор, ввиду отсутствия помех со стороны, продолжался недолго, и по его окончании Квинкций сразу же объявил грекам результат. Царь действительно соглашался на многие требования противоположной стороны, хотя, конечно же, не на все. Так, например, он выражал готовность отдать ахейцам Аргос и Коринф. В качестве итога одного года не особенно сложной войны достигнутое соглашение могло считаться вполне приемлемым. Но, увы, греки больше обращали внимание не на то, что им возвращали македоняне, а на то, что они оставляли себе. Перед их несговорчивостью обращались во прах все дипломатические усилия римского консула и македонского царя. Тогда Филипп, возможно, по тайному совету Квинкция, предложил отправить послов в Рим и окончательно решить все вопросы в сенате. Этолийцы и ахейцы заподозрили в пожелании царя некое опасное плутовство и уступили лишь уговорам Фламинина, напомнившего им, что наступающая зима в любом случае прервет боевые операции и лучше использовать неблагоприятное время для переговоров, чем потерять его впустую.
Пока посольство македонян, греков и делегация из штаба Квинкция добирались в Рим, там прошли выборы магистратов. Высшую должность народ вверил Гаю Корнелию Цетегу и Квинту Минуцию Руфу. Оба консула принадлежали к ближайшему окружению Сципиона, но оба они не вняли увещеваниям принцепса, а также своего друга, и изъявили претензию на командование в Македонии.
В данном случае помощь Сципиону пришла из оппозиционного лагеря от плебейских трибунов Луция Оппия и Квинта Фульвия, посчитавших кандидатуру Квинкция более приемлемой для себя, чем Корнелия или Минуция. Ввиду их протеста, рассмотрение вопроса было передано из Комиций в сенат. В Курии очень постарались посланцы Фламинина, которые не столько занимались обслуживанием переговоров сената с македонянами и греками, сколько рекламировали летние успехи своего полководца. При поддержке Сципиона им удалось убедить сенаторов в том, что балканская кампания идет нормально и не следует мешать Квинкцию довести начатое дело до конца. В итоге оба консула получили назначение в Италии, а Фламинин в ранге проконсула остался в Греции.
Разговор с царскими посланцами продолжался недолго. Обильное словоблудие македонян не ввело в заблуждение сенаторов, быстро раскрывших суть этого предприятия Филиппа, состоявшего в том, чтобы еще раз произвести разведку в стане врага и одновременно отвлечь римлян от войны. Люди Квинкция по достижении главной цели тоже перестали интересоваться диалогом с противником. Таким образом, дипломатическая миссия исчерпала себя, выполнив скрытые задачи и оставив без внимания провозглашенные. Римляне потребовали от македонян полного освобождения Эллады и с тем отправили их на родину. Умы государственных мужей всех стран, задействованных в балканском конфликте, вновь обратились к войне. Приближалась весна.
Тит Квинкций Фламинин за год вполне освоился в Элладе и намеревался сразу же с началом летней кампании приступить к решительным действиям. Однако, прежде чем двинуться на саму Македонию, следовало обеспечить себе надежный тыл, то есть заручиться дружественным расположением всей Греции. Большая ее часть уже была связана с римлянами узами договоров, договоренностей, а также наличием италийских гарнизонов в одних городах и власти проримской аристократии – в других. Последней крупной силой Эллады, все еще ориентирующейся на Филиппа, оставалась Беотия.
Эта страна из-за своего срединного, стратегически важного местоположения в Греции и доступности ввиду отсутствия на ее территории естественных природных укрытий издавна была лакомой добычей для всех завоевателей, и ее население привыкло покорствовать силе и служить иноземным царям. «Римляне прибыли издалека, они пришли и уйдут обратно, а Македония располагается рядом», – рассуждали беотийские вожди и склонялись к тому, чтобы выказать верность Филиппу. «Но зато в настоящий момент римляне находятся ближе македонян», – вспоминали они, и это заставляло их колебаться.
Квинкций вознамерился при помощи хитрости помочь беотийцам определиться с выбором и таким путем избавить их от мучений натужных раздумий. Он окружил себя множеством греческих посольств, взял для охраны чуть более сотни солдат и с такой пестрой, далеко не воинственной свитой направился прямо в столицу беотийского союза Фивы. Увидев с городских башен проконсула, излучавшего миролюбие, подтверждаемое отсутствием войска, фиванцы, и прежде наслышанные о прекрасных человеческих качествах Фламинина, восхитились римлянином и толпою вышли за ворота, дабы достойно встретить гостя. Пока Квинкций раскланивался с беотийцами и говорил им любезности, подтянулись две тысячи легионеров, следовавших в миле от полководца и прежде скрытых за извивами дороги. С ними Квинкций и вошел в город, делая вид, будто именно в таком сопровождении его и пригласили жители. Фиванцы оторопели от случившегося трагического недоразумения, но ввиду безвыходности тоже делали вид, что все происходит как раз так, как они того желали. Обосновавшись в городе, Фламинин любезно предложил беотийцам провести союзное совещание. Легионеры даже с зачехленными щитами и вложенными в ножны мечами выглядели весьма представительно, и греки с готовностью исполнили просьбу консула. На собрании вначале, как обычно, выступили делегации эллинских союзников римлян, а сам Квинкций лишь добавил несколько слов о справедливости, честности и нравственности своего народа. Услышав с трибуны, сколь благодатен для греков приход на Балканы римлян и, посмотрев еще раз на приветливых легионеров с мечами в ножнах, беотийцы единогласно постановили заключить союз с Римом. После этого проконсул поблагодарил фиванцев за гостеприимство и покинул город, не оставив в нем ни единого италийца, чем еще раз удивил греков. Отныне никто и ничто не препятствовало римлянам идти на Македонию, кроме самих македонян.
Тит Квинкций двинул свое войско в Фессалию. Поспешив миновать опасный Фермопильский проход, римляне замедлили марш и далее шли, соблюдая осторожность, так как стало известно, что царь, мобилизовав все наличные силы Македонии, выступил им навстречу. Обе стороны были настроены на генеральное сражение. Фламинин второй год планомерно приближался к этой цели, и весь ход войны теперь направлял его к ней. А Филипп в принятии аналогичного решения руководствовался не столько стратегией, сколько политическими и экономическими факторами. Его государство было истощено войной, ресурсы страны почти иссякли, а в то же время агрессивные соседи – фракийцы, иллирийцы и другие дикие народы – пользуясь трудностями Македонии, участили набеги на ее территорию. Такое положение дел вынуждало Филиппа торопиться с битвой.
Встретившись, противники некоторое время совершали маневры, стараясь занять более выгодную позицию для боя. Римляне то и дело затевали стычки с врагом, чтобы спровоцировать македонян на сражение в пересеченной местности. Филипп умело уходил из римских ловушек и в ответ предлагал собственные версии решающей схватки. Однако вскоре царь понял, что ему необходимо найти более удобный для своей фаланги район действий, и быстрыми переходами устремился к югу, намереваясь заманить неприятеля на фессалийские равнины. Квинкций кратчайшей дорогой пустился в погоню. Оба войска двигались параллельно по разные стороны горного хребта, который и римляне, и македоняне использовали как прикрытие от внезапного нападения. Фламинин продолжал засылать легкую пехоту и всадников к вражескому стану, чтобы препятствовать маршу противника, но Филипп каждый раз немного опережал римлян и успевал уйти.
Но вот однажды непогода задержала македонян в пути, и легионы настигли их. Правда, и в этом случае римлянам не удалось застать неприятеля врасплох. Царь занял господствующие высоты сильными отрядами, и воинам Квинкция пришлось вступить в бой в неблагоприятных условиях. Вскоре македоняне начали одерживать верх. Это раззадорило их и подвигло на новые дерзания. А Фламинину только того и было надо. Вначале в деле участвовали триста его всадников и тысяча пехотинцев, теперь он послал к вершинам хребта в качестве подкрепления вдвое большие силы. Тут уже стало худо македонянам, и они запросили помощи у царя, дабы успешно завершить удачно начатую схватку. Филипп откликнулся на этот призыв. Несколько тысяч солдат, брошенных им в жертву ради милости Ники, склонили богиню победы на его сторону. Римляне на холмах терпели неимоверные трудности и находились под угрозой полного уничтожения, когда подоспело очередное подкрепление из расположенного внизу лагеря. С изменением соотношения сил, вновь изменился ход битвы. Перед царем встал выбор: бесславно потерять свой авангард или рискнуть всем войском в надежде на большую победу, казавшуюся в тот момент совсем близкой благодаря локальному успеху его вспомогательных частей. Филипп раздумывал недолго: он зашел слишком далеко как в части действий, так и в своих чаяниях, чтобы ни с чем возвращаться к исходному состоянию.
Так, через несколько часов после того, как завязалась на первый взгляд рядовая стычка, шло уже грандиозное сражение, решающее судьбу почти двадцатилетнего спора Рима с Македонией. Тит Фламинин добился главной тактической цели: навязал противнику битву на неровном рельефе в местности, непригодной для традиционного применения македонской фаланги. Однако за это он заплатил тем, что поставил свое войско в крайне неудобное положение, обязав воинов атаковать неприятеля снизу, взбираясь по крутому склону навстречу массивному вражескому строю, ощетинившемуся тысячами устрашающих сарисс. Кто больше выигрывал от столь неоднозначных, противоречивых обстоятельств начала боя: Тит Квинкций или царь Филипп – должны были показать дальнейшие события. Македоняне имели и дополнительное, моральное преимущество, поскольку по суммарному итогу одолели италийцев в схватке на самом хребте. Но их воодушевлению успешно противостояла римская воля, делающая легионера неуязвимым для страха и опасных сомнений в самых сложных ситуациях.
Филиппу удалось построить фалангу на правом фланге, на другом же крыле фалангиты еще только подтягивались на передовую разрозненными группами. Римляне не дали времени сопернику для полного построения и атаковали его по всему фронту. Бросив слонов на левый край македонян, Фламинин окончательно смешал ряды не успевших изготовиться к схватке копьеносцев. Но Филипп этого не видел. Он возглавлял боеспособную часть фаланги, которая, выставив смертоносные сариссы, обрушилась с холма на первую линию легионеров и смяла, а затем растерзала ее. Несчастных гастатов поддержали принципы, и отступление римлян замедлилось. Однако это был предел их возможностей. Монолитный вражеский строй продолжал наступать, круша все живое перед собою. Он походил на гигантское чудовище, ранящее сразу тысячи людей своими бесчисленными жалами и сталкивающее тысячи остальных в низину, чтобы раздавить их там. И все же римляне не предались панике и, уступая жестокому натиску, отодвигались на тыловые позиции организованно, реализуя заранее продуманную тактику. Они то смыкали, то размыкали ряды, рассыпаясь на манипулы, то отступали, то бросались вперед, стремясь расстроить вражеские шеренги. В какой-то степени это им удавалось, и результатом их усилий было выигранное время, каковое в полной мере использовали их соратники на другом фланге. Там римляне, дружно напав на едва успевших перевалить через горную гряду македонян, навязали им ближний бой, в котором грозные сариссы были лишь помехой. На этом участке схватка шла по римским законам, а потому царское войско несло страшный урон, и только особенности местности, препятствовавшие бегству, заставляли разрозненные группы македонян оказывать сопротивление. Очень скоро на правом фланге римляне оттеснили неприятеля к вершинам хребта. Линия фронта изогнулась уступом, а вокруг центральной зоны битвы, где выясняла отношения тяжелая пехота, возникли многочисленные очаги мелких стычек между вспомогательными подразделениями. От римлян в них участвовали нумидийцы, этолийцы, афаманы, критяне и италики, а со стороны македонян – фракийцы, иллирийцы и греческие наемники. Насколько хватало глаз, склон горной гряды был расчерчен разноцветными узорами войск. Сражение распалось на отдельные схватки, на первый взгляд будто бы не зависимые друг от друга, но имеющие взаимосвязь через фактор времени и суммарно реализующие главную идею битвы.
Римская армия располагала сравнительно автономными тактическими единицами. Легион, когорта, манипул и даже центурия или турма могли функционировать как в общем строю, так и самостоятельно. Соответствующим образом были подготовлены и офицеры самого различного ранга. У македонян же гигантская фаланга в шестнадцать тысяч копьеносцев представляла собою единое подразделение, и некоторая инициатива допускалась только для вспомогательных отрядов. В тех условиях, в которых проходило сражение, царь не имел возможности уследить за всеми событиями, а фаланга не была монолитной. Следовательно, македонское войско билось стихийно, против своих правил. У римлян дело обстояло по-иному, и хотя в существовавшем сумбуре не могло быть полного порядка, в целом они планомерно шли к поставленной цели.
Разгромив копьеносцев на правом фланге, римляне зашли в тыл победоносным воинам Филиппа, и часть фаланги, сохранявшая до тех пор организованность на царском фланге, мгновенно рухнула под их ударами. Увы, сколь грозен был македонский строй с фронта, столь беспомощным он оказался против фланговых и тыловых атак. Громоздкая фаланга с трудом разворачивалась даже на учебном плацу, в боевых же условиях, да еще на неровной местности успешность подобного маневра была абсолютно исключена.
С реализацией главного тактического замысла, римляне разгромили македонян в одночасье. Победа была полной. Около трети царского войска погибло, а остатки армии потеряли боеспособность. Филипп спешно бежал в собственную страну и вскоре прислал к проконсулу парламентеров просить пощады.
Греков это событие потрясло. Полтора столетия находясь под властью македонян, они привыкли благоговейно смолкать при имени македонского царя либо раболепно возносить своему земному владыке восхваления и молитвы, как божеству. Мощь македонян представлялась им явлением запредельным. И вдруг на Балканы приходят представители простого бедного народа с загадочным характером, давно забытой здесь моралью и непостижимыми целями, ведомые обаятельным, улыбчивым молодым человеком, и наголову разбивают Македонию. Ужасавшая весь Восток фаланга оказывается против этих простачков, не знающих ни софистики, ни роскоши, ни половых извращений, совершенно беспомощной, подобной огромному неуклюжему животному, клыки которого никак не способны защитить необъятную голую тушу от зубов маленького ловкого хищника.
Задумываясь над фактом победы римлян, греки невольно спрашивали себя: кто же мы в таком случае, если сто пятьдесят лет терпели рабство? Вопрос больно язвил самолюбие и, желая избежать укоров совести в собственном ничтожестве, они решили, что не римляне одолели македонян, а сами боги, непредсказуемая судьба сломила Филиппа. Однако вскоре этолийцы подсказали еще более выгодное с точки зрения нравственной адаптации объяснение происшедшего: это они, этолийцы, четыреста всадников которых участвовали в авангардной стычке с легкой пехотой Филиппа на холмах в завязке сражения, решили исход дела; именно они, измотав царские полчища, обеспечили окончательную победу римлянам. Греки необычайно воодушевились новой версией и охотно поверили в нее, поскольку это льстило их тщеславию. В самой нестандартности сражения, его неровном течении, рваном ритме они узрели случайный характер римской победы, не поняв, что внешняя неорганизованность действий римского войска явилась воплощением высшей организации. Повсюду восхвалялись этолийцы, слагались песни и гимны в их честь, правда, при этом все же упоминались и римляне. «Четыреста славных сынов Этолии при некоторой поддержке двадцати пяти тысяч римлян сокрушили македонскую мощь!» – надрывались глашатаи, поэты, актеры и жрецы на площадях, в театрах, палестрах и храмах Эллады.
Так измельчавшие за период македонского рабства греки продемонстрировали неспособность оценить чужую доблесть и тем самым показали, что справедливость присуща лишь тем, кто имеет истинное духовное величие и внутреннюю силу, не нуждающиеся в услугах лицемерия, будь то отдельные личности или целые народы.
Римляне были несколько удивлены и обижены такой реакцией Греции на их победу, тем более, что этолийцы отличились не столько в битве, сколько в разграблении македонского лагеря, который они обобрали, присвоив себе общую добычу, пока легионеры бились с царской фалангой. Имея дело с такими людьми, теряешь желание творить добро, ибо справедливая общественная оценка является главным, а в конечном итоге и единственным стимулом для совершения справедливых поступков. Но все же римляне не придавали особого значения поведению греков, относясь к нему с такими чувствами, с какими взрослые, умудренные опытом люди смотрят на ребячества детей, радующихся маленьким удовольствиям жизни. Основная цель данного этапа оказалась достигнутой, и если не греческий, то римский народ обязательно воздаст должное деяниям своих героев, а этого воинам было вполне достаточно, чтобы ощущать живительное тепло в груди и гордо смотреть на мир.
Гораздо важнее споров по поводу дележа славы были разногласия во взглядах на дальнейшую судьбу Македонии и Греции. Тит Фламинин настаивал на первоначальном требовании к Филиппу – освободить Элладу, но греки после победы преобразились, как хищники, почуявшие запах крови. Их притязания резко возросли, а этолийцы открыто требовали низложения Филиппа и ликвидации Македонии как государства.
Квинкцию не составило труда разобраться в сущности происходящего. Этолийские вожди были не так просты, как это представлялось другим грекам. Они имели конкретную цель и планомерно шли к ней сразу с нескольких направлений. Во-первых, этолийцы старались максимально расширить свои владения за счет присвоения земель соседних народов, покушаясь в частности на Фессалию на том основании, что когда-то она была ими захвачена; во-вторых, требовали уничтожения Македонии; и, в-третьих, вели широкомасштабную пропаганду своих действительных, а еще более – мнимых успехов и заслуг в войне. То есть они намеревались через посредство римлян увеличить собственное государство, сокрушить главного конкурента на Балканах и таким образом превратиться в господствующую силу Эллады, чтобы под флагом героев-освободителей греческих народов подчинить себе многострадальную Грецию, занять место Македонии. Квинкция ни в коем случае не устраивала подобная перспектива. Как образованный человек, ценитель эллинской культуры, он не желал для Греции хозяина, подобного Этолии, а как римский политик – не хотел чрезмерного усиления этой своенравной, заносчивой федерации. Поэтому с тонким тактом и ловкостью проконсул повел кампанию по дискредитации этолийцев перед остальными греками. В этой связи всплыли вопросы о захвате ими общей добычи, об их тщеславии и вероломстве. Создав вокруг этолийцев отрицательный эмоциональный фон, Квинкций затем аргументировано отверг их политические претензии. «Македония служит вам щитом от воинственных варваров, – внушал он грекам, – ее нельзя уничтожать, а надлежит органично включить в мозаику Балканских государств». «Фессалийские города большей частью сдались нам добровольно, – говорил Фламинин по второму пункту дискуссии, – народ римский не может предать в чье-либо рабство людей, вверивших ему свои судьбы». Подобными речами Тит Квинкций убедил основную массу греков в собственной правоте, и боровшиеся с ним этолийцы теперь уже вошли в противоречие с земляками. Так стал назревать раскол между важнейшими политическими силами Греции.
Заручившись доверием и поддержкой большинства союзников, Тит повел переговоры с македонянами самостоятельно, поскольку отлично понимал, что с многочисленными греками, желания которых рождаются в области воображения, а не в сознании, договориться невозможно. Сначала он встретился с царскими послами, затем с самим Филиппом. Царь мужественно признал поражение и принял все условия проконсула. Были отправлены македонские послы в Рим, и наступило перемирие.
Греки, привыкшие бесплодно спорить и враждовать веками, несказанно удивились быстрому достижению согласия, и по оголенным холмам Эллады поползли гаденькие слухи, сочиняемые этолийцами. «Припертый трудными обстоятельствами к заветному сундуку Филипп вынужден был поднять крышку и высыпать содержимое царских закромов в мешок Квинкция, – нашептывали они, ибо не могли постигнуть иных доводов в решении какого-либо дела, кроме взятки. – Вот они какие, римляне! Пришли сюда утверждать справедливость, а сами, как и мы, поддаются соблазну подкупа! – восклицали этолийцы уже в полный голос. А чуть тише добавляли: – Только берут они гораздо больше нас». При этом глаза у них наливались желчью зависти.
Пока в Греции происходили такие значительные события, политическая жизнь в Риме неспешно заходила на новый виток. Перед выборами к Сципиону пришел Марк Клавдий Марцелл и обратился к нему за поддержкой. Несмотря на то, что между Корнелиями и Клавдиями существовало соперничество, часто переходившее во вражду, Сципион ладил с Марцеллом. Их добрые, хотя и не дружеские отношения завязались еще во времена консулата Публия, когда Марк гостил у него в Сицилии в составе сенатской комиссии. Сципион с готовностью одобрил кандидатуру Марка Марцелла в консулы, отчасти, исходя из понимания того, что тот пройдет на должность и без его помощи уже благодаря одной только любви народа к прославленному отцу соискателя, отчасти из-за желания расширить круг своих сторонников путем вовлечения видных людей оппозиционного лагеря в проводимую им политику, и, наконец, просто он считал Марцелла человеком, достойным высшей магистратуры. Однако Марцелл несколько слукавил: когда Публий уже пообещал выступить в его поддержку, он заявил, что станет исполнять консулат только в паре с Луцием Фурием Пурпуреоном и ни с кем другим. Таким образом, выяснилось, что Марцелл ходатайствовал не столько за себя, ибо в своих силах он был уверен, сколько за товарища. Отдавать сразу оба консульских кресла конкурирующей партии не входило в намерения Сципиона, но отступаться от данного слова ему не приличествовало. Итак, Публию пришлось благосклонно отнестись к представителям враждебной группировки, но все же он сумел извлечь из этого пользу и для своих целей. Во-первых, такой шаг позволил ему выступать как надпартийному деятелю, выражающему общегосударственные интересы, и внедрять в политическую жизнь Республики собственные идеи в качестве насущных нужд всего народа римского, а во-вторых, отдав соперникам высшую магистратуру, он легко провел своих людей в преторы, эдилы и трибуны. Как раз тогда получил должность претора его верный друг Гай Лелий.
Больших военных предприятий в наступающем году не намечалось, так как уже было известно о победе, одержанной под империем Тита Квинкция, что также явилось одной из причин лояльности Сципиона к соперникам. Несмотря на это, новые консулы сразу по вступлении в должность заявили претензию на власть в Македонии. Но они ничего не добились, поскольку Рим в целом был настроен миролюбиво. Балканская кампания уже решила свою задачу; Македония, ослабленная войной и отсечением от нее Греции, более не угрожала Риму, а потому здравомыслящая часть сената и почти весь народ высказались за прекращение боевых действий и мир с Филиппом. Такое решение дополнительно инициировалось еще и тем, что на политическом горизонте снова сгущались тучи. Назревала война с Антиохом, который захватил азиатские территории Птолемея и теперь угрожал Родосу и Пергаму, вожделенно поглядывая и на материковую Грецию.
Однако активность консулов привела к тому, что македонская проблема встала перед римскими политиками в ином аспекте. Фурий и Клавдий обосновывали необходимость продолжения борьбы с Филиппом до полного покорения Македонии соображениями о вероломстве царя и скрытых возможностях его страны, в силу которых плоды достигнутых успехов могут быть утеряны, едва только легионы оставят Балканы. То есть их доводы походили на высказывания этолийцев и столь же легко могли быть опровергнуты. Оказалось вполне достаточным Сципиону привести в пример Карфаген, сделавшийся, благодаря умело заключенному договору, союзником римского народа, чтобы убедить сенаторов в действенности дипломатических и политических мер для обуздания агрессивных тенденций в мире. Но как только разум сенаторов получил удовлетворительное разрешение своих сомнений, в них вдруг заговорил голос чрева – именно так следует назвать особый, доселе неизвестный интерес римлян к завоеваниям. Победившие войска, вернувшиеся из богатых стран Африки, Сицилии и Испании, доставили на родину несметную добычу и показали согражданам, сколь выгодна может быть война с точки зрения наживы, причем доход приносили не только прямые грабежи побежденных, но и управление подвластными территориями, эксплуатация местного населения. Влившись в Рим, иноземные богатства существенно подпитали социальный слой средних рабовладельцев. Многие всадники вошли в разряд сенаторов, а многие рядовые сенаторы поднялись до уровня нобилей. Конечно же, деньги не открывали прямого пути в сословие знати, но позволяли отворить скрипучую дверь черного хода, ведущую во дворец аристократии грязными подземными коридорами. И вот теперь преторско-эдильская масса, жаждущая любыми средствами увеличить собственную значимость, чтобы пробиться к консулату, узрела в Греции неисчерпаемый источник обогащения, а потому звучно высказалась за продолжение войны до полной победы над Македонией и за образование провинции на уже завоеванной части Эллады.
Типичным и, как вскоре выяснилось, самым ярким представителем этой группировки, имеющей солидную поддержку также и за пределами Курии, был Марк Порций Катон, который со временем возглавил ее и образовал из нее третью силу сената. Сейчас Катон, только что вернувшийся из Сардинии, где он, исполняя претуру, прославился староримскими добродетелями, провел первую масштабную атаку на идеологию Сципиона. Он экспрессивно призывал сенаторов дорожить результатами побед и не разбазаривать достояние Отечества, вкладывающего огромные средства в войну и не получающего взамен ничего, кроме морального удовлетворения. «Что же это получается?! – восклицал он. – Мы развернули гигантское предприятие на Балканах, мы трудились, мы сражались, совершали подвиги, мы несли материальные и людские потери, мы победили!.. И вдруг, уходим, уходим ни с чем, уходим, оставив результаты наших усилий Филиппу, Антиоху или кому-то другому, кому угодно, только не своим согражданам! Кто же, вспахав поле, засеяв его, вырастив богатейший урожай, пролив семьдесят семь потов, в сезон жатвы вдруг все бросает и возвращается в свою хижину грызть коренья? Будто бы никто?.. Ан нет, так поступают наши славные нобили, краса и гордость Рима, наши Корнелии Сципионы, Корнелии Лентулы, Корнелии Цетеги, Корнелии Мерулы, Корнелии Малугинские, Корнелии Блазионы и… опять Корнелии, и снова Корнелии! Что же, их можно понять: они здорово поработали в Африке над сундуками пунийцев. Какой им резон устраивать балканские дела, тем более, что плоды македонского урожая достанутся не им, а истинным героям кампании! Конечно, им совсем ни к чему, чтобы другие люди сравнялись с ними славой, властью и размерами имущества. Им совсем не нужна Македония! Но сенат состоит пока не из одних Корнелиев! Не из одних Корнелиев состоит народ римский! У нас есть свой интерес. Да, увы, римский народ посмел в пику принцепсу иметь собственный интерес, и он будет его отстаивать, ведь он – народ римский!»
«Отцы-сенаторы, – заговорил в ответ Сципион, – здесь только что во множестве гремели риторические вопросы, но претор забыл спросить себя, а именно к себе он и обращался, вот о чем: кто же вырастив урожай, срезает пшеницу вместе со слоем почвы, взрастившей ее? Кто собирает яблоки, спилив яблоню? Кто вырубает виноградник, чтобы добыть грозди? Задумавшись над этими вопросами, он понял бы, что если мы станем грабить и обращать в рабство соседние народы, то ничем не будем отличаться от галлов и прочих варваров, а значит, в скором будущем нас постигнет их участь, мы уничтожим все доброе вокруг себя, и наша жизнь станет варварской. Но мы не галлы и даже не пунийцы, хотя многие и пытаются уподобиться им, мы – римляне. Издревле наше государство отличалось от прочих бережным отношением к побежденным. Мы не стремились возвыситься над ними, взгромоздившись на их плечи, но наоборот, поднимали их до своего гражданского уровня. Рим включал в себя побежденные народы, впитывал их культуры. Так он рос, таким путем он пришел к нынешнему могуществу. Не будем же пускаться теперь в обратном историческом направлении по дороге, ведущей к дикому хищничеству.
«Зачем, – спрашивают вас, – такая победа, которая не дала ни новых территорий, ни подвластных народов, ни добычи?»
А зачем какой-то человек оказывает благо своему ближнему, не требуя за это ни добычи, ни его участка, ни рабских услуг? Он поступает так, чтобы поддержать хорошего человека и нейтрализовать плохого, чтобы жить ему среди добрых людей, а не дурных, пользоваться их уважением, а не страшиться ненависти, гордиться почетом, а не гнуться под игом презрения.
Теперь снова вернемся к возмущению претора. Вот как оно звучит в открытую: «Как же так, мы откликнулись на призыв греков, помогли им против Македонии и за это не ограбили их, не обратили в рабство?»
А почему, – в свою очередь спрошу я его, – у государства должны быть более мелочные, более низменные интересы, чем у каждого его гражданина в отдельности? Почему общество в целом должно быть хуже всякого конкретного человека? Почему все люди вместе должны быть корыстнее, ничтожнее и, в конечном счете, глупее, чем кто-либо из их совокупности?








