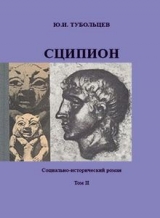
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 43 страниц)
Еще и еще раз перечитав труды греческих мудрецов и поразмыслив над собственным опытом, Сципион пришел к выводу, что не все определяется государственным устройством, что порок может проникать в общество снизу или со стороны, минуя властные структуры, и поражать непосредственно самих людей, которые затем портят и государство. Его интерес с политики переключился на нравственность, и он принялся изучать уже не полисы в эпоху их распада, а граждан этих полисов. Когда-то его занимали лишь политики и полководцы, но теперь он обратился к остальным людям, стремясь выяснить, кем они стали и в чем искали спасенья для своих страждущих душ.
Образцы мировоззрения мыслящего эллинистического человека были даны в учениях основных философских школ той эпохи. С немыслящими все обстояло проще и скучнее: они являлись слепыми функционерами, всецело подчиненными окружающим условиям, рабами злобной мелочной страсти наживы, и ныне, по прошествии лет, могли привлечь внимание разве что могильных червей или древесных корней, питающихся перегноем тех, кто сгнил еще при жизни.
Сципион, как и большинство римлян, всегда тяготел к стоицизму, однако сейчас, в период второго рождения интереса к Греции, увлекся киниками. На изломе эпох у него возникла потребность пересмотреть взгляды на человека и общество, произвести переоценку ценностей, а именно этим в свое время занимались киники. Когда рушились греческие государства, разлагалась коллективистская полисная мораль, и по трупам растоптанных человеческих душ властно шагало богатство, обращающее в рабство знатных и простолюдинов, молодых и старых, мужчин и женщин, у людей, избежавших петли этого завоевателя, возникло резкое неприятие всего окружающего. Им претил новый порядок, устанавливаемый алчностью, но и прежние ценности, на которых выросла античность, казались смехотворными и вызывали скептицизм. Любовь к Родине, честность, справедливость, жажда подвига и славы – все то нравственное оружие, которое сплачивало людей общины и способствовало их восхождению из дикости животного мира к высотам человеческой культуры, ныне было изгнано из практической жизни. Утратив опору в существующей реальности, эти нормы человеческого взаимодействия бесплотным призраком повисли в душах людей, смущая их совесть своею вечной, неистребимой красотой и приводя в замешательство рассудок бесполезностью и даже вредоносностью для адаптации в имеющихся бытовых условиях. Благородство стало помехой для достижения успеха в порочном обществе, а потому утратило жизненную силу и превратилось в словесную ширму, прикрывающую суетную низость, в завесу лицемерия, под покровом которой ползучая корысть творила свою гнусность, и именно в этом качестве оно было отторгнуто честными людьми.
Киники отвергали государство, ибо им довелось узнать лишь карикатуру на него. Монархия предстала перед ними как тирания, аристократия явилась взору в форме олигархии, а демократия – в отталкивающем образе разнузданной охлократии.
«Тиран хуже палача: второй казнит преступников, а первый – невинных людей», – говорили они и тут же нападали на демократию, то есть на власть большинства: «Лучше сражаться среди немногих хороших против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших». Высмеивая народные собрания, уже давно выродившиеся в сборища толпы, основатель кинизма Антисфен советовал афинянам принять постановление: «Считать ослов конями», – а в ответ на их удивление пояснял, что подобным образом они простым голосованием из невежественных людей делают полководцев. В своем политическом пессимизме они заявляли: «Мудрец живет не по законам государства, а по законам добродетели», – и называли себя гражданами всего мира. Одновременно с отрицанием государства оказалось упраздненным и понятие Родины. Потому, когда кто-то из подвергшихся остракизму посетовал, что умрет вдали от Отчизны, Диоген Синопский успокоил его такими словами: «Не печалься, глупец, дорога в Аид отовсюду одинакова».
Но основной удар своей саркастической горечи киники направили, конечно же, на главное зло, то самое, которое, позволяя жиреть отдельным людям, губит человечество, которое, вздувая чрево, сушит мозги, сеет раздор и войну, зависть и злобу, которое во главе всего ставит порок и неразлучное с ним преступленье. «Ни в богатом доме, ни в богатом государстве не может быть добродетели. Стяжатель не может быть хорошим человеком. Богатство по сути своей аморально», – гласила их мудрость. Страдающие одышкой от пресыщенности всевозможными благами богатства «хозяева жизни» вызывали брезгливое презрение философов. Так, когда Диоген увидел, как раб одевает и обувает здоровенного господина, словно тот был беспомощным младенцем или дряхлым стариком, он насмешливо бросил рабовладельцу: «Ты был бы совсем счастлив, если бы слуга за тебя еще и сморкался!»
Безжалостный скептицизм киников был созвучен разочарованию Сципиона, и их острые изречения, ударяя Публия в самое сердце, скалывали с него болезненные наросты и очищали душу. Однако им удалось заглянуть в такие дебри человеческой порочности, о каких Сципион и не подозревал.
Устрашающую картину морального разложения людей их звенящим желтым господином изобразили поэты этого философского направления: «Людей покинула Совесть, и они из каждого камня готовы выдавить прибыль. Всякий ищет, где бы пограбить, и бросается стремглав в воду и плывет к своей добыче, готовый утопить на пути друга, брата, жену. Для этих людей нет ничего святого, они, не задумываясь, превратят море в сушу, а сушу – в море ради низкой выгоды. Эти люди перевернули нашу жизнь. Ведь некогда священная Справедливость ушла и никогда больше не вернется. Процветает неверие, а вера покинула землю. Бесстыдство стало сильнее Зевса. Низость господствует над людьми. Будь проклята нынешняя жизнь и презренны все люди, живущие такой жизнью. Они тащат откуда только могут, и нет для них ни близкого, ни дальнего. Закон их не страшит. Как люди могут жить среди таких зверей…»
Так глубоко в человеческую трагедию Сципион до сего времени не заглядывал. Риму предстояло еще двести лет падать в пропасть, прежде чем достичь столь зловонного дна. Поэтому он на некоторое время забыл о собственных бедах и с головою погрузился в страдания греков. Как ни велики были несчастья Сципиона, их едва достало на то, чтобы он смог оценить знаменитый символический поступок Диогена.
«Народу много, а людей нет, – говорил философ и, пробираясь белым днем с зажженным фонарем в руках сквозь городскую толпу, возвещал: «Ищу человека». – Чудовищный приговор! История не знает более жестокого и горького упрека людям, забывшим о самих себе и подчинившимся вещам.
«Люди находятся в рабстве у своих желаний, – констатировали киники, – моральное же рабство хуже физического, оно надевает цепи на всех». Придя к такому выводу, они стремились снять с себя эти «цепи» и узрели путь к освобождению в избавлении от желаний. Верно определив, что пороки и несчастья приходят к людям через неразумные потребности, которые деформированной психологией вырождающегося общества возводятся в ранг главных целей и удовольствий жизни, они, тем не менее, не сумели отделить искусственные потребности, привнесенные в мир людей из хлама вещей, от естественных, духовных ценностей, коими общество питает людей, взращивая в них личность. Поэтому киники отрицали все подряд: и материальные богатства, которые искажают взаимоотношения между людьми, выхолащивают их жизнь, и богатство человеческого общения, радости совместного созидания; а только совместное созидание, благодаря оценке окружающих, окрашено эмоционально и потому способно приносить радость, а не злорадство. Чем меньше желаний, тем меньше связей, тем свободнее человек! – решили они, не подумав при этом, что идеальной свободой при таком подходе будет смерть, действительно избавляющая от всяческих связей.
Абсолютизируя свободу, киники лишались доброго и злого и как бы самоустранялись из общества и жизни. Не имея возможности преобразовать мир, они преобразовали свои взгляды и оценки, а это явилось своего рода приспособленчеством. По сути, философия кинизма была лишь уходом, бегством от жизни, трусостью пред социальными бедами, безвольным протестом самоубийцы, что никак не могло привлечь деятельную натуру римлянина. Поэтому, закончив блуждание по трансцендентной стране кинизма, Сципион возвратился в действительность с чувством человека, очнувшегося от фантасмагорического сна, который, потирая отяжелевшую голову, пытается припомнить, где и в какой компании – дурной или хорошей – он был накануне.
Итак, погрустив над участью человечества вместе с киниками, но не найдя у них положительной программы действий, без которой римлянин не может быть римлянином, Сципион снова возвратился к стоицизму.
Это учение при такой же резкой критике пороков зашедшей в тупик цивилизации, какая проводилась киниками, все же не отвергало целиком общественную жизнь и государство, благодаря чему вызывало гораздо большее доверие римлян, нежели другие философские системы. А при ближайшем рассмотрении идеология стоиков и вовсе показалась Сципиону будто специально созданной для него, а точнее, для всех оскорбленных и несправедливо изгнанных. Наверное, так и было в самом деле, ибо мыслящие люди той эпохи и впрямь чувствовали себя изгнанниками в опьяненном жаждою наживы обществе, где жизнь проходит в хмельном чаду разнузданной вакханалии Алчности.
Стоик взрастил в себе высокий дух и потому во всех житейских невзгодах имеет несокрушимую опору в самом себе, он умеет довольствоваться собою, а значит, не зависим от окружающего. Стоик постиг космическую мудрость, и все желания, влечения и удовольствия обывателей видятся ему ничтожно-мелкими. Он не отрицает таких ценностей как сила, здоровье, стремленье к продолжению рода, любовь к детям, но смотрит на них свысока, считая животными ценностями, поскольку они присущи и животным. Истинно же человеческим качеством является способность различать добро и зло и, исходя из этого, исполнять свой долг, который состоит в том, чтобы жить в согласии с природой, не выпадая из начертанного ею маршрута рывками низких страстей. Впрочем, по мнению стоиков, все страсти низкие, так как порочна всякая неумеренность, нарушающая плавность вселенского движения.
Итак, стоик – это сильная, самодостаточная личность, осененная знанием высшего смысла бытия. Его не могут вывести из равновесия беды и радости человеческого муравейника, ибо душа его парит высоко над землей и касается лучей божественного разума.
Взгромоздившись на этот идеологический Олимп, Сципион обозрел римский форум и едва рассмотрел там дрыгающиеся подобно блохам точки, обозначающие бестолковый и злобный плебс. Укрывшись на этой вершине от несправедливости и порочности общества, Публий провел несколько спокойных дней и впервые за последний год вкусил нормальный сон.
Но, увы, недолго довелось Сципиону покоиться в умиротворяющем ложе стоической отрешенности. Он провел жизнь совсем не в таком государстве и не в окружении таких людей, спасаясь от которых, стоики карабкались в заоблачные страны. Вспоминая Испанию и Африку, вспоминая пустынную равнину между Замой и Нараггарой, на которой почти не было травы, зато пышным цветом произросла римская слава, вспоминая лица тысяч сограждан, вдохновленных любовью к Родине и взаимным уважением и доверием, Публий терял очертания стоической добродетели. В такие периоды ему казалось, что все греческие мудрецы вместе взятые не стоят одного римского солдата. В трагические дни, последовавшие за каннским побоищем, Сципион видел десятки сенаторов, только что потерявших своих сыновей, которые твердой поступью выходили на форум успокаивать сограждан и дежурили там дни и ночи, словом и мужеством собственного примера укрепляя веру людей в победу. Он смотрел им в глаза… Как можно было ему после этого поверить, будто люди мелки, и дела их ничтожны?
Сползая с макушки возведенной из словес горы самоуспокоения, Сципион стал судорожно хвататься за все подряд, чтобы не оказаться вновь в темном ущелье пессимизма. Усомнившись в идеологическом итоге стоицизма, он возвратился к истокам ученья, чтобы проследить, как и из чего образовалось стоическое мировоззрение.
«Вселенная – одно большое живое существо, – говорил Клеанф, – ее душа – Бог, а сердце – солнце», – это было весьма созвучно интуитивному представлению Сципиона о мироздании. «Бог – активная составляющая Космоса, творческая разумная сила природы, – развивали свои взгляды стоики. – Эта сила формообразует косную, аморфную материю, подчиняет ее собственной разумной воле. Бог же всемогущ. Он все знает, все предвидит и сознательно ведет мир к благой цели».
Таким образом, Космос движется к прогрессу, Вселенная постоянно совершенствуется. Именно это убеждение позволяет стоикам равнодушно взирать на людские беды и мириться с окружающей неустроенностью. В самом деле, если все в целом превосходно, то стоит ли страдать из-за несовершенства отдельных частей? Кроме того, человек мал, ему не постичь божественный замысел, и то, что на земле воспринимается как зло, с небес, с глобальных позиций Вселенной, возможно, видится благом, и даже должно выглядеть благом, коль конечный итог – торжество добра.
Из такого представления о мире с неизбежностью следует пассивное, созерцательное отношение к жизни. Видимое зло ничтожно, да к тому же и обречено, бог всемогущ и не нуждается в помощи людей, а сами люди являются игрушкой судьбы, ибо все заранее предопределено замыслом творца. Вот в таких взглядах и кроется неземное спокойствие стоиков, такие мысли одурманивают их ум и усыпляют сердце, благодаря чему они равно презрительно щурятся и на суетящегося в грошовых заботах торгаша, и на отстаивающего справедливость оратора, и на спасающего Родину героя.
«Стоицизм – философия уставших духом, – решил Сципион, тщательно обдумав все прочитанное. – И, по сути, отличие стоиков от киников невелико: хотя те ведут себя, как собаки, а эти – как боги, одни смотрят на жизнь со стороны, другие – сверху, однако и первые, и вторые находятся вне ее, вне жизни, они самоустранились».
Сципион усмотрел и некоторые противоречия в учении стоиков. Так, если Вселенная идет по пути прогресса к совершенству, то почему по истечении мирового года, исчисляемого стоиками в десять тысяч восемьсот лет, мир гибнет в хаосе космического пожара, чтобы затем возродиться вновь? Где справедливость, если гибнет совершенное, и почему мир гибнет, если он достиг совершенства, ведь разрушение начинается там, где есть изъяны? И зачем богу наделенные сознанием и душою люди, если он всемогущ? Зачем создавать столь изощренные существа, если не использовать их в своих целях, то есть в утверждении всемирного добра? И вообще, зачем всемогущему что-то упорядочивать и совершенствовать, если он в силу своего могущества сразу способен создать совершенное?
«Нет во Вселенной всемогущих сил, а есть извечная борьба добра и зла, – пришел к выводу Сципион. – И задача людей – не прятаться от жизни и общества из опасения запачкаться, а идти в самую гущу толпы и силой добра против сил зла утверждать справедливость так же, как и долг солдата – не рассуждать во время сражения в стороне, а биться с врагом в первых рядах».
Однако, что мог Сципион извлечь лично для себя из этого прозренья, за которым, впрочем, не стоило далеко ходить, ибо оно дается традиционным римским воспитанием? В полном согласии с такой позицией Публий Африканский прожил сорок восемь лет своей жизни, но теперь произошла катастрофа и для него, и для Рима. В нынешних условиях он не может действовать, оставаясь самим собою, но и не желает изменять самому себе в угоду пороку века. Он не знал, как ему быть дальше, но одно понял точно: спасительные идеологические конструкции хитроумных греков не способны затмить его здравый ум, который был воспитан реальной деятельной жизнью.
После блужданий по миру греческой философии, Сципион вернулся к своему одиночеству еще более опустошенным, чем был прежде. Он понял, что поиски так называемого высшего смысла затеваются тогда, когда теряется смысл реальной жизни. Однако, спустя некоторое время, он опять обратился к грекам. Стоики разворошили в нем некую потайную область души, открыли новый интерес, и он стал по ночам с пристрастием всматриваться в звездное небо. Немало страждущих во все века искало утешенья в этом величавом зрелище, стараясь рассеять свои беды в необъятном просторе Вселенной и напитаться космической энергией, источаемой тревожным сиянием звезд. Евдокс и Аристотель мало дали его жаждущей высшего познания душе, и потому он снова развернул свитки Платона.
Сципион и прежде разделял представление широкоплечего Аристокла о глобальной идее, связующей и одухотворяющей мир, но не мог согласиться с тем, что воспринимаемая людьми жизнь – всего лишь царство теней, как и сами люди. По его мнению, вселенская идея не существует обособленно, а находится внутри материального мира, как это прослеживается, например, в учении стоиков, где Бог – созидательная сила самой природы, и пронизывает собою все предметы. Образ пещеры, в которой лицом к стене в полутьме сидят люди и смотрят на проплывающие черные плоские тени, коими предстает им высший, цветной и объемный мир, движущийся за их спинами, противоречил мировоззрению Сципиона и не принимался им. Эта гениальная попытка Платона вырваться на простор четырехмерного мира из нашего, лишенного гармонии трехмерного с небольшим добавком пространства, каковой является всего только громоздкой проекцией – четырехмерного, была чужда римлянину, жившему нуждами общества, пока общество не отторгло его. Но теперь, лишившись привычных связей, обеспечивавших его ориентацию в жизни, и одновременно ощутив на себе дыхание непостижимого для сознания рока судьбы, он почувствовал особую глубину мира и понял, что тот не исчерпывается видимыми явлениями.
Впрочем, нет трех, четырех или пятимерных пространств, мир один, и он бесконечен и неизмерим, но существуют различные уровни его реализации и постижения: трехмерное, каково состояние неживой природы; трехмерное с довеском в виде времени, как для животных; трехмерное уже с двумя плюсами, характерное для человека, восприятие которого расширено за счет памяти, разума и общественного образа жизни, и представляет собою сумму проекций, образованную как впечатлениями его собственной жизни, так и опытом прошлых поколений и перспективами – будущих. Просматривается в нашей жизни и существо с четырехмерным охватом мира, которым, по всей видимости, является судьба, поскольку она определяет жизнь человека в целом, вместе с прошлым и будущим, однако не всесильна и доступна противоборству со стороны очень крепких духом людей. А вот платоновское «Единое» – глобальная мировая идея, возможно, представляет собою разум пятимерного организма, в который все мы включены, как клетки, а наши судьбы – как нервные узлы, из чего напрашивается вывод, что вечно противостоящие у нас друг другу «идеальное» и «материальное» являются всего лишь разными проекциями одной и той же истины более высокого порядка, двумя тенями одного предмета. Однако что проку рассуждать о высших ипостасях Вселенной, если люди не способны должным образом устроить свои взаимоотношения здесь, на земле, если они не только не продвигаются вперед по пути человечности, но даже, наоборот, утрачивают взаимопонимание, которое было присуще их предкам?
Наверное, о чем-то подобном размышлял Сципион, когда отложил в сторону свиток Платона и устал смотреть на звезды. Но увы, что не нашло реализации в обществе, то безвозвратно кануло в бездну небытия, по крайней мере, для нас, трехмерных. Как бы то ни было, известно, что эллинские идеи не смогли вернуть Сципиона ни к политической деятельности, ни к научной, к которой он имел склонность в годы активной жизни. Значит, совершив круг по ниве человеческой мудрости, взращенной цивилизацией ко времени его века, Сципион опять пришел в исходную точку.
Эмилия шла к разочарованию своей дорогой. С момента приезда в Литерн она была активна, как краснощекий вольноотпущенник, плетущий финансовые интриги против недавнего господина с целью воздать за оказанное благодеяние присущим истинно рабским душам способом, и даже компания, в которой она вращалась, была подобна тем, в каких обитали такие вольноотпущенники: ее окружали всевозможные дельцы-проходимцы и проходимцы-бездельники. Но, хотя вкладываемые ею в обустройство усадьбы средства растекались потайными ручейками лжи и махинаций, что-то оставалось и на само строительство, то есть коэффициент полезного действия бизнеса был еще далек от единицы. Дело продвигалось, радуя не только вампиров-деньгососов, но и хозяйку. Громоздились этажи и пристройки, капали с потолка и стен произведения малярного искусства, желтели и серебрились в обширных покоях хищные металлы, пожиратели людской чести и достоинства. По мере нагнетания роскоши Эмилия становилась все говорливее. Она возбужденно оповещала мужа о достигнутых успехах, заставляя его синеть от чрезмерного терпения, и безжалостно сулила грядущие победы над камнем и штукатуркой. Наконец ее страсть, которой она пыталась заглушить растущую в глубине души неудовлетворенность затеянной возней, достигла апогея, и она с треском выгнала прочь всю сволочь, паразитировавшую на ее предприятии. Накал эмоций был столь велик, что Эмилия впервые за несколько лет вспомнила о своей женской природе и расплакалась.
Когда Сципион попытался высказать жене не совсем искреннее сочувствие, она усилием воли в миг высушила глаза и с гордым презрением изрекла:
– Что проку наводить в доме лоск, если этого все равно никто не увидит!
– А разве тебе самой роскошь не нужна? – вновь не без вынужденного лицемерия поинтересовался Публий.
– Долгое время я была уверена, что только мне и нужна, а на мненье остальных – наплевать. Но оказалось, все наоборот: мне наплевать на само золото, а радует меня, как, думаю, и всех богачей на свете, лишь завистливый блеск, которым оно отражается в глазах окружающих.
После некоторой паузы Эмилия проникновенно посмотрела на мужа и совсем другим, доверительным тоном чуть ли не со священным ужасом произнесла:
– Ты знаешь, я вдруг потеряла интерес к своим украшениям… не перед рабами же мне щеголять в этих самоцветах? Удивительное дело, теперь они мне совсем не кажутся красивыми. Выходит, их красили восторги моих подруг, без коих все это – лишь осколки битого камня, хоть и отшлифованные. И вообще, я думаю, что, если бы глина была редкостью на земле, а рубины валялись под ногами, модницы вешали бы на шею глиняные черепки и при этом замирали бы от восхищения. Я в растерянности… что же нам ценить и как нам жить?
– Пойдем, – сказал Публий, подавая руку жене.
Она устало облокотилась на него, и он повел ее в дом, где на стенах буйствовали всевозможные боги и цари, намалеванные подряженными ею художниками.
– Вглядись в эти картины и поведай, что ты видишь, – попросил Публий.
– Ничего, – презрительно скривившись, ответила Эмилия, – глупая мазня и только.
– Правильно. Это продукт творения рабского духа, помешанного на атрибутах искусственного возвышения и подчинения. Тут мир изображен условным языком общества, утерявшего естественные ориентиры, языком, призванным обслуживать обывателей, привыкших опираться на какие-то знаки, символы. Например: они видят трон, значит надо благоговеть; на троне в неловкой позе, изображающей несуществующее достоинство, громоздится хищная фигура – это объект величайшего поклонения, символ высшего земного благополучия; а перед ним распростерлись в униженных позах нищие – тут нужно корчить презрительную гримасу – это неудачники. Вот развернутое полотно битвы, и опять все ясно: здесь господа жизни – бравые победители, а на противоположном полюсе трусливые, ничтожные побежденные. А эта уединившаяся на темном фоне фигура с неестественно толстым лбом есть мудрец, им восхитится обыватель, претендующий на титул оригинала и книгочея.
– Ты права, Эмилия, – подтвердил он, – все это – помпезная мазня, созданная на основе схемы приспособления к культуре общества, заключенной в сознании мелких людей, не имеющих души – инструмента для распознавания настоящих ценностей. А теперь взгляни сюда. Эта картина, изображающая кораблекрушение, выполнена неправильно с точки зрения профессионала, и в Пергаме или Эфесе ее автора обязательно бы засмеяли. Однако какое выражение глаз у несчастного утопающего, как отчаянно он вздымает руки! И не столь уж важно, что одна из них, если ее распрямить, окажется длиннее другой… А как накренился разбитый корабль! Нам кажется, что сейчас водяной вал швырнет его прямо на наши головы! Но самое поразительное здесь – пенный гребень над крутою волной, который вот-вот захлестнет беспомощную жертву. Присмотрись, ведь у этого темно-синего мазка с белыми вкраплениями есть лицо, у него лицо жестокого злодея! Признай, картина не может оставить равнодушным, ибо здесь запечатлена жизнь, сгусток настоящих человеческих эмоций.
– А сейчас пройдем в спальню, – пригласил он ее к продолжению экскурсии. – Смотри, по твоей прихоти стойки ложа украшены массивными резными золотыми сферами.
– Мне стыдно, Публий.
– Да, из этих сфер на нас тусклым желтым оком щерится наглое богатство и только. Но теперь представь, что ложе – это огромное здание, индийский расписной дворец вроде того, какой изображен на фреске, привезенной мною из Азии, а сферы – это купола, венчающие башни дворца.
– Да, я представила, – прищурившись, сообщила Эмилия, – действительно, похоже.
– Вот видишь, у тебя лицо сразу одухотворилось заинтересованным выражением, – обрадовался Публий. – Так знай, Эмилия, нас волнуют человеческие образы, душа радуется любым проявлениям другой души, живое тянется к живому, предметы и события имеют для нас ценность, когда они так или иначе очеловечены, и, наоборот, нас отталкивают, нам не могут доставить удовольствия всевозможные виды опредмечивания человеческого. В том отличие истинных ценностей, возвышающих людей, от условных, порабощающих их. Есть между ними и еще одна разница: истинные ценности вечны, а ложные – преходящи. Так, люди всегда будут нуждаться в дружбе, любви, уважении, сочувствии, но та роскошь, в которую ты успела обрядить часть дома, нашим потомкам покажется убожеством, однако это не значит, что они будут счастливее нас, скорее, наоборот.
Тема ценностей и антиценностей была весьма злободневной для Сципиона в свете нравственных метаморфоз, произошедших в Риме на его глазах, и связанного с ними резкого изменения отношения сограждан к своему принцепсу. Потому он мог бы еще долго говорить по этому вопросу, однако информационная потребность Эмилии достигла насыщения, и она, заметно погрустнев, уединилась на женской половине дома для осмысления услышанного.
Несколько дней Эмилия была задумчива и печальна. Год назад судьба нанесла сокрушительный удар по ее честолюбию, рухнула гордость за мужа, пошатнулась надежда на блестящее будущее детей, а теперь под сомнением оказались и традиционные радости женского бытия. Она чувствовала, что здесь, вдали от светского общества на лоне обнаженной, не приукрашенной людьми природы, ее душа оголяется, теряя покровы обыденного жизнепонимания, и это испугало ее так же, как если бы с нее некто неизвестный и таинственный стягивал платье. Эмилия не выдержала такого состояния неопределенности и страха и пожелала поехать в Рим, чтобы в привычной обстановке вновь попытаться обрести себя. Сципион не приветствовал ее решение, но и не противился ему, потому, взяв с собою дочерей и младшего сына, она отправились в столицу.








