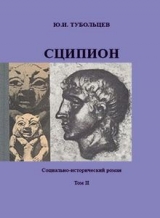
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 2"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 43 страниц)
3
Римляне неспешно двинулись к северу. Пред ними расстилалась широкая равнина Фессалии, за которой следовали Македония, Фракия и наконец Геллеспонт, отделяющий Европу от Азии. Им открывался необъятный простор для деятельности, однако, прежде чем приложить свои силы к возведению монументов славы в этой, испещренной трофеями местности, следовало тщательно разметить ее знаками мысли и прочертить магистрали идей, чтобы в дальнейшем не пришлось блуждать во мраке неизвестности. Потому-то Сципионы пока не торопились с маршем и изучали обстановку, взвешивая последние сведения, поступающие из Малой Азии и Македонии.
Кратчайший путь в Азию проходил через Эгейское море. Но решиться на такое плавание с гигантским караваном на судах, отягощенных войском и припасами, можно было только при полной уверенности в превосходстве своего флота над вражеским. Без достижения господства на море этот шаг был недопустим ввиду риска сразу всей армией сделаться легкой добычей сирийцев. Причем, даже если бы римлянам удалось благополучно преодолеть заслоны царских эскадр, они оказались бы на чужом побережье в изоляции и перед ними встала бы необходимость в целях пропитания грабить местное население, что противоречило их идеологии. Сухопутный же путь через Македонию и Фракию был очень длинен и по-своему тоже опасен, потому первостепенное значение в настоящий момент приобрело соперничество за преобладание на море.
Борьба за водные просторы Эгейского моря развернулась еще в прошлом году. Тогда претор Гай Ливий в союзе с Эвменом Пергамским принял морской бой с сирийским флотом, возглавляемым родосским изгнанником Поликсенидом, и одержал великолепную победу. Инициативу в регионе захватили римляне, и это сулило Сципионам, в то время еще только готовившимся в поход, блестящие перспективы, но в дальнейшем ситуация изменилась. Поликсенид понял, что в открытом сражении римляне практически непобедимы, поскольку плохие мореходные качества своих судов с лихвой восполняют целеустремленностью, мужеством и тактикой, сводящей морской бой к сухопутному. Поэтому он решил действовать хитростью и принялся измышлять всяческие авантюры.
Сторону римлян наряду с пергамцами держали и родосцы. Флот этого народа прославленных мореходов минувшим летом запоздал с поддержкой Гаю Ливию и не принимал участия в избиении азиатов. С тем большим рвением родосцы стремились отличиться теперь. Они снарядили тридцать шесть первоклассных кораблей и направились к претору. Но тут диссидент Поликсенид затеял с земляками тайные переговоры.
Не бывает больших и маленьких предателей, измена есть измена, а предатель есть предатель. Совершивший мелкую подлость, способен и на крупную. Человек, обрубивший все связи, делавшие его человеком, и взамен их обложившийся золотом измены, камнем летит вниз, и глубина его падения определяется глубиной самой пропасти.
Однажды предав Родину, Поликсенид обнаружил, что с тех пор его душа обратилась в черный мешок, наполненный смердящей едкой массой карьеризма, возникшего в духовной пустоте в качестве эрзаца утраченных идеалов, который был замешан на едкой щелочи цинизма. Отныне он презирал всех, потому что презирал себя, и любыми средствами старался восторжествовать над другими людьми, дабы компенсировать свое реальное, хорошо сознаваемое ничтожество формальным возвышением в глазах окружающих. Так он мстил всему свету за собственное преступление.
Командующий родосской эскадрой Павсистрат был человеком неоспоримых достоинств, за что пользовался заслуженным уважением сограждан. Для Поликсенида это являлось тягчайшей мукой. Само существование порядочного человека было невыносимо для мерзавца и служило для него карой. Белый демон духа Павсистрата повсюду находил Поликсенида и нестерпимо терзал его черную душу. Восприятие мира предателя сменило полярность: все лучшее стало худшим – и потому не было границ его ненависти к честному гражданину.
Млея от предвкушения крови героя, Поликсенид сочинил к Павсистрату слащаво-слезоточивое послание с лицемерным раскаянием в своем проступке. Он пытался уверить родосца, будто страстно жаждет возвращения на родину, и во искупление давних прегрешений обещал оказать Отечеству бесценную услугу, подставив под удар сограждан царский флот. Павсистрат не подозревал, что внутренний мир предателя представляет собою клоаку с гниющими помоями, и наивно мерил его собственной душой. Он поверил диссиденту и согласился ходатайствовать о возвращении ему гражданских прав. Достигнув мнимого соглашения, Поликсенид сообщил свой план и внес в расположение царских сил ряд ложных перегруппировок и прочих маскирующих мер, чем окончательно ввел греков в заблуждение. Ожидая условного сигнала от продажного земляка, родосцы расслабились и сами ничего не предпринимали. Поликсенид же скрытно подвел к месту действия сирийский флот и всей его мощью внезапно обрушился на одураченных греков. Родосцы оказались запертыми в гавани и были одновременно атакованы кораблями с моря и десантом с суши. Лишь нескольким судам удалось вырваться на волю, все остальные достались врагу, а их экипажи подверглись избиению. Павсистрат первым повел свою квадрирему на неприятеля и погиб в самом начале боя. Его кровь бальзамом пролилась на ядовитое сердце торжествующего Поликсенида.
Поражение родосцев потрясло все страны бассейна Эгейского моря, в результате чего сменились настроения и политические ориентации многих общин. Сирийцы воспряли духом, положение римлян пошатнулось. Гай Ливий в это время готовил переправу через Геллеспонт. Со стороны Европы он обеспечил доступ к проливу, легко войдя в город Сест. Но противолежащий город Азии Абидос заключал в своих стенах мощный источник враждебности к Риму в лице царского гарнизона, и потому здесь претору было оказано сопротивление. Ливий затратил некоторые усилия на осадные работы и уже был близок к успеху, когда стало известно о гибели союзного флота. Римлянам пришлось оставить Геллеспонт и спешить в горячую зону.
В тот же период произошел мятеж в крупном городе малоазийского побережья Фокее. Там зимой находился римский флот, и тяготы постоя чужеземных воинов вызвали недовольство жителей. Этим воспользовалась часть олигархии, подкармливающаяся подачками Антиоха, и придала волнениям масс организованную форму. В ответ на жалобы фокейцев римляне покинули город и перебазировались в другое место. Олигархам только того и было надо: они незамедлительно довели свое дело до конца, и вскоре вместо римлян на постой в городе расположился сирийский гарнизон. Толпа получила новых господ и снова была предоставлена самой себе. Однако если раньше возмущаться пришельцами считалось признаком хорошего тона, и всяческое недовольство поощрялось теневой властью, то теперь это вдруг сделалось неприличным и воспринималось как свидетельство дурного воспитания.
Используя волну успеха, сирийцы вторглись в пределы Пергамского царства и осадили сначала Элею, а затем и столицу. Это вынудило Эвмена покинуть римлян и вернуться домой.
Вскоре после этих событий на смену Гаю Ливию прибыл новый претор Луций Эмилий Регилл. Приняв командование флотом, он совершил несколько различных маневров, то осаждая города, то вызывая противника на морской бой, но ни в чем не преуспел.
Когда Сципионы, освободившись от этолийцев, взглянули на восток, желая усладить взор зрелищем подвигов своего молодого друга Луция Эмилия, они ничего такого не заметили и увидели лишь то, что претор не отдал Эгейское море Антиоху, однако и сам не завладел им.
Помог Сципионам составить представление о положении в Малой Азии и вокруг нее претор Гай Ливий, который, возвращаясь домой, заехал в Фессалию почтить вниманием столь выдающихся мужей. В неофициальной части беседы Ливий аккуратно пожаловался на отсутствие взаимопонимания с преемником, что и стало причиной, вынудившей его покинуть район боевых действий. Видя, как он желает быть полезен делу, Сципионы дали ему рекомендательные письма к столичным друзьям, чтобы те помогли толковому человеку найти соответствующее его рангу поручение, и с тем отправили в Рим.
Погрустив часа два по поводу неуместной доверчивости родосца Павсистрата, братья тяжело вздохнули и пошли собирать войско в длительное путешествие вдоль берегов Эгейского моря.
Давно уже Публий Африканский присматривался к нынешним солдатам и ревниво сравнивал их со своими воинами, выпестованными им в ходе испанской и африканской кампаний.
В солдатах появилось нечто хищное. Они больше походили на наемников, чем на граждан, и в войне искали не столько славы защитников Родины, сколько наживы. Издавна, отправляясь в поход, римляне преображались, едва только переступали священную черту померия. В своем городе они были добропорядочными членами общины и блюли все ее законы, но за его пределами в соответствии с родовой моралью для них начинался чужой, враждебный мир, и потому, выходя за ворота, они сами становились врагами всего окружающего: здесь в их представлении уже не существовало людей и городов, а были лишь противники и добыча. Постепенно государство расширялось, и вместе с его границами раздвигались горизонты человеческого духа. Хозяйское отношение римлян распростиралось на все большие территории. Но теперь процесс вдруг пошел в обратном направлении. Во внутренний мир людей вторглась некая сила, которая сломала тончайший механизм их нравственного роста и вновь пробудила в них зверя. Хлынувшее в Рим богатство затопило его низины, поработив наиболее примитивных и грубых людей, которым увидеть золотой блеск было проще, чем узреть сиянье возвышенной души, и через этих позолоченных рабов стало насаждать свои альтернативные, сугубо безликие ценности, завоевывая все большее человеческое пространство. «Какая разница, как я добуду деньги? – думал современный солдат. – Греция далеко от дома, и в Риме не узнают, снял ли я серебряный браслет с побежденного врага или с ограбленной женщины. Важно, что, вернувшись домой, я куплю раба, который придаст мне больший вес в глазах соседей, чем дубовый венок или фалеры истинного героя». В своих воинах Сципион воспитывал чувство гражданина всей ойкумены, стремился возрастить их души до космических масштабов, объемлющих собою всю цивилизацию, чтобы они весь обитаемый мир считали своим домом так же, как прежде считали своим домом весь Рим. Тогда, по его мнению, этот замысел удался, но теперь Публий вдруг обнаружил противоположный результат: интересы многих легионеров настолько сузились, что они не только не вышли на средиземноморский рубеж, но даже утратили общность с Родиной и съежились до муравьиных размеров собственной избушки или квартиры. Души людей сделались почти такими же маленькими, как и их тела, и едва высовывались за пределы биологической оболочки.
Наряду с хищнической тенденцией обнаружилась и другая, также ведущая к утрате духа гражданственности. Находясь длительное время вдали от Италии, солдаты забывали власть выборных магистратов и привыкали к абсолютному диктату полководца. Они жили как бы уже и не в республике, а в монархическом государстве, и оттого их внутренний мир терпел деформации. Рушилась их солидарность, исчезало чувство общности. Они теряли ощущение своей коллективной силы и мощь войска связывали с военачальником, с его гением и удачей. Он вырастал в их глазах до неимоверных размеров полубожества и затенял собою Родину.
Наблюдая этот феномен, Публий не отдавал себе отчета в том, что сам же своим авторитетом непобедимого императора положил ему начало. Тогда, в Испании и Африке он смотрел на подчиненных с возвышения трибунала и оценивал их в первую очередь как воинов, но теперь он наблюдал солдат со стороны, и другая точка зрения давала другую картину: то, что прежде казалось достойным, сейчас смущало его.
И наконец третий фактор, отмеченный Сципионом, возмутил его более всего. Первые два заставили его призадуматься, обозначив зачатки пороков, которые только через несколько десятилетий проявились в полной мере, когда развращенное войско десять лет терпело позорные поражения от одной небольшой испанской общины, но последний – требовал решительных действий уже сегодня. Итак, Публий выявил очень низкую физическую и тактическую подготовку войска, объяснявшуюся тем, что, привыкнув к легким победам над несерьезными противниками, солдаты и многие офицеры резко снизили требования к себе. Поэтому он заручился поддержкой консула и стал проводить учения прямо в походе, подобно тому, как это делал некогда афинянин Хабрий.
Сципионам предстояло пересечь Македонию и Фракию. Одна из этих стран совсем недавно воевала с Римом, другая же, дикая и необузданная, была враждебна всем. Потому дорога могла стать очень опасной, и многое в этом вопросе зависело от воли Филиппа. В письмах к сенату и Сципионам царь обещал оказать поддержку римской армии и даже снабжать ее продовольствием, но уж очень удобно ему будет во время похода запереть римлян в каком-либо ущелье, отрезать их от провианта и уничтожить, а поэтому трудно было довериться его стойкости пред таким искушением. Однако римлянам ничего иного не оставалось, как положиться на слово царя, и единственное, что они могли сделать, это еще раз проверить его настроение.
Публий предложил явиться к Филиппу внезапно, чтобы успеть взглянуть на его душу прежде, чем разум наденет на нее одну из своих масок. На роль такого гонца, от которого требовалась не только сноровка всадника, смекалка и обходительность посла, но и особая проницательность, был выбран очень способный молодой человек Тиберий Семпроний Гракх.
Публию хотелось поскорее дать возможность отличиться собственному сыну, изъявлявшему готовность отправиться к царю, но он удержался от соблазна использовать имеющуюся власть для его пользы и согласился поручить сложную, но выгодную миссию тому, кто, по общему мнению, более всех подходил на эту роль.
Семпроний легко вскочил на коня, пригнулся к его шее и, почти не меняя позы, в три дня одолел расстояние до македонской столицы. Горячий юноша надолго опередил молву о себе и прибыл во дворец, как то и требовалось, неожиданно. Царь встретил римлянина на пиршественном ложе и своим сытым видом развеял все подозрения в каких-либо каверзных намерениях, ибо человек, замышляющий большое и рискованное дело, не предается с такой беззаботностью мирским увеселениям. В последующие дни Тиберию показали дорогу, пребывающую в ожидании легионов. Ознакомившись с обстановкой в Македонии, он пришел в восторг, поскольку здесь были приняты все меры для обеспечения успешного похода римлян. По всему маршруту располагались продовольственные базы, сама дорога находилась в отличном состоянии, через реки и ущелья были перекинуты только что отремонтированные мосты. Закончив осмотр дорожного хозяйства, Семпроний возвратился в Пеллу, выразил царю благодарность за выполненные работы, обсудил с ним некоторые практические вопросы по взаимодействию во время предстоящего путешествия и с легким сердцем отправился в римский лагерь.
Выслушав своего посла, Сципионы ускорили марш войска и вскоре приблизились к границам Македонии. Там их встретил сам царь, сопровождаемый отрядом отборной конницы. Он любезно поприветствовал консула, его знаменитого брата и прочих легатов, тем самым продемонстрировав осведомленность о порядках республиканского общества, в котором магистрат имеет лишь формальное превосходство над окружающими. По случаю такого визита римляне несколько ранее обычного завершили дневной переход, возвели лагерь и оказали царю торжественный прием в претории. А на следующий день войско вошло в один из македонских городов, и Филипп сторицей отплатил за гостеприимство, устроив для полководца и легатов истинно царский пир.
Царь с первой же встречи произвел благоприятное впечатление на Сципионов. Публию он показался интереснее других, виденных им восточных владык и политиков. В общении Филипп представал человеком более широким и независимым, чем Эвмен, в суждениях выглядел реалистичнее и основательнее греков, и держался он свободнее и естественнее Антиоха. В отличие от сирийского монарха, словно закованного в латы царственности, его ничуть не стеснял высокий сан, он был органичен на троне, как красавица – в шикарном одеянии, которой сознание своей красоты позволяет носить его с небрежным изяществом. Филипп являлся царем по всем статьям от импозантной внешности и элегантных манер до властного характера и блистательного, разящего ума, но он был как бы царь в себе, царь внутри при внешней простоте удалого молодца, тогда как царственность Антиоха, наоборот, зарождалась снаружи: в позах, взглядах и дворцовом ритуале – откуда проникала в глубь его души, уже имея сложившийся на поверхности нрав. В этом различии двух родственных по национальному происхождению людей сказывалась разница в воспитавших их общественных условиях. Азиатская цивилизация, разделив население на кучку господ и массу черни, утвердила формализованную иерархию, согласно которой в каждой микрообщности находились свои господа и рабы, чей статус менялся всякий раз при взаимодействии с представителями иных групп, в результате чего, любой господин обязательно был и рабом какого-либо другого господина, за исключением царя, господствовавшего над всеми людьми, но зато являвшегося рабом трона. Такая система порождала холопское благоговение пред внешними факторами престижа, как то: происхождение и богатство – со всею мишурою их опознавательных знаков. Отсюда с неизбежностью следовало смешное для римлян, но весьма почтенное на взгляд сирийцев позерство Антиоха, от которого никак нельзя было требовать иного поведения, ибо даже Александр, выросший в другом мире и прибывший в Азию вождем эллинов, стал здесь персом. В Греции же все еще не выдохся республиканский дух, все граждане тут считались равноправными, и потому в обществе превалировала оценка людей по их сущностным качествам, что побуждало каждую личность самосовершенствоваться и стремиться к возрастанию духовных, а не материальных богатств. Потому Филипп старался притушить сиянье своего титула и добиться уважения греков к самому себе, а не к занимаемому им трону. Однако в Македонии общественные условия были иными в сравнении с Элладой, да и по отношению к Греции Филипп реально выступал как владыка, а не союзник, защитник или друг, как его называли льстецы с глубокими карманами. Смешение гражданского воспитания с царским дало в итоге весьма причудливый плод, исполненный противоречий.
Филипп был на три года старше Сципиона Африканского. В семнадцать лет, то есть в том возрасте, в котором Публий пошел на войну с карфагенянами, он уже стал царем. Юноше пришлось сразу, без предварительной закалки характера с головою окунуться в государственные дела. Общение с такими людьми, как Арат, не могло не подействовать разрушающе на его душу. Имея подобных наставников, он быстро прошел курс политического лицемерия и беспринципности, в результате чего вскоре сам принял на вооружение те средства, какими еще недавно возмущался. Потому он без стеснения убрал с пути своего учителя, едва только тот перестал быть ему нужен. Успешно сделав первые шаги на политическом поприще и снискав восхищение толпы и угодливые заискивания олигархов за свершенные преступления, Филипп познал восторг царского могущества и вседозволенности, но одновременно испытал разочарование в методах, каковыми утверждается власть. Жестокая действительность, грубо вторгшись в его душу, разодрала ее на две части, заставив обе половины вечно враждовать между собой. Отзвуком этой внутренней борьбы, прорвавшимся наружу, стал скептицизм, который одновременно служил ему еще и средством маскировать свое превосходство в общественном положении при общении с греками. Интриги научили его хитрости, а тесное взаимодействие с самым образованным народом позволило ему до изощренности развить свой ум, а также – эстетическое чувство. Будучи щедро наделенным способностями со стороны природы и возможностями – со стороны общества, царь лелеял самые смелые мечты и имел самые высокие претензии. Однако ему не хватило целеустремленности для реализации своих планов, ибо, с юности привыкнув повелевать, он не встречал иных препятствий на пути, кроме риторики беспомощных греков, потому всякий раз, сталкиваясь с реальной силой римлян, терялся и падал духом, и хотя ему в конце концов всегда удавалось преодолевать эти приступы безволия, жизнь его двигалась зигзагами.
Итак, в личности Филиппа замысловато переплелись достоинства и пороки, таланты и изъяны, сила и слабость. Он представлял собою любопытный объект для наблюдения, и Сципионы с интересом принялись разматывать этот клубок противоречивых качеств и всевозможных загадок, вновь и вновь приглашая царя к общению.
Встречи Филиппа с греками обычно начинались с длинного ритуала взаимных расшаркиваний и многословных восхвалений друг друга, лицемерных в устах одних и насмешливо-снисходительных в ответных фразах другого, в ходе которых собеседники разогревались, чтобы чуть позже разом перейти к обоюдным нападкам и обвинениям. С римлянами царь повел себя иначе. Обменявшись с ними короткими приветствиями, он без промедления приступил к обсуждению предстоящих дел и лишь после того, как был намечен план совместных действий, расслабился и возвратился к привычной манере поведения.
Весь излучая обаяние, он принялся заверять гостей в том, что очень рад их появлению на Балканах и испытывает к ним беспредельную благодарность. Лицо его при этом было серьезно и будто бы ничего не выражало, кроме ледяной дипломатической любезности, но в крутом изгибе бровей и зрачках проницательных глаз, словно в засаде, притаилась насмешка, готовая в любой момент выстрелить остротой в доверчивого собеседника. Публий в свою очередь изобразил подобную мину, только, не располагая такими вычурно-красивыми бровями, как у Филиппа, он запрятал смех в глаза и улыбку. Сотворив достойный оппонента лик, Сципион произнес комплимент изысканности царской иронии. Не смущаясь тем, что его уличили в едкой двусмысленности, Филипп подтвердил высказанную мысль и пояснил, почему именно доволен приходом римлян в свои бывшие владения. «Выдворив меня из Эллады, вы извлекли меня из зловонного водоворота склок и смут и освободили от неуемных притязаний и упреков вечно всем недовольных греков, – сказал он, – так как же мне после этого не приветствовать и не восхвалять своих избавителей!» Царь улыбнулся, как бы подчеркивая шутливый характер ответа, но в глубинных пластах его фразы прозвучала совсем нешуточная грусть, вызванная то ли в самом деле усталостью от бурного прошлого, то ли сожалением о нем, а возможно, тем и другим вместе.
Публий залюбовался движеньями мысли и чувств на броском, ярком лице Филиппа с резкими, рельефными чертами, гармонично устремленными к единой идее красоты, обрамленном вьющимися волосами, покрывающими голову роскошными лепестками локонов и окутывающими щеки и подбородок гроздьями мелких кудряшек. Он попытался представить, что должна испытывать женщина, глядя на этого красавца, но не смог вообразить ничего подобного. Его взгляд оставался взглядом мужчины на мужчину и человека на произведение искусства природы и не пробуждал в душе иных чувств, кроме дружеской симпатии. Филипп тоже внимательно изучал Сципиона. Иногда его взор обращался к Луцию, но всякий раз поспешно возвращался обратно и жадно шарил по лицу Публия, словно ощупывая его в поисках слабых мест, однако безуспешно: римлянин казался ему монолитом. Прямые брови, прямая линия рта, почти прямой нос, прямая посадка головы: в каждой детали этого лица, как во всем облике в целом, читались несокрушимая мощь и добродушие, истинное добродушие, свойственное только очень сильным людям. Филипп был наслышан о хитрости и коварстве победителя карфагенян, но никак не мог обнаружить следы этих качеств в его внешности, и это пугало царя, как всегда пугает неведомая опасность, скрытая во мраке неизвестности.
Публий вступился за греков, косвенно охаянных македонянином, но у Филиппа вдруг прорвалась накипевшая обида, и он излил по их адресу всю язвительность своего ума. Тут на помощь брату пришел Луций.
– Нам, Публий, надлежит не защищать греков, – сказал он, – а, наоборот, всячески подчеркивать собственное отличие от них, дабы не лишиться милости нашего гостеприимного хозяина.
Сделав паузу, он добавил:
– Да, не умеем мы еще разговаривать с монархами…
Филипп почувствовал себя уязвленным упреком в царской несдержанности и с плохо скрытой обидой произнес:
– Ну что вы говорите, могущественные гости, стоит ли оглядываться на каких-то там царей владыкам всего цивилизованного мира!
Разрежая сгустившиеся страсти, Публий с веселой беззаботностью рассмеялся и, как бы подытоживая спор, сказал:
– Филипп предостерегает нас, римлян, от чреватой глобальной катастрофой ошибки, ибо, если у мира появятся владыки, тот перестанет быть цивилизованным. Но я надеюсь, что, познакомившись с нами поближе, царь и союзник наш уже никогда более не подвергнет нас жестоким подозрениям в стремлении к владычеству. Потому, оставив пока без ответа тонко высказанное обвинение, полагая, что в процессе дальнейшего общения оно растает само собой, я снова возвращусь к разговору о греках, поскольку они, по моему мнению, достойны внимания и более бережного отношения, чем существующее ныне.
Затем он привел несколько доводов в оправдание непоследовательности и сумбура в политике греческих государств. Филипп принял вызов и продолжил борьбу, сменив, однако, тактику. Теперь он уже не горячился и старался не опровергать открыто аргументы римлян, а нередко подхватывал их мысль и, переиначивая ее на разные лады, в конце концов выворачивал наизнанку, извлекая из нее противоположный первоначальному смысл. Избрав такую форму, он продолжал едко высмеивать греков, от которых натерпелся немало обид и несправедливостей, но все же гораздо меньше, чем причинил им сам.
Тема Эллады оказалась весьма плодотворной, и этот разговор, начавшись в римском лагере, на следующий день продолжился в пиршественном зале Филиппа сразу же, едва только гости успели воздать традиционную хвалу сервировке стола и качеству блюд.
– Я не отрицаю особой одаренности эллинов, – внушительно возвышаясь над ложем, говорил Филипп, – но их таланты имеют декоративный, прикладной в условиях нашей ойкумены характер. В настоящих же делах они ненадежны, ибо лукавы и корыстны, в их душе нет стержня, их ум лишен ориентации ввиду отсутствия ясной цели.
– Слишком широка твоя фраза, Филипп, – отвечал Публий, – я не сумею охватить ее всю в одной речи, а потому, отложив обсуждение значения греческой одаренности на десерт беседы, выскажу свои соображения относительно хитрости и непостоянства греков. Известно, что любой человек всегда найдет множество поводов для обвинения соперника, но тот, кто желает постичь истину, должен избежать эгоистических эмоций, а для этого ему следует поставить себя на место неприятеля: уж самого себя никто напрасно упрекать не станет. Вот я и попробовал использовать такой подход, для чего вообразил себя греком, а конкретно – этолийским стратегом. Облачившись мысленно в хитон, я увидел пред собою могучего царя Македонии, обладающего самой сильной армией восточного Средиземноморья, а за спиною услышал взволнованное дыханье олигархов-предателей, развращенных подачками владык. Как же мне в этой ситуации надлежало поступить? Что я мог противопоставить тебе, блистательный Филипп, кроме хитрости со всею сворою ее прислужников, как то: лицемерие, словоблудие, лесть, коварство и наконец подкуп?
Скрыв мгновенное затруднение за скептической улыбкой, Филипп сказал на это:
– О Корнелий, ты предлагаешь мне тяжкое бремя! Я и в царском одеянии в последние годы чувствую себя ущербным, а ты советуешь примерить шкуру этолийца! Боюсь, мне это не по плечу! Да и к чему? Мне достаточно быть самим собою и смотреть на этолийцев со стороны, чтобы ясно видеть их пороки.
– Взгляни, Филипп, на быка, когда он мирно пасется на лугу, и залюбуешься грациозным сильным животным, но подойди к нему с кнутом, и узнаешь ярость зверя. Раз и навсегда заняв статичное положение по отношению к грекам, ты не только будешь иметь о них однобокое, плоское представление, но и сам явишь их взорам лишь одну свою грань и – как я подозреваю, а я, хвала богам, об этом могу только подозревать – далеко не лучшую грань. Попробуй общаться с греками, Филипп, а не воевать с ними, и тогда ты поймешь мою мысль без всяких слов.
– Приму к сведению твой совет, Корнелий, а вместо комментариев лишь восхищусь тем, как здорово вы сами умеете совмещать общенье и войну.
– Вот как ловко действует смелый полководец! – с притворным энтузиазмом воскликнул Луций. – Вынужденно отступив на правом фланге, он тут же нанес нам удар на левом!
– Филипп тонко уловил названную им особенность, – невозмутимо заметил Публий, – он произвел атаку на стыке наших войск, но, увы, напрасно: позиция у нас крепка. Мы действительно, Филипп, совмещаем общенье и войну, и происходит это потому, что война выступает у нас только как вспомогательное средство общения. Средство, что и говорить, грозное, но, поскольку оно вспомогательное, его применения можно избегать, к чему мы и стремимся. Вспомни, Филипп, сколько войн здесь, на Востоке, предотвратила или, по крайней мере, отсрочила наша дипломатия.
– О ваших талантах совмещать несовместимое, дорогие гости, я говорить просто не в состоянии, ибо родился Филиппом, а не Гомером, потому возвращу свою речь к эллинам, к тем самым эллинам, каковых я так люблю, что всегда страстно желал подчинить их себе, или, выражаясь вашим языком, освободить от хлопотной самостоятельности. Правда, ваша любовь к ним оказалась еще сильнее. Но тем резоннее будет мое намерение уделить им внимание хотя бы на словах.
– Так вот, – продолжал он, – я несколько увлекся личными переживаниями и укорил своих соседей в неверности по отношению ко мне, хотя гораздо уместнее было бы похвалить их за то, что они правильно сориентировались в той обстановке и избрали в союзники вас. Тут действительно сказалась субъективность моего взгляда, но не его однобокость, как считаете вы. Теперь я каюсь и с удовлетворением признаю, что необыкновенная идеологическая подвижность эллинов является самым что ни на есть вопиющим достоинством, позволяющим им находить все новых и новых друзей вместо старых, надоевших и обессилевших.
– Умелый оратор, пожелай он того, несколькими словами и мед обратит в желчь, – отреагировал на этот замысловатый сарказм Луций. – Язык царя все еще оттягивается в сторону грузом былых обид.








