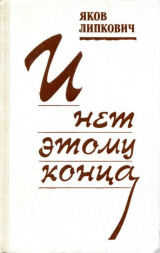
Текст книги "И нет этому конца"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Я не знаю, чем я заслужил такой подарок. Именно подарок, иначе я не могу расценивать то, что мне довелось увидеть. И даже не один подарок, а два.
Я видел двух счастливых влюбленных. Это были молоденький черный кот и такая же молоденькая серая кошечка. Они долго гуляли по парку бок о бок, мордочка к мордочке и даже хвостами и то помахивали согласно. Им было так хорошо вместе, и они ни на кого не обращали внимания. Господи, а мы-то считаем кошек куда ниже себя и даже куда ниже собак, – на каком основании?
А вот в Павловске я как-то встретил воробушка, который с добрый час, не меньше, следовал за мной. У меня ничего не было с собой, и я его ни разу не покормил. И все же стоило мне остановиться, как он тут же опускался к моим ногам. Оттуда заглядывал мне в глаза и раскрывал клюв – просил чего-нибудь поесть. Я снова и снова принимался шарить по карманам и не находил ни единой крошки. От стыда, что я то и дело обманывал его ожидания, я вскоре уехал из Павловска. А ведь собирался пробыть там весь день. Вот так-то…
ЖИВАЯ ЛОШАДЬДачный поселок. Рядом с кафе к новенькой изгороди привязана лошадь. Одна, без подводы. И все же у нее какой-то усталый, безучастный ко всему вид. Затрещит ли по дороге мотоцикл, прогудит ли где-то поблизости автомашина, поругаются ли подвыпившие ханыги – она даже головы не поднимет. И хотя ей до старости еще далеко, видно – она уже достаточно поработала и повидала на своем веку. А сейчас у нее одна забота – лениво отгонять мух и слепней.
В дверях кафе появляется немолодой мужчина в дорогом, но уже изрядно помятом костюме и такой же помятой шляпе. Некоторое время он стоит, покачиваясь, на пороге. И вдруг замечает лошадь. Его широкое простоватое лицо расплывается в радостной улыбке. Едва не загремев с крыльца, спускается вниз и нетвердой походкой, с протянутыми руками, идет к лошади. Еще издалека начинает разговор: «Ну, здравствуй, саврасушка! Ну, здравствуй, моя хорошая!» Подойдя, пытается обнять лошадь за шею. Та снисходительно косится на него и деликатно отворачивается. «Ну, чего ты, моя хорошая, отворачиваешься? Ну, выпил немножко. Всего-то стакан портвейна. Сам бы я ни-ни. А как откажешь, если товарищ Коростылев поднес? Ты бы и то не отказала, нет, скажешь?» И она снова с поразительной осторожностью, чтобы не сбить с человека шляпу, переносит свою тяжелую голову на другую сторону. «Опять отворачиваешься? Хочешь, поцелую тебя? Жену два года не целовал, а тебя поцелую!» Лошадь легонько и как будто недовольно встряхивает головой. «Ну, не буду, не буду…»
Мужчина еще долго ласкается к лошади, а затем подставляет под ее голову плечо и так стоит, блаженно улыбаясь. Привлеченные забавной сценкой, собираются люди. Добродушно посмеиваются: «Сфотографировать бы их!» – «Жена скажет: хорош был!»
А мужчина, прижимаясь щекой к горячей лошадиной шее, продолжает свой нескончаемый ласково-пьяный разговор: «Ну что, моя рыженькая? Заждалась хозяина? Ничего, придет он, никуда не денется. И булочку принесет вкусненькую – мы с товарищем Коростылевым подскажем ему, нет, скажешь?» И тут саврасая, вконец утомленная человеческой речью и разморенная духотой, сладко-сладко зевает…
А толпа между тем комментирует: «В городе разве увидишь живую лошадь?» – «Да и на селе тоже!» – «Отблагодарили, одним словом, конягу за верную службу!» – «Что и говорить, отблагодарили…»
Впрочем, лучше не скажешь…
КАК МНОГО МЫ ТЕРЯЕМЕсть люди, которые даже в толпе никого, кроме себя, не замечают. Как много они теряют, что не любят и не умеют наблюдать. Сколько интересных сценок – веселых и грустных, забавных и серьезных, трогательных и безобразных – разыгрывается вокруг нас только на ближайших подмостках жизни. Сотни персонажей – один другого занятнее – совершенно бесплатно, сами того не подозревая, потешают, веселят, а иногда и огорчают затаившегося хитреца зрителя. А талант, а мастерство, с которыми они исполняют свои неповторимо-прекрасные роли! Их искренности и высокой технике могут позавидовать самые прославленные актеры страны. Тут нет ни на йоту фальши. Ведь сама жизнь здесь и драматург, и постановщик, и исполнитель. Не ленитесь только наблюдать. Имеющий уши да слышит!
ГЛАВНЫЙ МАЛЬЧИКСегодня чуть ли не с первыми солнечными лучами на меня обрушивается ребячий гвалт со двора. Под самым моим окном дворовая ребятня строит свой дом. Спасаясь от шума, я, несмотря на изнуряющую жару и духоту, плотно закрываю форточку, опускаю тяжелые двойные шторы. Не помогает. Звонкие голоса подростков без труда проникают через стекло и ткань. Конечно, можно еще заткнуть ватой уши. Однако к этому радикальному, но несколько унизительному средству я прибегаю только в тех крайних случаях, когда минута промедления грозит утратой вдохновения – ненадежного и капризного, как молоденькая продавщица. Но сейчас я занимаюсь делом, не требующим высокого горения. С ожесточением и упорством крестьянина перепахиваю уже написанные страницы. И вдруг меня словно свежим ветерком обдает мысль: надо полагать, ничего страшного не случится, если я эту работу отложу на завтра или даже на послезавтра? В конце концов, я, как и все советские люди, имею право на отдых. С этой освежающей мыслью я решительно встаю из-за стола, снова поднимаю шторы и распахиваю окно. Впускаю в свою обитель все до единого звуки и голоса нашего огромного двора. Итак, внизу, всего в каких-нибудь пяти – семи метрах от моего подоконника, строится дом. Одни пацаны тащат откуда-то, по-видимому со строительной свалки, фанеру, жесть, толь, другие очищают свои собственные кладовки и радостными голосами возвещают о каждой находке, третьи – самые умелые – возводят стены, укладывают крышу и даже настилают полы из дощечек. Работают дружно, хотя и спорят по малейшему поводу. Сколько ребят – столько и мнений. Но есть среди них и свои вожаки, к голосу которых прислушиваются все. Один из таких вожаков – важный и деловой – прохаживается рядом и распоряжается. Похоже, он действительно много знает. Но я что-то не видел, чтобы он хоть раз наклонился и собственноручно вбил гвоздь. Наконец дом готов. Пусть фанерный, пусть картонный, но уже имеющий и стены, и крышу, и даже одно окно и одну дверь, в которую можно пролезть только на четвереньках. Теперь предстоит самое главное – вселение. И опять все заботы решительно берет на себя деловой мальчик. Он загораживает собой вход и по одному пропускает внутрь бывших строителей. Его голос, как всегда, категоричен и строг. «Теперь ты!.. Теперь ты!» – отбирает он счастливцев. И один за другим тощие мальчишеские зады мелькают в низком дверном проеме. «А ты куда? – вдруг останавливает он лопоухого большеглазого мальчугана. – Как работать, так пальчик болит? А как вселяться, так первый?» Тот принимается канючить. «Ну ладно, иди!» – снисходительно разрешает главный мальчик. Обрадованный пацан тут же опускается на четвереньки и ползет вслед за другими.
И лишь маленький прораб не спешит входить в дом. Он пробует на прочность одну стену, другую и только после этого с трудом пролезает внутрь.
Я давно понимаю, как рискованно делать прогнозы о человеческих судьбах. И все же этот дородный мальчик меня настораживает: уж очень он уверен в своем превосходстве над остальными.
ПЯТЬ МИНУТСпорим, что даже за те несколько минут, пока поезд идет до Кушелевки, что-нибудь да привлечет внимание наблюдательного пассажира? Итак, начнем. Уже объявлена посадка. На перроне огромная толпа. Особенно много лыжников, рыбаков, дачников, цыган с их увесистыми торбами. Вместе со своей учительницей едет куда-то за город целый класс. По виду трех– или четырехклашки. Медленно подходит поезд. В распахнувшиеся двери первыми втискиваются молодые и сильные лыжники. За ними, распихивая всех своими торбами, лезут цыгане. Учительница взывает к толпе: «Товарищи, пропустите детей!» Наконец образуется узкий коридор, который в мгновение ока заполняется мальчишками и девчонками. Последними в вагон входят рыбаки со своими коловоротами и «баянами». Им уже негде сидеть. Но они не унывают. «Ничего, у нас места при себе!» – говорит кто-то из них. И действительно, вскоре все они восседают на своих «баянах». Учительница пробует сосчитать школьников. Около нее вертится шустрый мальчонка. Весело подначивает ее: «А я остался на перроне, а я остался на перроне!»
Рядом со мной сидят несколько молодых парней-лыжников. Поезд еще не отошел, а они уже достают карты. Один из лыжников – красивый, улыбчивый, самоуверенный – щелкает колодой и обращается к стоящей рядом незнакомой девушке: «Хотите, уступлю место?» – «Уступите!» – говорит та. «Если выиграете!» Он тщательно тасует и протягивает ей колоду. Помедлив, она снимает. Он, озорно поглядывая на нее, принимается сдавать карты. «Козыри – буби!» Начинается игра. Парень сыплет прибаутками. Коронная из них: «Трусы в карты не играют!» Это и комплимент, и подначка одновременно. Девушке решительно не везет. Все козыри, как назло, идут к парню. Вскоре к нему перекочевывает и последняя козырная десятка. У девушки же в руках целый веер карт. Со смущенной улыбкой возвращает их парню. Тот подмигивает и спрашивает: «Играем до последнего обморока?» Девушка не отвечает и отводит взгляд. Парень снова тасует карты и, мурлыча что-то, начинает сдавать приятелям.
Поезд сбавляет ход. Кушелевка…
БАБУШКА С СОБАЧКОЙОчередь за квасом подвигалась медленно, и я имел достаточно времени приглядеться к своим соседям. За мною, через одного человека, стояла старуха с молоденьким фокстерьером. Она принадлежала к тому довольно распространенному сейчас типу деревенских бабушек, которые, живя в городе, тем не менее сохранили все свои вкусы и пристрастия. Даже в одежде – серовато-унылой, без единого яркого пятнышка – она не позволяла себе ничего лишнего. Зато фоксик, который крутился у ее ног, был настоящий аристократ и денди. Чего стоила его бархатная, обшитая бисером попонка!
До того они не подходили друг другу – бабушка и песик, что я поначалу принял за хозяйку одну солидную разнаряженную даму, стоявшую неподалеку. Вот кто был бы прекрасной парой – эта нарядная дама и этот франтоватый, балованный и капризный фокстерьер.
Но собака была все-таки бабушкина. Непослушная и своенравная, она делала, что ей вздумается: лаяла на прохожих, путалась под ногами, заглядывала в чужие сумки, убегала. Наконец старухе удалось изловчиться и надеть на нее поводок. Но и после этого фоксик еще долго выкручивал руки своей хозяйке. Та же неумело и робко пыталась его приструнить: «Сидеть! Сидеть!» Тщетно. И только когда она пригрозила кончиком поводка: «Я вот тебе!» – он удивленно посмотрел на нее и уселся у самой старухиной ноги, прижался головой.
– Это что за порода? – спросила подошедшая девочка.
– А я уж запамятовала какая, – произнесла старуха и со слезами на глазах добавила, обращаясь к своей нарядной соседке: – Собака-то не моя, а дочки. С неделю как похоронили. От рака желудка померла. Сорока семи лет не было…
– Я представляю, как тяжело вам, – сказала дама.
– И не говори, милая.
– Дети остались?
– Нет у нее никого. Вот одна собачка осталась.
– Тоскует, наверно?
– Как не тосковать? Тоже живая душа…
Фокстерьер, догадавшись, что речь шла о нем, поднял голову и, довольный, замолотил по земле коротеньким хвостом…
КОПЕЕЧКАСплошь и рядом в городском транспорте можно наблюдать такую картину: человек опускает в кассу крупную монету, а потом сам собирает себе сдачу. Пятачок от одного, три копейки от другого, копеечку от третьего…
Я стою возле кассового аппарата. В автобус через разные двери входят девочка и старушка. Девочка достает из кармана десять копеек, опускает их. И остается дежурить у кассы, чтобы взять у кого-нибудь пятачок. Подходит старушка. У нее в кулачке зажаты какие-то монеты. Девочка говорит:
– Бабушка, дайте мне ваш пятачок, я бросила десять копеек.
Старушка опасливо косится на девочку и торопливо раскрывает кулачок над кассовым отверстием. Но девочка успевает подставить ладошку, и на нее падают две монетки – три и копеечка. Теперь девочке ясно, почему эта бабушка вела себя так странно: у нее не хватало копеечки на билет. И обе испытывают ужасную неловкость. Старушка – потому, что попалась на мелком жульничестве, девочка – потому, что невольно раскрыла бабушкину тайну.
Я делаю вид, что ничего не заметил. Девочка, оглянувшись, прячет деньги в карман и отходит. Старушке уступают место, и она всю дорогу сидит с пылающими щеками…
СТРОКИ ЖИЗНИЯ, наверно, никогда не напишу воспоминаний. Там, где воображению нечего делать, я не способен связать и двух слов. Все, что я более или менее правдиво рассказываю, кажется мне настолько нехудожественным, что я готов выть на луну от собственного бессилия. Я бесконечно завидую тем литераторам, которые умеют рассказывать о себе, ничего не сочиняя. Мне этого не дано. Я вру напропалую, даже тогда, когда, пожалуй, и врать-то нет смысла: пиши, как было, и у читателя дух захватит.
И все же соблазн велик. От одной мысли, что не боги горшки обжигают, что не так, вероятно, и сложно писать, ничего не выдумывая, я начинаю испытывать какое-то странное сладостное томление. В эти минуты мне кажется, что надо только сесть за стол, взять бумагу, карандаш и написать первое слово…
Итак, проба пера. Раннее детство.
Рассказ первый
ЛЯГУШКА
Я стою, облокотившись на подоконник, и слежу за лягушкой. Она часами сидит на одном месте и тоже наблюдает за мной. Иногда от тяжелого лягушечьего взгляда мне становится не по себе и я кричу на нее и стучу по оконному стеклу, разделяющему нас. Это не очень пугает ее. Она делает лишь один коротенький прыжок, и все остается по-старому. И неподвижность, и взгляд, и загадочность наших отношений.
Она исчезает так же неожиданно, как появляется. Я осматриваю каждый уголок, каждую вмятину узкого каменного колодца, в которое упирается наше окно. Тщетно. Может быть, она заколдованная царевна из сказки?
Я испуганно озираюсь. Отовсюду на меня надвигаются тени. Огромные, страшные.
Я с плачем забираюсь под кровать. Оттуда меня вытаскивает вернувшаяся с работы мама…
А утром, едва продрав глаза, соскакиваю на холодный пол и бегу к окну. Лягушка уже сидит на своем обычном месте. Как будто никуда и не исчезала…
Рассказ второй
ХОРОШО БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ
Мы живем в деревянном догнивающем флигельке. Даже я в свои четыре года понимаю, что здесь не очень-то разгуляешься. Полдома занимает огромная русская печь. И хотя топят ее каждый день, за ночь на подоконниках нарастают длиннущие сосульки. По утрам я загребаю к себе в постель всю свою одежду и уже там, сидя под теплым одеялом, с немалыми трудностями натягиваю ее на себя. И только потом высовываю наружу нос. Папа и мама считают, что нам повезло с жильем: до этого мы жили в подвале, что самым пагубным образом, как они утверждали, отражалось на моем здоровье. Здесь хоть воздух здоровый.
Воспоминание того же периода. Мы втроем – папа, мама и я – идем в гости к папиному начальнику. Он живет где-то возле городского театра в большом каменном доме. Мы поднимаемся по широкой красивой лестнице на третий этаж. Меня поражает обилие звонков на входной двери, и я тут же прихожу к выводу, что это, наверно, не случайно: чем больше начальник, тем больше звонков. Через всю квартиру тянется длинный коридор, по которому вполне можно носиться на велосипеде или бегать вперегонки. По обе стороны прохода темнеют двери. «Хорошо быть начальником», – думаю я. Память хранит об этом визите еще просторную светлую кухню, где шумит с десяток примусов и над множеством кастрюль поднимается пар, возвещая о скором обеде. «Когда папа станет начальником, – окончательно решаю я, – у нас тоже будет столько примусов и кастрюль».
За свою не очень долгую жизнь отец так и не походил в начальниках, зато коммунальных квартир мы сменили немало…
Рассказ третий
ИГРАЛ ЦАРЕВИЧ В ТЫЧКУ
Вопрос о том, что общего между автором этих строк и царевичем Дмитрием, скорее похож на зачин какого-нибудь непритязательного анекдота. И все же общее есть. Он погиб, а я едва не погиб во время старинной мальчишеской игры в тычку. Ножик, неловко брошенный кем-то из пацанов, вошел мне в спину. Обливаясь кровью, я с трудом добрался до дому. Чтобы замести следы чужого преступления, я закинул окровавленную рубашку на печку и сел читать Жюля Верна. Когда пришли с работы родители, я уже был без сознания. Нетрудно представить, что они пережили. Я же, в отличие от царевича, уже через две недели снова носился с ребятами по улице. И вот тут-то было положено начало одной из самых удивительных историй моей жизни. У хозяев флигелька, в котором мы жили, было пятеро взрослых сыновей и дочерей. После того случая с ножичком они жалели меня и всячески выказывали расположение. Как-то к ним пришли ребята с соседней улицы. Немножко выпили, закусили и потом пошли в сад фотографироваться. И тут им подвернулся я. Захватили с собой и меня. Со временем я позабыл, что сфотографировался с ними. Эта фотокарточка нашла меня спустя тринадцать лет на фронте, в тысячах километрах от родного города. Однажды я познакомился и разговорился с одним старшим сержантом. И вдруг выясняется, что он мой земляк и был в числе тех ребят, которые в тот день приходили в гости к моим хозяевам. И больше того, что у него есть фотокарточка, где вместе с другими запечатлен и я. Он написал домой письмо, и вскоре оттуда прислали снимок. На нем действительно был я – восьмилетний мальчонка, только что оправившийся от своего первого ранения…
Рассказ четвертый
ВЫСТРЕЛ ВО ДВОРЕ
Мы стояли у окна трое: я, мама и… Вернее, стояли я и мама. Младший братишка, которому еще не исполнилось годика, сладко посапывал на ее руках. Маме было что-то около тридцати, и она с не меньшим интересом, чем я, наблюдала за тем, что делалось на дворе. Несколько, взрослых пятнадцатилетних ребят, включая Женю и Витю, сыновей хозяев флигелька, в котором мы жили, устроили под нашими окнами стрелковые соревнования. Пуляли они из мелкокалиберки по доморощенной мишени – торцу огромного бревна, приготовленного для распилки. Стреляли ребята примерно с десяти метров, и поэтому редко когда кто мазал. Правда, в яблочко, подрисованное красным карандашом, попадали тоже не часто. Шум стоял невероятный: как стрелков, так и зрителей, привлеченных выстрелами из соседних дворов, охватил спортивный азарт. Желающих помериться с другими меткостью становилось все больше и больше. И тут появился папа. Он шел от ворот и приветливо махал нам рукой. Мама помахала ему в ответ. Я обрадовался: обычно отец возвращался с работы поздно. Проходя мимо стрелков, он вдруг замедлил шаги и остановился. Проводив взглядом несколько не очень удачных выстрелов, папа попросил у ребят ружье и, подмигнув нам с мамой, прицелился. Раздался выстрел. Звякнуло тоненько стекло. Мама ойкнула и одной рукой (в другой она держала брата, который проснулся и заревел) схватилась за грудь. В окне зияло круглое отверстие со множеством отходящих от него трещин. Такое же круглое пятно, наливавшееся темной кровью прямо на наших глазах, выступило на маминой груди. Бледный как смерть отец бросился домой. Случилось невероятное. Пуля ударила в срез бревна и рикошетом угодила в маму. Отец побежал вызывать «скорую помощь», а мама сидела на табуретке и радостно твердила: «Как хорошо, что в меня… Как хорошо, что в меня…» И в самом деле, возьми пуля правее, и она бы попала в брата, прямо в его мягкую, еще не окостеневшую голову, левее – в меня…
Это была первая пуля, которую она, как ей казалось, отвела от нас. Когда я девятнадцатилетним мальчишкой попал на фронт, я был преисполнен глубочайшей уверенности, что если я и останусь жить, то только благодаря маминой любви, незримо сопровождавшей меня по всем фронтовым дорогам…
Перед боями, в момент величайшей опасности для себя я доставал из кармана письмо мамы, ее первое письмо на фронт, и украдкой целовал его.
Вот это письмо, которое я, как самую дорогую реликвию, берегу по сей день.
«Дорогой сынок!
Милый мой, не знаю, дойдет ли мое письмо к тебе. Но мои мысли и мое сердце полны тобою. Мой страх очень велик за тебя. Умоляю бога, если он есть, чтобы ты и твой отец перенесли все нарастающие опасности спокойно и благополучно, чтобы мы могли встретиться еще с вами. У меня нет больше слов, мое сердце рвется к вам, молюсь день и ночь за вас. Я уверена, что мы встретимся еще и будем вспоминать вместе дни тревоги и страха. Сын мой, целую тебя традиционно три раза, и верь, что везде тебя будет защищать любовь матери! Целую, целую, целую. Мама».
В местах, где я когда-то прикасался губами, бумага со временем пожелтела, и слова, написанные простым карандашом, стерлись. Стерлись на бумаге, но в памяти остались. Я много чего позабыл, но это письмо знаю наизусть…
Рассказ пятый
ИСТОРИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ
Из школьных предметов я больше всего любил историю. Даже то, что ее у нас преподавали люди, начисто лишенные воображения, не повлияло заметно на мое к ней отношение. Мир далекого прошлого, неодолимо влекущий меня к себе своими яркими, буйными и пестрыми красками, существовал как бы сам по себе, независимо от школьной программы, от преподавателей, в поте лица изгонявших из него все, что составляло его душу – поэзию. Дороги, которые вели к нему, проходили по страницам исторических книг, поглощаемых мною в невероятных количествах. До чего прекрасны и упоительны были эти дороги! Короткие и прямые в школьных учебниках, они в моих книгах долго и медленно петляли в веках, раскрывая одну тайну за другой. И их неторопливый ход давал счастливую возможность не спеша осмотреться, подумать, помечтать. Ах, как хорошо болело сердце за чужие и далекие беды! Как живые, проходили передо мной герои и мечтатели, философы и тираны, воители и пророки. И постепенно я, сам того не подозревая, начинал отличать соль истории от ее накипи…
Только когда я подрос, я открыл для себя истину: история, от которой я был без ума, величественный храм, но храм с широко распахнутыми для всех дверями. Каждый, кто хочет, может в него войти. И входят, конечно. Кто с толпой, кто в одиночку. Не знаю, как другие, но я вступил под его высокие своды с волнением, обжигающим душу, вступил чуть ли не после первой прочитанной исторической книги. Уже тогда моему воображению было тесно и неуютно в четырех стенах школьной программы. Душа рвалась в прошлое не меньше, чем в будущее. Я хотел быть не только благодарным зрителем, но и участником, полноправным участником давно прошедших событий. И я был им, и был не раз…
Помню наше окно, подернутое легким морозом. Я один дома. Родители ушли не то в гости, не то в кино. Я вскакиваю на табуретку и кричу, размахивая кулаками: «Долой самодержавие! Долой войну! Хлеба! Хлеба!» Мой крик подхватывают сотни и тысячи голодных и оборванных людей, вышедших на улицы Петрограда, чтобы требовать для себя и своих детей лучшей жизни. Сейчас не могу вспомнить, почему из всех революций я в тот день облюбовал Февральскую. Возможно, что-нибудь прочел… Но вернемся в семнадцатый год. Выполнив свой долг перед рабочим классом, я слезаю с одной табуретки и залезаю на другую. На мои плечи опускается тяжелая горностаевая мантия, а на голову – корона. Ненавидящим взглядом смотрит царь из окна своего дворца на проходящих мимо петроградских работниц. На транспарантах, которые они несут, требования, чтобы он покончил с войной, дал людям хлеба и отрекся от престола. Мне невдомек, что я грубейшим образом искажаю историческую правду. Но откуда я мог знать, что царь в это время находился в Могилеве?.. Впрочем, отрекаться ему и в самом деле не хочется. «Позвать ко мне главного генерала!» – приказывает он, и я мгновенно спускаюсь с табуретки и пулей лечу на кухню. Возвращаюсь оттуда я уже генералом. Печатая шаг и держа руку у козырька, он подходит к царю и говорит: «Ваше величество, вы меня вызывали?» Я снова взбираюсь на табуретку и царским голосом спрашиваю: «Долго будет это продолжаться?» Так говорит мама, когда я капризничаю за едой. «Не долго», – отвечает генерал, прикрывая рот ладошкой: в конце концов, чтобы произнести эти два слова, необязательно слезать с табуретки. «Покажите им кузькину мать!» – Царь, сам того не зная, цитирует нашего директора школы, у которого «кузькина мать» не сходит с языка. На этот раз генералу приходится спуститься на пол. Придерживая рукой шашку из чистого золота, он направляется к солдатам, которые длинной шеренгой стоят вдоль дворца. «По унутренним врагам – огонь!» – командует генерал. Пока он договаривает фразу, я успеваю перебежать к окну, стать по стойке «смирно» и всем своим видом показать, что ни я, ни мои товарищи стрелять в народ не будем. Сейчас в моей груди колотятся сотни, а может быть, и тысячи солдатских сердец. С криками «Ура!» мы присоединяемся к колонне демонстрантов и, подняв ружья, открываем пальбу по дворцу.
Я в последний раз вскакиваю на табурет и, внося существенную поправку в историю, картинно валюсь с него, сраженный солдатской пулей…
Было это, насколько помню, в тридцать первом году. Я только пошел в школу. Играли тогда дети в основном в красных и белых, царя и революционеров. Еще не вышел на экраны «Чапаев» и не совершили своих ошеломляющих полетов Чкалов и его товарищи. Еще не стреляли в Испании и только подбирались к власти немецкие фашисты. Еще молодыми людьми были участники революции и гражданской войны…
Затаив дыхание я слушал обстоятельный и неторопливый рассказ отца о том, как он попал в плен к бело-полякам и чудом избежал расстрела. Теперь я понимаю, что он был очень талантливым рассказчиком. Во всяком случае, все, о чем он мне поведал, я видел ясно, как будто смотрел кинофильм.
Потом я часто исполнял в лицах «папино пленение».
Кем только я не побывал в те годы: Кутузовым и Наполеоном, Робеспьером и Маратом, Ворошиловым и Буденным…
Мне было двадцать девять лет, когда я в последний раз бескорыстно побывал в чужой шкуре. Теперь же если я и превращаюсь в других, то исключительно в интересах дела. Чтобы лучше представить себе, а затем отобразить своих героев. Но это уже особый разговор…
Рассказ шестой
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Я уже не помню, то ли я упросил его взять меня с собой в лес, то ли он сам предложил. Скорее всего, первое: дорога предстояла дальняя, десять километров туда и десять обратно, велосипед же был старенький, со стертыми, вечно спускавшими колесами, на нем не столько разъезжали, сколько клеили резину. Так что лишних тридцать килограммов вряд ли вызвали у Жени большой энтузиазм. Но, как бы то ни было, он прихватил меня с собой. Накрутив на верхнюю часть рамы какую-то тряпку, чтобы не очень резало, он усадил меня перед собой а пулей выехал со двора на улицу. И тут у меня екнуло сердце: я вспомнил, что не отпросился у мамы. А тем временем мы уже неслись по мостовой в сторону кладбища.
Чтобы не мешать Жене, я подобрал ноги и ухватился руками за самую середину руля. Из-за кладбищенских деревьев показались пропеллеры, установленные на могилах летчиков. Мы с ребятами часто бегали сюда. Другие покойники нас не интересовали. Зато погибших летчиков мы всех знали по фамилиям.
Проскочив небольшую, нарядную, залитую солнцем поляну, мы вихрем влетели в лес. Один за другим гасли солнечные лучи. Деревья нехотя расступались перед нами. Со всех сторон надвигалась глубокая и угрюмая тишина. Будь я не один, я бы, наверно, натерпелся страха. Но с Женей я ничего не боялся. Правда, он был старше меня всего на пять лет. Но в свои пятнадцать он считался вполне взрослым человеком. Учился в ФЗО и даже зарабатывал деньги. За то, что он был ко мне добр, я его любил не меньше, а может быть, и больше своих двоюродных братьев и сестер.
Конечно, ехать верхом на раме – удовольствие ниже среднего. Вскоре я отсидел обе ноги, отбил себе, несмотря на подстилку, мягкое место. Я бы не возражал, чтобы спустило какое-нибудь колесо и я бы получил короткую передышку.
Но сегодня Женин велосипед как будто подменили. Чешет как новенький!
Когда мне стало уже совсем невмоготу, на мое счастье, из чащи вынырнула избушка лесника, дальнего хозяйского родственника, к которому у моего приятеля было какое-то поручение родителей.
Пока Женя разговаривал с лесником – стариком с огромной окладистой желтой бородой и живыми темными глазами, – я осторожно разминал ноги.
Потом лесник подозвал меня и угостил нас с Женей сотовым медом. Отрезал он нам его столько, что мы еле управились, далее челюсти устали жевать.
Обратно поехали мы только часа через два, потому что в последнюю минуту решили сбегать по малину, которой здесь росло видимо-невидимо, а добравшись до нее, уже не могли остановиться.
Гроза застала нас в пути. Началась она почти без предупреждения, если не считать нескольких капель, скатившихся на нас, как мы поначалу решили, с листьев. Женя в бешеном темпе крутил педали, а вокруг уже вовсю трещало, гремело, гудело и сверкало. Такого обильного дождя я еще не видел в жизни. Словно Десна стоймя встала. Через мгновение мы промокли до нитки.
Все наши запоздалые попытки укрыться под каким-нибудь деревом, казалось, только еще больше разъяряли дождь. Вода вымывала нас отовсюду, как мышат из норы.
В сущности, нам терять было нечего, и мы под ливнем заторопились домой…
И вдруг я увидел вдалеке шагавшую нам навстречу человеческую фигуру. Расстояние между нами быстро сокращалось. И тут внутри у меня все оборвалось: я узнал папу. Как и мы промокший до нитки, он грозно надвигался на нас, размахивая огромной суковатой палкой.
Велосипед трусливо завилял. Я прижался всем туловищем к рулю и от страха едва не соскользнул с рамы.
Но первым делом разъяренный папа напустился на Женю. Палка то приближалась к носу моего приятеля, то отдалялась.
Память моя не сохранила слов, которыми костил отец Женю. Но помнится – за что… Только подумать, тайком от всех увезти бедного ребенка в лес и там его, еще не оправившегося от воспаления легких, несколько часов держать под проливным дождем! Краски, конечно, были сильно сгущены: чувствовалась рука мамы, которой всегда рисовались всякие страхи.
Женя ни слова не произнес в свое оправдание: всю вину принял на себя.
Так бесславно кончилась моя первая прогулка в глубь леса.
А был это Брянский лес, ставший потом легендарным. В нем многие мои земляки и товарищи по школе сражались с гитлеровцами, уничтожая их сотнями в лесной глухомани. Кто-то мне говорил, что в партизанах были и Женя со стариком лесником…








