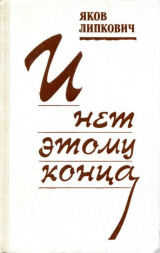
Текст книги "И нет этому конца"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
– Вот, видели! На старшего по званию!..
Подошел Долгов с солдатами. Все трое сделали вид, что я для них такой же посторонний, как и капитан.
– Что здесь у вас происходит, товарищ гвардии лейтенант? – спросил Ваня.
– А то, что эта тыловая хрюшка предпочитает воевать с немцами всюду, только не на передовой!
Ваня посмотрел на капитана и тихо приказал:
– Взять его!
Капитан ринулся в сторону, но разведчики быстро схватили его.
– Пошли к коменданту, – распорядился Ваня, – Надо быть круглым идиотом, чтобы не понимать, что те немцы, которые остались, не убежали, – нам не враги. Может быть, все эти двенадцать лет они ждали нас и верили в нас…
Шофер резко затормозил.
– Что такое?
– Кажись, дорога кончилась.
– Как кончилась?
– Сейчас погляжу, – сказал он, вылезая из машины.
Я последовал за ним. Мы не прошли и десяти метров, как перед нами оказался овраг с торчащими сваями недостроенного моста.
– Говорили, что проехать можно, – оправдывался шофер.
Я спустился с обрыва сперва в одном месте, потом в другом, в третьем… Нет, здесь машина не съедет!
– Надо искать объезд, – сказал я.
– Товарищ лейтенант! А может, мост был, да его разобрали? – с надеждой спросил шофер.
– Ну, сейчас нам это все равно. Куда повернем?
– Кайзерсвальдау вроде бы там… – Он неуверенно показал куда-то влево.
– Поехали!..
И вот, свернув с дороги влево, наша «санитарка» снова пробиралась между деревьями, но уже вдоль оврага. Хорошо, если эта непредвиденная задержка отнимет у нас… ну, десять, пятнадцать, двадцать минут. Но, возможно, на поиски объезда уйдет и больше. Тогда может быть поздно. Подумав о Ване, я почувствовал, что меня гнетет и другое: ведь до рассвета надо сделать еще один рейс…
Я прильнул к боковому стеклу, вглядываясь в черную ленту оврага, которая то расширялась, то сужалась так, что ее почти не было видно. Тогда я на ходу выбирался из машины и бежал к обрыву. Но там по-прежнему было глубоко и широко: обманывали ночные очертания. Уже прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, а овраг все еще тянулся непреодолимым препятствием…
Я сидел как на иголках. К тому же наши часы показывали разное время. На моих было полвторого, у шофера – без четверти два. Он заверил меня, что его часы идут точно: «поставил по московскому».
Скоро будет час, как мы свернули…
Сзади забарабанили кулаками.
– Что случилось? – крикнул я.
– Надо перевязать одного…
У меня отлегло от сердца.
– Сейчас!.. Останови! – приказал я шоферу.
Я перебрался в кузов.
– Здесь! – сказали где-то впереди.
Раненые подвинулись и подобрали ноги, пропуская меня ближе к кабине.
– Подождите, – сказал я бойцу, который обеими руками держался за грудь…
Я склонился над Ваней, нащупал его руку. Она была прохладна и безжизненна. Я лихорадочно начал искать пульс. Глубоко, под сухожилиями, наконец уловил слабые толчки.
Я придвинулся вплотную. Он дышал тихо и неровно.
– Ваня! – позвал я.
– Сережа? – одними губами спросил он.
– Я.
– Сколько осталось?
– Километров пять, не больше. Скоро будем.
– Скоро… – прошептал он.
– Скоро, – повторил я, и горький ком подкатил у меня к горлу…
– Что у вас? – спросил я бойца.
– Кровь течет, – сообщил его сосед, танкист с забинтованной головой.
– Посветить есть чем?
Откуда-то взялся ручной фонарик. Свет от него упал на обнаженную рану. Я посмотрел: бинты сползли на живот. Я не стал их перематывать, а наложил новую повязку…
– А у остальных все в порядке?
– Быстрей бы, доктор. А то не доедем, – ответил один из раненых.
Я еще раз со щемящей болью в сердце взглянул на Ваню и покинул кузов…
Шофер ждал меня.
– Куда? – спросил он.
– Еще немного проедем. Если не будет дороги, повернем обратно.
– Как обратно?
– Да не назад, а вправо! – заорал я.
Этому чертову оврагу, действительно, конца-краю нет. Придется все-таки вернуться и попытать счастья там, справа. Но я еще чего-то ждал. Мне все казалось: вот сейчас мы повернем, а где-нибудь неподалеку, может быть совсем рядом, долгожданный объезд…
Но теперь дорога каждая минута. В моих ушах звучал слабый, уже потерявший знакомые мне нотки, голос друга. Но Ваня верил и надеялся… Нет, дальше ехать нет смысла!
– Стой!
Шофер как будто даже обрадовался: охотно и торопливо затормозил.
– Я на всякий случай схожу, посмотрю! – сказал я, выбираясь из кабины.
– Мне развернуться?
– Да подождите!..
Я почти все время бежал. Продирался сквозь кусты, спотыкался, падал, порвал шинель. Но объезда не было… Я продолжал бежать. На мне уже не было живого места. Лицо и руки были исколоты, исцарапаны. При падении я подвернул кисть левой руки, и она при каждом резком движении напоминала о себе. Но мне некогда было ни прислушиваться к боли, ни оберегать себя от новых ушибов и царапин…
Когда я порядком удалился от машины и уже начинал подумывать о возвращении, вдруг ясно увидел дорогу. Светлая, с каким-то необыкновенным голубоватым отливом, она проходила через весь овраг и четко просвечивала между деревьями на той стороне. Я кубарем слетел вниз и только там, на дне оврага, увидел, что все кругом залито лунным светом. В то мгновение я лишь удивленно отметил это про себя, не больше. Я торопился к дороге, которая светилась впереди своим ровным грязновато-снежным покровом.
Главное – посмотреть, пройдет ли машина. В крайнем случае, раненые сойдут и переберутся на ту сторону пешком. Идти им придется не больше пятидесяти метров. Ну, а тех, кто не в состоянии передвигаться, мы перенесем на носилках. Таких пятеро. Ваня и еще четверо с ранениями в грудь и ноги…
Только все это надо быстрее!.. Мы еще можем уложиться в ночное время. Отвезти Ваню с ранеными и уже по знакомой дороге сделать второй рейс. Только не терять ни минуты!
Теперь я уже различал отдельные подробности. Крутой подъем. Сверху дороги не было видно, от меня ее загораживал обрыв с подступившими к самому краю деревьями. Колея книзу расширялась и треугольником упиралась в берег обрыва. Спуск, очевидно, скрадывался тенью…
И вдруг очертания колеи, казавшиеся издали такими четкими, при моем приближении стали расплываться и тускнеть. Странным образом изменился и цвет. Теперь это уже не было похоже на грязный лежалый снег – проступали серые, притемненные деревьями и кустарником краски песка…
Дороги не было! Это была лишь широкая песчаная промоина, пересекавшая дно оврага. Утопая в глубоком песке, я метался по ней, словно еще надеялся разыскать пропавшую колею. Я уже знал, что ее нет, и в то же время не хотел поверить в это…
Я опомнился. Одним духом вскарабкался на обрыв и, не переведя дыхания, побежал обратно… Сейчас времени оставалось только на то, чтобы добраться до госпиталя…
Как же быть со вторым рейсом?.. Нет, не успеть!.. Я не боялся, что мне может попасть за невыполнение приказа. Я сделал все возможное. Даже больше, чем другие. Те вообще не проскочили. Два рейса за ночь – это предел, о котором мы только мечтали. Меня мучило другое. Меня неотвязно преследовала одна и та же картина: эсэсовцы метр за метром продвигаются вперед и, сломив сопротивление, врываются в Лауцен. Отыгрываясь за все, они первым делом приканчивают раненых, И тех, кто еще не успел попасть в медсанвзвод, и тех, кто уже находится там и до самого последнего момента надеется, что за ними придет машина… Нет! Я должен сделать два рейса. Гнать «санитарку»? Нет, это исключено! Но другого выхода нет… А может быть, все-таки успею?.. Я бежал, подхлестываемый этими мыслями, еще не зная, что я должен делать…
Где-то близко раздался треск кустарника и послышался голос:
– Товарищ лейтенант!
Голос показался знакомым, Я бросился к краю обрыва и увидел шофера. Ухватившись за куст, он пытался взобраться наверх.
– Что случилось?
– Я искал вас!
– Говори, что произошло?
– Невтерпеж стало ждать… – сказал он, с моей помощью поднимаясь на обрыв. – Поскорее узнать захотелось, есть ли объезд…
– Здесь нет. Придется поискать справа. Далеко отсюда машина?
– Нет, недалече…
– Побежали!..
Через несколько минут мы были у «санитарки». Я с трудом сдержал себя, чтобы не заглянуть в кузов. Когда я забрался в кабину, я услышал позади негромкий голос:
– Товарищ доктор, скоро госпиталь?
В окошке торчали, тесно прижавшись друг к другу, две головы. Одна – забинтованная – принадлежала танкисту.
Я замялся:
– По ту сторону… всего несколько километров… от этого… ну… Кайзерсвальдау…
– Ребята просят: поскорее бы. А то тут троим совсем плохо…
В моем распоряжении оставались считанные часы. От силы два с половиной, три часа…
«Санитарка» мерно покачивалась на ухабах. Шофер уже вполне освоился с ночной дорогой. Он будто предчувствовал приближение очередной рытвины и уверенно и нерезко преодолевал ее…
Я не выдержал:
– Прибавь… немножко… немножко…
Сейчас во мне не было ни одной клетки, которая не трепетала бы от нетерпения: скорее, скорее!!!
Но и теперь машина шла со скоростью пешехода или чуточку быстрее. И вдруг я обнаружил, что луны уже нет, а чернота, заполнявшая все пространство от края обрыва до верхушек деревьев на той стороне, как-то сама вся поблекла: на ней лежал едва заметный сероватый отсвет. Если мы и дальше будем так ползти, то до госпиталя доберемся только к утру…
Но вот наконец и старая дорога. Мы въезжаем в ту часть леса, с которой связывались наши последние надежды. И хотя я не очень верил, что объезд может появиться тут же, сразу, я до боли в глазах всматривался в тускло-серые просветы между деревьями, за которыми по-прежнему виднелись темная впадина оврага и панорама подернутого грязновато-матовой дымкой леса…
Мое нетерпение передалось и шоферу. Он уже не сидел, как раньше, спокойно за рулем, а часто привставал или открывал дверцу и выглядывал из кабины…
Приближался рассвет, а дороги через овраг все не было…
Не было и через десять минут…
И через двадцать…
И через тридцать…
Если объезда не будет еще через пятнадцать-двадцать минут, то все полетит к черту!
Но прошло еще четверть часа, а кругом было все то же.
И этот проклятый овраг, который, наверно, тянется через всю Германию; и этот бесконечный лес на той стороне; и такой же бесконечный лес по нашу сторону.
И все это спокойно и открыто дожидается рассвета…
Я опять не выдержал.
– Я побегу вперед! – сказал я шоферу. – Не останавливай!
Я соскочил с подножки и, обогнув спереди едва ползущую машину, добежал до края обрыва. Отсюда было лучше видно. Овраг уже просматривался до самого дна. Я различал отдельные кусты, камни, ручеек, петляющий между ними, и вдалеке поваленное или упавшее дерево. За ним еще стоял полумрак. Но с первого же взгляда мне стало ясно, что ничего похожего на дорогу на всем протяжении нет, и мною с новой силой овладело чувство беспомощности…
А может быть, она все-таки есть? И скрыта полумраком? Грязная, темная, невидная? Такая, которую ночью можно увидеть, только случайно наскочив на нее?..
Я бежал по самой кромке, а справа от меня, за деревьями, неотступно урчал мотор. Я слышал, как трещали под колесами кусты… Иногда ноги у меня соскальзывали, и я стремглав летел вниз. Но потом взбирался и снова продолжал путь…
Я понимал, что если не чудо – дорога тут же за поворотом, – то я уже не знаю, что тогда делать…
Неожиданно меня охватило такое нетерпение, что я готов был выскочить из самого себя. Меня гнало предчувствие, что там, за поворотом, непременно находится дорога. И когда до него осталось совсем немного, это предчувствие перешло в уверенность…
Я добежал до выступа и, действительно, увидел ее. Она спускалась по нашему склону в овраг и, наискось перерезав его, некруто взбиралась на тот берег… Это мне не снилось, не казалось. Это была самая настоящая дорога…
Я все еще не верил своим глазам, потому что я мечтал о чуде, и чудо свершилось. Я готов был кричать от радости.
И я закричал. Что? Не помню. Мне даже не пришло в голову, что меня не услышат…
На какое-то мгновенье мне представилось, что я без задержки добираюсь до госпиталя и, сдав Ваню и остальных, сразу же возвращаюсь за новыми ранеными в медсанвзвод. Десять минут на погрузку, и если нас не накроют вначале, то через полчаса мы будем снова в лесу. И не беда, что в нем нас застанет утро. Здесь оно нам не страшно…
Я сбежал к дороге и по ней спустился до дна оврага. Потом понесся обратно, навстречу машине, которая только что показалась из-за деревьев.
– Дорога! Дорога!
Шофер уже и сам видел ее. Он неотрывно смотрел вниз и был озабочен лишь тем, как бы ловчее и аккуратнее съехать.
– Лево! Право! Сюда! – орал я.
Он выбрался на дорогу и медленно, на тормозах, стал съезжать. Я на ходу залез в кабину.
– Теперь жми!
В мгновение ока мы проскочили овраг…
И вот машина снова заурчала на подъеме…
Нас подбросило. Это могло быть и случайно. Но через некоторое время последовали еще два сильных толчка. Я насторожился. Колея уже довольно отчетливо проглядывалась, и я заметил, что она вся в мелких неровностях…
Какое-то чувство, похожее на тоску, сдавило мне горло. Я увидел, что по правую руку, как раз там, где склон был пологий, все вдоль и поперек изрезано десятками колес. Очевидно, здесь проходило большое соединение. Кроме частых следов от шин повсюду виднелись глубокие отпечатки гусениц – еще свежие страшные раны… «Санитарка» взобралась наверх. С первых же метров под нашими ногами мелкой рябью заходила земля. Самые худшие предчувствия не обманули меня. Все кругом было разбито машинами. Не было буквально ни одного клочка дороги, который бы не исковеркали, не изуродовали колеса…
Машина двигалась не спеша, опасливо преодолевая и объезжая ухабы…
Я уже не смотрел на часы. Я знал, что сейчас без двадцати шесть. Ровно в девять немцы пойдут в атаку. Я не сомневался, что сегодня они будут так же пунктуальны, как всегда. Через два часа сорок минут они со всех сторон полезут на нас, и если им и на этот раз не удастся прорваться к центру Лауцена, то они все равно потеснят наших на несколько десятков метров. Это в лучшем случае.
Я обязан сделать второй рейс. Невзирая ни на что…
Ваня, ну подскажи, что мне делать? Как бы ты поступил на моем месте? Их без тебя двенадцать. Все они измотаны дорогой. У двоих начинается гангрена. Большинству необходимо срочное переливание крови. Если мы и дальше будем так ехать, то не досчитаемся еще двух-трех. Потом – их двенадцать. И еще четырнадцать доставим вторым рейсом. Всего двадцать шесть…
Двадцать шесть и один…
Но один – это ты…
Он стоял перед моим взором, каким я его видел всегда: с прищуренным взглядом хитрющих глаз, которые бесконечно менялись выражением. Я помню его всяким – внимательным… грустным… разгневанным… холодным… растерянным, как в первый день ранения…
Передо мной промелькнули давние полузабытые картины нашей дружбы… Вспомнилось, как однажды он вызвался мне помочь перевязывать раненых, и как он старался, и как неумело у него это получалось. Он удивлялся тому, что у меня все это выходило быстро и основательно. И еще припомнил, как он, уходя в разведку, передал мне на хранение свои ордена и медали и я, не удержавшись, нацепил их и в таком виде предстал перед незнакомыми офицерами из истребительного противотанкового дивизиона, стоявшего по соседству. Потом мне было стыдно, нехорошо. И я никогда не говорил ему об этом. Но осталось ли это для него тайной, я так и не уверен… А потом в памяти почему-то всплыло, как в один из вечеров он допоздна засиделся в медсанвзводе и я предложил ему переночевать. Но свободных коек не оказалось, и мы легли на одну. Дома, когда у нас бывали гости, я часто спал вдвоем со Славкой. И в ту ночь, прислушиваясь к спокойному и ровному дыханию друга, ощущая на своем плече его тяжелую горячую руку, я понял, как он мне дорог… А совсем недавно… Я с трудом отогнал воспоминания.
Итак, пришел этот момент…
– Я туда, посмотрю, – сказал я шоферу.
– Остановить?
– Не надо…
Он взглянул на меня настороженно-вопрошающим взглядом.
Я взобрался в фургон.
– Товарищ лейтенант! Ну когда же будет госпиталь? – встретил меня недобрый голос танкиста.
– Теперь скоро, – ответил я, наклоняясь над Ваней.
Одни из раненых тяжело спали, пристроившись на плече у соседа или упираясь затылком в зыбкую стенку борта, другие стонали, третьи перекидывались репликами по поводу этой проклятой ночи, дороги и своих сопровождающих. Но я не прислушивался. До меня долетали лишь отдельные слова: «…Подохнешь, пока…» – «…Не знает дороги…» – «…Кайзерсвальдау…» – «…Остаться бы…»
Ваня дышал. Часто и неглубоко. Я провел рукой по его лицу, и под моими пальцами выступили знакомые черты: открытый лоб, широкие скулы, короткий нос, морщины у глаз…
Слегка дотронулся до век – они были плотно прикрыты…
Никогда я его так не любил, как сейчас…
Я подождал еще с минуту, затем, пошатываясь, направился к выходу. Вслед мне кто-то что-то сказал, но я уже ничего не слышал. Я открыл дверцу и свалился на подернутую инеем дорогу. Потом поднялся и догнал машину. Взобравшись в кабину, сказал:
– А теперь жми…
Через сорок минут мы добрались до госпиталя. Ваня был мертв. До девяти часов мы сделали второй рейс, вывезли еще группу раненых. За это я был награжден орденом Красной Звезды. Но его я никогда не носил. Даже спустя двадцать лет, когда особенно торжественно отмечался День Победы.
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РАНЕНОМ
Я встречался с ним дважды. В апреле сорок пятого, когда его ранило. И вскоре после войны, в немецком городке Вюнсдорф, где стоял наш полк. Он шел рядом, плечо в плечо, с такой же огромной, как он сам, молодой женщиной. Может быть, это была его жена. А может быть, и не жена. На груди его горели, ослепляя встречных, две Золотые Звезды. Впрочем, то, что он дважды Герой, я узнал вскоре после той, главной встречи. Но это так, к слову.
Потом я его видел множество раз – на экранах телевизоров и кинотеатров, на страницах журналов и газет – советских и иностранных. Шли годы, сильно покрупнели звезды на его погонах, прибавилось орденов на груди. Только он сам почему-то почти не менялся. Те же резкие черты, то же немного хмурое выражение лица, та же крепкая, борцовская посадка головы. Словом, выглядит он – дай бог каждому! Самое большее под пятьдесят. А ведь тогда, в сорок пятом, когда я тащил его на себе, он казался мне стариком. Между тем ему было в то время – страшно выговорить! – всего тридцать два года. Совсем нежный возраст, по нынешним моим представлениям. Правда, в свои восемнадцать я считал вдоволь пожившими даже двадцатитрехлетних…
Интересно бы с ним встретиться. Узнает ли он меня?
В одном не сомневаюсь: тот день он не мог забыть. Разве какие-нибудь подробности, которые, честно говоря, и я не все помню. Но главного он, конечно, не забыл. Ни своей раны, ни своей обиды. Вот только я не очень уверен – остался ли у него в каком-либо из дальних уголков памяти черноглазый паренек, лейтенант медицинской службы? Хотя бы зыбко и смутно, как во сне…
Я везу раненых. Широкая автострада сплошь забита боевой техникой, направляющейся к фронту. Мы же ползем против течения. Это мой четвертый рейс с ранеными со вчерашнего вечера.
Дорога обстреливается. Откуда бьет немец, неизвестно. Одни говорят, что огонь ведут батареи, установленные где-то в окрестностях Берлина. Другие – что это бродячие танки, не успевшие пробиться к своим. Во всяком случае, вчера, когда возле нас стали рваться снаряды, мы с Яхиным носились как сумасшедшие, не зная, куда спрятаться: разрывы следовали за нами буквально по пятам. Казалось, что все четыре угла сарая, за которым мы пытались укрыться, у немцев на виду.
Сегодня, во время третьего рейса, тоже был обстрел. Но на этот раз снаряды пролетели над нами и разорвались где-то за лесом.
Судя по всему, немцы бьют наспех, а порой и наугад. Но попадания все-таки есть. Глаз нет-нет да и натыкается то на разбитую машину, то на свежий могильный холмик. Попасть в общем-то несложно. Всюду люди, машины…
Но, несмотря на обстрелы, движение почти не прекращается. Только там, где уж очень близко начинают рваться снаряды, солдаты на короткое время покидают машины и разбегаются по кюветам…
До медсанбата двенадцать километров. Я чертовски устал: все-таки четвертый рейс. Но распускаться нельзя. Когда везешь раненых, надо быть начеку. Ведь если начнется обстрел, то мы с Яхиным первым делом должны искать укрытие для них, а потом уж думать о себе. За то же время нам нужно успеть вдвое больше, чем другим. Правда, в этот рейс мы везем всего троих раненых. Точнее, двоих раненых и одного больного катаральной ангиной. И все ходячие. Так что если придется нырять в кюветы, то большой задержки не предвидится.
Но все равно я настороже…
И, оказывается, не зря!
Раздается протяжный шорох снаряда – и сразу же взрыв! Прямо на капот машины падает веточка, срезанная осколком. Второй и третий снаряды разрываются далеко позади.
Следующий снаряд мы ждем уже сидя в придорожных траншеях, приготовленных для нас фольксштурмом. Мысль у всех одна: только бы пронесло… Но немцы почему-то не торопятся с четвертым снарядом… Или они решили ограничиться теми тремя, или терпеливо ждут, когда все вылезут из укрытий, чтобы снова шарахнуть?
Проходит несколько долгих минут. Поднимаем головы, осматриваемся.
Все! Пора двигаться!
Мы с Яхиным вылезаем из траншеи и помогаем выбраться нашим раненым.
И тут видим: бежит к нам солдат. Спешит, машет руками:
– Эй! На «санитарке»!.. Стой!.. Стой!
За ним серой змейкой тянется размотавшаяся на ноге обмотка.
Подбегает, переводит дыхание:
– Товарищ лейтенант! Ваша «санитарка»?
– Наша. А что?
– Там полковника ранило!
– Какого полковника?
– А кто его знает! Начальник какой-то!.. Шел я мимо ихней машины, а мне и говорят: «Сбегай-ка, солдат, узнай, чья «санитарка»… Скажи им – то есть вам, значит, – чтоб подбросили полковника до санбата».
– Куда ранен?
– Куда? – смущается солдат. – Больно торопился. Не спросил куда…
– Где он?
– Да тут, за поворотом!
– Давай разворачивайся! – говорю я шоферу.
Яхин ворчит:
– Хрен тут развернешься!
И в самом деле, машины идут впритык: несколько рядов в оба направления. Между ними не то что «форд», но и собака не проскочит. А с дороги съехать тоже нельзя: кругом окопы…
Словом, если уж такой виртуоз, как Яхин, расписывается в своем бессилии, значит, лучше и не пытаться.
– Ладно. Выше себя не прыгнешь, – говорю я. – Пошли, Яхин, сходим за полковником…
Обычно Яхин недоволен, когда к нему обращаются с подобными просьбами, огрызается: «Я вам не санитар». Но сейчас он молча вылезает из кабины и идет со мной. Я понимаю: это наш первый раненый полковник. До сих пор наше общение с полковниками ограничивалось лишь обменом воинскими приветствиями. Полковник для нас почти генерал. А генерал – это нечто из надзвездных сфер.
Но ни я, ни Яхин ни за что не признались бы друг другу, что слегка взволнованы предстоящей встречей.
Внешне это никак не проявляется. Просто мы делаем свое обычное дело – спешим к раненому, которому нужна наша помощь. Впереди с санитарной сумкой на боку шагаю я, за мной топает Яхин.
Носилки мы решили не таскать с собой. Если потребуются, кто-нибудь сбегает за ними. «Кто-нибудь» – так я сказал Яхину. Но побежит, разумеется, он. И мы оба это знаем. Зато его самолюбие пощажено. А оно у него болезненное. Не очень-то приятно, когда тобой, бывалым солдатом, командует мальчишка, недавно окончивший военное училище…
У поворота нас нагоняет солдат – оказывается, он до сих пор возился со своей обмоткой.
– Вон они! – показывает он на «виллис», стоящий метрах в двухстах от нас у самой дороги.
С «виллиса» тоже замечают нас. Один из офицеров почтительно наклоняется к другому, сидящему у ветрового стекла, и что-то говорит ему, кивая в нашу сторону. Тот медленно поворачивается к нам.
– Пошли быстрей! – говорю я.
Мы ускоряем шаг.
Через некоторое время Яхин окликает меня:
– Товарищ лейтенант!
– Что?
– Там трое полковников!
– Ну?!
Как всегда, зрение не обманывает его: в «виллисе» и впрямь целых три полковника! А кроме того, капитан с шофером, которые, судя по всему, Яхина мало интересуют.
«Нашего» полковника мы узнаем сразу. Это с ним почтительно разговаривал капитан. Увидев нас, он пробует подняться, но у него ничего не получается, по-видимому, мешает рана. Остальные с приходом «медицины» развивают бурную деятельность. Лишь он один сидит и, нахохлившись под своей папахой, присматривается к нам колючими глазами.
Мы тоже не сводим с него глаз. Особенно поражает нас его огромный рост, его богатырская фигура. Даже лицо у него не как у других – одни прямые линии, прямые углы, без закруглений. Только вот взгляд у «нашего» полковника, несмотря на колючесть, какой-то неуверенный, что ли…
– Здравия желаю… – произношу я и осекаюсь: не очень-то уместно лейтенанту обращаться ко всем полковникам чохом – «товарищи полковники…» А кто из них старший по должности – так, с ходу, не установишь. Тем более что и у тех двоих вид довольно представительный.
– Здравствуйте, – отвечает кто-то из них. Но кто, я даже не замечаю. И это несущественно. Во всяком случае, не «наш». «Наш» лишь морщится. Не от моего нескладного приветствия, конечно, а от боли, которая – нетрудно догадаться – поднимается откуда-то снизу, из неестественно и напряженно отставленного в сторону хромового сапога.
– Товарищ полковник, разрешите посмотреть? – спрашиваю я.
Раненый снова пытается встать и спуститься на землю, но резкая боль останавливает его на полпути. На этот раз все четверо, толкаясь и мешая друг другу, помогают ему выйти из машины и усаживают его на подножку.
Я опускаюсь на колено и вижу: внутренняя сторона голенища, чуть повыше лодыжки, пропорота осколком. Впечатление такое, как будто по коже полоснули ножом. Хорошо, если ранение касательное – только задело мышцу. А что, если осколок сидит глубоко?
– Разрешите? – спрашиваю я и, осторожно подведя ладонь под каблук, пробую снять сапог.
Даже на миллиметр не подвигается!.. Не поддается он и тогда, когда я начинаю тянуть на себя сильнее: очевидно, там все набрякло и слиплось от крови.
Натягиваются и бледнеют сухожилия на огромных полковничьих руках… Быстро поднимаю глаза: все прямые углы и линии лица смещены от боли…
– Товарищ полковник, придется разрезать сапог, – говорю я.
– Не надо, – коротко отвечает он и обращается к водителю «виллиса»: – Сержант, помогите снять сапог!
– Слушаюсь, товарищ гвардии полковник! – лихо козыряет тот. Вот бы у кого поучиться Яхину. А то совсем распустился. Даже пилотку задом наперед надевает.
– Только сразу, – предупреждает полковник.
– Подожди! – останавливаю я сержанта, уже ухватившегося за сапог, и обращаюсь к раненому: – Товарищ гвардии полковник, сразу нельзя. А то можно повредить осколком какие-нибудь сосуды или нервы. Надо потихоньку…
– Что ж… Потихоньку – так потихоньку…
Вроде бы ирония. Слабая, едва заметная, но ирония. Только над кем? Надо мной? Что-то не похоже. Его взгляд даже не задерживается на мне. И лицо у него хмурое и сосредоточенное.
Но вот меня осеняет: просто он побаивается предстоящей боли и готовит себя к ней…
– Потихоньку, – прошу я сержанта.
Тот пыхтит мне в самое ухо.
Особенно неподатливы первые сантиметры.
Наконец сапог медленно освобождает ногу.
Я с облегчением разгибаю спину.
В лице полковника ни кровинки. Весь лоб в мелких капельках пота. Ничего не скажешь: досталось ему крепко. Но он даже звука не издал. Был момент, когда я совершенно позабыл о нем. Видел перед собой ногу – и только!
Что ж, в терпеливости ему не откажешь… Но ради чего он все это терпел? Чтобы сохранить сапог? Свои последние хромовые сапоги. Смешно!..
Начинаю осмотр. У полковника ранение средней тяжести: рана небольшая, но глубокая. Осколок, очевидно, при движении задевает кость. Приступаю к перевязке. Да, такого терпеливого раненого я встречаю впервые. Даже когда я неосторожно задеваю ножницами рану, он только на мгновенье застывает от боли. Ни стона, ни упрека. Да и вообще он молчальник. С начала перевязки он задает мне всего два вопроса. Первый обычный: «Что с ногой?» Второй же заставляет меня открыть рот от удивления: «А нельзя ли вынуть осколок сейчас?» Пришлось объяснить, что даже такие, не очень сложные операции делаются только в госпитальных условиях. К тому же я не врач, а военфельдшер.
На это он неопределенно усмехается:
– Военфельдшер, говоришь?
Что означает эта усмешка, я так и не понял. Но от нее остается неприятный осадок. И с этого момента меня начинает интересовать, кто он… Кое-что я узнаю из реплик, которыми перекидываются полковники. Все трое едут из штаба армии. Где-то неподалеку отсюда у «нашего» поломалась машина, и он пересел в «виллис» к приятелям. Дальше я уясняю, что они служат в разных дивизиях, и, в общем-то, не зависимы друг от друга. Но то, что у раненого полковника более высокая должность, видно сразу. В их отношениях нет той непринужденности и простоты, которая существует у людей, занимающих равное положение…
Однако все трое обуреваемы одним чувством. Они не скрывают, что главное для них сейчас – это быстрее добраться к себе, в свои части, которые вот-вот должны ворваться в Берлин. И хотя мне неизвестно, что они там делают в своих соединениях, но по всему видно – их там ждут, они там крайне нужны.
Правда, на лицах тех двух написано: разумеется, одному из нас здорово не повезло, но что поделаешь? На то и война. Сегодня его ранило, а завтра, может быть, нас. Конечно, мы понимаем, до чего обидно получить осколок в такое историческое время. Но могло быть и хуже. Уж мы-то знаем, что способен натворить порой один-единственный снаряд. Как тут не радоваться, что и тебя не задело, и другие живы остались…
Мне кажется, что раненый догадывается об этих мыслях. Возможно, на их месте он бы и сам так думал. Но сейчас, очевидно, ничего, кроме острой зависти к своим удачливым спутникам, он не испытывает. И не нужны ему ни их сочувствие, ни их радость по поводу избавления от большей опасности. Именно это и выражает его хмурый взгляд.
Кто он, «наш» полковник, так и остается для меня пока тайной. Если бы меня спросили о нем, я бы ответил, как тот солдат: «Начальник какой-то…»
И вдруг шепот Яхина:
– За носилками сбегать?
Ну и ну! Яхин-то! Проявляет инициативу!
– Давай, – говорю я, разрезая конец бинта пополам.
Вскоре Яхин скрывается за поворотом. Да, такой прыти я от него и не ожидал. Вот что значит первый полковник!
Обрезаю ножницами кончики узла, спускаю засученную штанину полковничьих галифе, натягиваю носок…
– Все, товарищ гвардии полковник… Сейчас принесут носилки, и мы отнесем вас в машину.
А у самого мысль: надорвемся мы с Яхиным, пока дотащим его. Может быть, капитан с водителем «виллиса» помогут?
Но тут подходят те два полковника, и один из них смущенно говорит:








