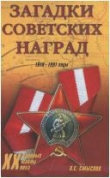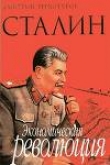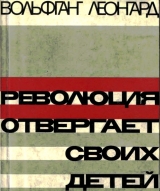
Текст книги "Революция отвергает своих детей"
Автор книги: Вольфганг Леонгард
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
Несмотря на трагичность положения, в Москве появился новый анекдот об этом законе:
– Ты слышал уже, что Большой театр сгорел дотла?
– Как же это возможно? А что же делала пожарная команда?
– Пожарная команда сидит в тюрьме.
– В тюрьме?
– Да, она прибыла на место пожара через 20 минут и не была допущена к горящему зданию. Теперь пожарники приговорены к принудительно–воспитательным работам и сидят в тюрьме.
Волна арестов на основании нового закона приняла вскоре такие размеры, что суды не успевали справляться с делами. Поэтому указом президиума Верховного совета от 10 августа 1940 года было постановлено, что судопроизводство по вопросам нарушения трудовой дисциплины должно впредь вестись народными судами без участия присяжных заседателей.
Эти события находились в центре внимания жителей Советского Союза, переставших на время интересоваться другими вопросами. Разгром Франции, воздушная война над Англией, захват советскими войсками прибалтийских стран и их превращение в «союзные республики», занятие Бессарабии и Северной Буковины, все это поблекло перед «борьбой против прогульщиков, лентяев и дезорганизаторов».
В памяти у меня осталось единственное событие этого времени, находившееся вне сферы общих интересов – смерть Троцкого.
24 августа во всех советских газетах было опубликовано на видном месте краткое сообщение о смерти Троцкого. Со ссылкой на американские газеты сообщалось, что на Троцкого было совершено покушение. «Один из его приверженцев» проломил ему череп. Троцкий умер в больнице в Мексике.
Все советские газеты ограничились этим кратким сообщением. Только «Правда», центральный орган партии, посмертно поносил ленинского соратника в длинной статье под заголовком «Смерть международного шпиона». Статья была полна ругательств и исторических фальсификаций. «Троцкий был уже с 1921 года агентом иностранных разведок и международным шпионом», – значилось в ней. Статья «Правды» o председателе Петроградского совета 1917 года и создателе Красной армии заканчивалась словами: «Бесчестно окончил жизнь этот достойный лишь презрения человек. Он ляжет в могилу, отмеченный каиновой печатью международного шпиона и убийцы».
В тот же вечер, гуляя, я встретил знакомого шуцбундовца[3]3
Член Шуцбунда (Союза обороны) – организации австрийских социал–демократов. (Прим. переводчика).
[Закрыть], работавшего на одном из предприятий. Невольно мы заговорили о смерти Троцкого.
– Был ли это действительно его приверженец? – высказал он мысль, которая возникла и у меня при чтении сообщения. Но оба мы не имели ни малейшего понятия о событиях, приведших к смерти Троцкого. Продолжая прогулку, мы подошли к тумбе для афиш, на которой был наклеен большой плакат, возвещавший о народном гулянье в Парке культуры.
– Знаешь, что говорят наши рабочие? Что будто бы народное гулянье устроено по случаю смерти Троцкого.
Я ничего не ответил. Несмотря на окончание чисток, было опасно говорить на эту тему.
Но мне показалось знаменательным, что в августе 1940 года, через 13 лет после исключения Троцкого из партии и 11 лет после его высылки из Советского Союза, нашлись рабочие, не верившие официальной версии о смерти Троцкого и убежденные в том, что Сталин способен отпраздновать смерть этого революционера, устроив народное гулянье.
В ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Летом 1940 года закончился подготовительный курс. Быстро прошли заключительные экзамены.
Несколько дней спустя, волнуясь, я сидел в помещении приемной комиссии Московского педагогического института на Метростроевской 38. Это было большое старое трехэтажное здание, находившееся на полдороге между станциями метро «Дворец Советов» и «Парк культуры». От студентов я слышал, что здесь раньше помещалось учебное заведение, в котором учился Гоголь и другие русские писатели.
– Итак, вы окончили подготовительный курс учительского института. Почему же вы не хотите поступить туда? – спросили меня.
– Мне очень хочется учиться именно в вашем институте.
Председатель приемной комиссии засмеялся.
– Ну, посмотрим, что можно будет сделать. Вы готовы сдавать у нас вступительные экзамены?
– Да, конечно. Когда?
– Нет, так быстро это не делается. Заполните сначала эту анкету и принесите ее завтра. Там посмотрим.
Это была очень подробная анкета, с целым рядом вопросов о родителях. На вопрос относительно моей матери я написал столь обычный в те времена ответ: «арестована органами НКВД». Это была общепринятая формулировка. Но предварительно я справился у знакомого студента:
– Что, если я напишу об аресте матери, не помешает ли это мне? Есть ли на этот счет особые правила?
Студент сухо засмеялся:
– Как будто ты один можешь этим похвастаться! Сегодня это в порядке вещей. Если бы приемные комиссии обращали на это внимание, то пришлось бы все вузы позакрывать.
Другой студент пояснил:
– В 1937 и, частично, в 1938 году все анкеты, в которых указывалось, что родители арестованы, отмечались крестиком. Говорили, что в этих случаях экзамены были особенно строгими. Но вскоре от этого отказались, чтобы члены приемных комиссий не узнали о размерах бедствия, о том, какой достигла силы прокатившаяся волна арестов.
Оба студента оказались правы. Председатель приемной комиссии с полным безразличием пробежал глазами графу анкеты, где говорилось об аресте моей матери.
– Через две недели вы можете сдавать экзамены, а пока вы получите справку и можете питаться здесь. Когда сдадите экзамены – поселитесь в студенческом общежитии.
Я радостно распрощался. Последующие дни прошли в привычной уже подготовке к экзаменам. В середине августа пришло короткое письмо: «Настоящим подтверждается, что товарищ Леонгард зачисляется на первый курс Московского государственного педагогического института иностранных языков». Через несколько дней после этого я устроился а студенческое общежитие.
Во всех вузах Советского Союза каждый студент мог получить место в общежитии. Нашему институту принадлежало общежитие в Петроверигском переулке 6–8. Здание занимал раныше КУНЗ – Коммунистический университет народов Запада. После ликвидации КУНЗа оно было передано Институту иностранных языков. Мы помещались по двое и по трое, в зависимости от размера комнаты. В сравнении со многими другими студенческими общежитиями это было исключительной привилегией.
1 сентября 1940 г. мы, новички, впервые пошли в институт и нас распределили по трем факультетам: на немецкий, английский и французский. Я выбрал английский факультет. Лекции по педагогике, психологии, истории педагогики, марксизму–ленинизму и военному делу были общими для всех факультетов. Кроме того нам читали лекции по английской истории, английской литературе, фонетике и грамматике английского языка и по языкознанию. Эти лекции посещались, конечно, только студентами английского факультета.
Как только нас распределили по факультетам нам сообщили подробный учебный план. Посещение лекций было обязательным и строго контролировалось. Ежедневно мы ходили на 2–3 лекции, причем, лекции в советских вузах длятся 90 минут. Помимо этого небольшими группами велись практические занятия по фонетике, грамматике и т. д. Студенты каждого семестра были разделены на 12 подгрупп по 15–20 человек в каждой. В этих маленьких группах проводились семинары, которые можно только с оговоркой сравнить с семинарами в университетах на Западе. Это были скорее обыкновенные уроки, почти как школьные. И опять нам приходилось сдавать массу экзаменов. Каждый из нас получил студенческую книжку с фотокарточкой (которую мы обязаны были носить при себе и показывать при входе в здание института) и так называемую «зачетную книжку», в которую вносились отметки за испытания и экзамены. В советских вузах после каждого семестра бывает два вида экзаменов: сначала – так называемые «зачеты», которые сдаются по каждому предмету отдельно; отметок за них не ставят. В учетную книжку заносится только «сдал». Студент имеет право по истечении известного промежутка времени повторить зачетный экзамен, если он не сдал его сразу. Но это как бы предварительный экзамен. И только когда студент сдаст все зачеты и может показать профессору свою зачетную книжку с отмеченными в ней сданными зачетами, он допускается к «настоящим» экзаменам. Экзамены по важнейшим предметам происходят в конце семестра. Экзамены строже зачетов, сдавать их можно только один раз и за них ставят оценки. В сравнении с западными университетами контроль учебной и экзаменационной системы советских вузов кажется мне четким, строгим и организованным.
Еще одно отличие от университетов других стран заключается в очень далеко идущей специализации. Конечно, в крупнейших городах Советского Союза существуют университеты с различными факультетами. Но преобладающей формой вузов является не университет, а «институт» с очень подробным, специализированным учебным планом. Так, например, в Советском Союзе не существует общих «высших технических школ», зато имеются высшие технические учебные заведения в отдельных областях техники, например, «Институт холодильного машиностроения», «Институт сигнализации», «Институт цветных металлов» и т. д.
Эта узкая специализация советских вузов была продиктована необходимостью в кратчайший срок вырастить кадры специалистов во всех областях, а особенно во всех отраслях народного хозяйства. Бесспорно, что Советский Союз этой цели добился. Большое число студентов (которое во время войны уменьшилось, но потом, по сравнению с 1940 годом, снова увеличилось) служит гарантией постоянного притока высококвалифицированных специалистов во всех областях. Правда, подобная система высшего образования приводит к тому, что оканчивающие вузы достигают исключительных специальных знаний за счет общеобразовательного уровня.
По окончании вуза каждый студент обязан проработать минимум 2–3 года по специальности. Обычно, сразу же после сдачи государственных экзаменов выпускники направляются на производство.
Я был удивлен превосходным оснащением института. Помимо больших аудиторий и прекрасной библиотеки, в институте были «кабинеты» по отдельным предметам – психологический, педагогический, фонетический, исторический и литературно–исторический. В кабинетах находилась специальная научная литература по этим предметам. Там же можно было нередко встретить декана факультета или его сотрудников, охотно дававших консультации.
Предметом особой гордости института был «Марровский кабинет», целиком посвященный советскому языковеду Николаю Яковлевичу Марру. Труды Марра расценивались тогда как высшее откровение языкознания и в кабинете помещалась его статуя, размерами выше человеческого роста. Его учение было столь же неприкосновенным, как труды Сталина. Оно считалось наукой о языке, основанной на марксизме–ленинизме и нанесшей смертельный удар буржуазному языковедению. В отличие от буржуазных представлений Марр рассматривал язык как часть надстройки, развитие которой может быть понято только во взаимосвязи с развитием общества. Человечество создало язык в ходе трудового процесса и в определенных общественных условиях, поэтому язык меняется по мере того, как изменяются условия и формы социальной жизни.
Тогда никому из нас и присниться не могло, что спустя десять лет великий неприкосновенный Марр будет развенчан Сталиным с такой же силой, с какой нам приходилось хвалить его теперь.
В Московском институте иностранных языков училось в те времена 2 500 человек – 2440 девушек и 60 юношей. На весь Советский Союз это был вуз с наибольшим процентом студенток. Поэтому в московских студенческих кругах его называли в шутку «Институтом благородных девиц». Но, помимо «благородных девиц», он был еще известен и иностранными студентами. В нем учились сыновья и дочери эмигрантов, работников Коминтерна или советских дипломатов, живших долгое время за границей.
Вскоре я нашел друзей не только среди русских студентов, но и среди иностранных. Так я подружился с поляком, сражавшимся в Испании в Интернациональной бригаде, с молодой американкой, с кореянкой и с одной русской студенткой, долгое время жившей в Харбине, где ее родители служили в управлении Китайско–Восточной железной дороги.
Да и со многими бывшими учениками немецкой школы им. Карла Либкнехта смог я отпраздновать в институте радостную встречу.
Несмотря на некоторые особенности, наш институт был типичным советским вузом. Как и повсюду мы должны были, наряду с учебой, заниматься так называемой «общественной работой» – главным, образом принимать участие в комсомольских и партийных собраниях (ряд студентов был уже в партии). Комсомольские собрания в институте были такими же вялыми и нудными, как и всюду. Обычно обсуждались всякие практические вопросы: кто как учится, как выполняет взятые на себя обязательства соцсоревнования и т. д. Политические темы затрагивались лишь в канун больших праздников: 1 мая, 7 ноября или 23 февраля – день Красной армии. Но тогда мы выслушивали только стандартные доклады, которые в эти дни читались на всех предприятиях и во всех учреждениях. В политическом отношении мы, комсомольцы, пользовались единственной привилегией – прослушивать доклады дважды…
Еще менее активны были так называемые «массовые организации», в которые, конечно, входили все комсомольцы.
Это был, в первую очередь, «ОСОАВИАХИМ» – Общество содействия обороне и авиационно–химическому строительству. Там обучали парашютному спорту в специальных аэроклубах, стрельбе, «ПВХО» – противовоздушной и химической обороне и многому другому.
На практике, однако, наше участие в этой организации сводилось к уплате членских взносов и к обязанности прослушать 3–4 раза в год доклад о противовоздушной обороне.
Деятельность МОПРа – Международной организации помощи борцам революции, поддерживавшей многих эмигрантов, в нашем институте, да и в других местах, заключалась лишь в том, что 18 марта, в День Парижской коммуны, объявленном «Днем МОПРа», созывалось по этому поводу собрание. 18 марта 1941 г. у нас выступил Вильгельм Пик с обзором международного положения.
Третья массовая организация, в которой я, как и все комсомольцы нашего института, состоял, был Союз воинствующих безбожников.
Эта организация тоже полностью утратила свое значение, С одной стороны, уже в конце тридцатых годов, а еще явственнее во время войны, политика по отношению к церкви переменилась. С другой стороны, для нас, комсомольцев и студентов, эта организация была лишней. Мы выросли вне религии, с этими вопросами совершенно не сталкивались и о них вообще не задумывались. По крайней мере, я за 10 лет жизни в Советском Союзе не встретил в кругу моих знакомых ни одного человека моего поколения, который не был бы атеистом.
Весной 1942 года – тогда я уже не жил в Москве – нам коротко и ясно, не вдаваясь в подробности, объявили, что Союз воинствующих безбожников распущен.
В печати об этом решении не сообщалось. Просто с весны 1942 года Союз больше не упоминался. Это вполне отвечало советской манере: курс политики сегодняшнего дня внезапно объявлять далеким прошлым и толковать историю по–своему. Но на этот раз был даже сделан шаг вперед – о Союзе воинствующих безбожников вообще больше нигде не говорилось (даже в новейших изданиях советской энциклопедии), не упоминалось и что эта организация когда‑либо существовала!
БУДНИ СОВЕТСКОГО СТУДЕНТА
Итак я стал одним из 600000 советских студентов. Мой день проходил, как и у любого другого студента.
До обеда я ходил на обязательные лекции и принимал участие в семинарах. Обедал я в студенческой столовке. В студенческое общежитие я возвращался обычно поздно вечером.
Наше общежитие, хотя оно и считалось одним из лучших в Москве, было, в сравнении со студенческими общежитиями других стран, довольно примитивно. В комнатах находились маленькие простые шкафы, в которых висели наши шубы и стояли валенки. Все остальные наши скромные пожитки хранились в чемоданчике под кроватью. Зимой в комнатах бывало очень холодно, и нам не раз приходилось заниматься вечерами в шубах. В такие вечера единственным спасением был котел (к сожалению, не всегда горячий), из которого мы брали кипяток для заварки чая. Хотя пользование электроприборами в общежитии запрещалось, у некоторых студенток были маленькие примитивные нагревательные приборы.
Постепенно я перестал отличаться одеждой от других студентов и никто, пожалуй, в те времена не признал бы во мне иностранца.
Обучение было тогда еще бесплатным. Кроме того, каждый студент получал государственную стипендию, которая с каждым курсом (в Советском Союзе «курс» равняется двум семестрам, т. е. учебному году) повышалась. В то время стипендия выплачивалась в размере от 140 рублей на первом курсе до 280 рублей на последнем.
Этого хватало на удовлетворение самых необходимых жизненных потребностей, на невысокую квартирную плату в студенческом общежитии и, в основном, на питание. Купить одежду на стипендию можно било только при строжайшей экономии. Это удавалось лишь очень немногим студентам и для меня по сей день осталось загадкой, как это им вообще удавалось.
Но студенты ухитрялись как‑то выкручиваться. Некоторые получали посылки из деревни от родных или знакомых; другим помогали деньгами родители или городские друзья. Немалая часть студентов подрабатывала физическим трудом, например, очисткой тротуаров от снега, переводами и частными уроками иностранных языков. В условиях нормированной, я бы сказал, почти школьной системы учебы это отрицательно отражалось на успеваемости студентов.
Большинство иностранных студентов, в основном дети эмигрантов, регулярно получали от МОПРа дополнительно 200 рублей. Таким образом, мы имели по 340 рублей в месяц, но даже при такой сумме я еле сводил концы с концами. Русские студенты–сироты, выросшие в детдомах, тоже получали небольшую дополнительную помощь, но меньшую, чем мопровская. Однако мы не замечали материальных трудностей. Мы были так увлечены учебой, что не придавали значения вопросам личного благосостояния, тем более, что за исключением небольшого привилегированного слоя, все население испытывало те же трудности.
В то время меня беспокоило иное. С той поры, когда в начале 1939 года закончилась большая чистка, я думал, что прошли и страшные времена сексотства и доносительства. Я считал их неотъемлемой частью периода чисток. Но вскоре мне пришлось убедиться в противном.
Я дружил с одной студенткой. Не буду ее описывать, потому что она все еще живет на Востоке. Она принадлежала к тем немногим людям, с которыми я мог говорить откровенно. Во время наших долгих прогулок в Парке культуры или вдоль Москвы–реки мы беседовали с ней на самые разнообразные темы, интересующие молодежь всех стран иногда мы говорили и о вещах, угнетавших нас в Советском Союзе. Подобные разговоры были для нас обоих жизненной потребностью.
Однажды, встретив меня в коридоре института, она шепнула:
– Володя (так меня называли в Советском Союзе), нам нужно будет сегодня вечером поговорить наедине очень серьезно.
С нетерпением ждал я вечера. Сначала она взяла с меня обещание:
– Обещай мне, что ты никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не расскажешь о том, что сейчас услышишь от меня.
Я пообещал (и обещание это сдержал).
– Обещай мне также, что ты никогда не выдашь своим поведением, что знаешь мою тайну.
После того, как я дал и это обещание, она сказала прерывающимся голосом:
– Уже несколько дней, как я работаю на НКВД. Меня вызвали и дали подписать бумажку, что я обязуюсь сообщать все сведения, которые от меня потребуют, и не буду никому говорить о моей деятельности. Мне дали задание регулярно писать донесения о некоторых студентах. Для этой работы я получила другое имя, которым и должна подписывать донесения.
– О чем же ты должна сообщать? О враждебных высказываниях против партии?
– Не только об этом. Об этом много не напишешь. Я должна сообщать обо всем, что эти люди мне будут рассказывать. Обо всем, что, хотя бы косвенно, имеет отношение к политике.
– Я тоже в твоем списке?
– Нет, пока еще нет. Но я убеждена, что они меня спросят и о тебе. Мне сказали, что это только начало и что потом я получу другие задания. Не знаю, смогу ли я тогда умолчать о твоих высказываниях. Не думаю. Так что прошу тебя, начиная с сегодняшнего дня, не говорить со мной на политические темы.
Я посмотрел ей в глаза. Она была грустна, грустна потому, что отказалась от откровенных разговоров со мной, приносивших и ей такое облегчение. Чувствовалось, что обязанность работать на НКВД лежала у нее камнем на сердце. Я это ясно ощущал, но после ее рассказа я знал также, что у нее не было другого выбора. Отказ от сотрудничества подавил бы ее под подозрение, возможно даже привел бы к ее аресту.
То, что она рассказала мне о том, как ее завербовали, рассказала со всеми подробностями (я не хочу их приводить здесь, чтобы не навести НКВД на ее след) было, вероятно, наибольшим проявлением дружбы, какое мне довелось когда‑либо встретить в жизни.
Как ни был я подавлен ее рассказом, меня ужаснуло и другое. По–видимому она была не единственной. Были, значит, и другие студенты и студентки, которые доносили в НКВД обо всех разговорах в институте и общежитии!
Много ли было таких? Мысленно я обвел взглядом круг знакомых мне студентов и студенток. Кто из них мог донести в НКВД? Никого из моих знакомых я не считал на это способным. Но можно ли быть уверенным? Мог ли я, например, подумать, что эту студентку заставят писать донесения в НКВД? А какая гарантия, что не заставили других моих знакомых? Найдут ли они в себе мужество сказать мне, нарушив тем самым данное ими обязательство хранить глубокую тайну? Мне стало жутко. Любое, даже самое незначительное, политическое замечание может попасть в еженедельные письменные донесения и быть передано в НКВД. Я не был, правда, настроен антисоветски, но разве не вырывались и у меня иногда замечания, несозвучные «линии»? С этого дня я решил быть еще осторожнее, во всех политических разговорах придерживаться «линии», по возможности скорее переводить разговор с политических тем в «нейтральную» плоскость.
ЗАКОН ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1940 ГОДА
Я уже четыре недели учился в институте, когда утром 3 октября 1940 года внезапно наступил крутой поворот во всей студенческой жизни.
Кто‑то, случайно вставший раньше, принес газету и барабанил теперь в двери, крича: «Стипендии отменили!»
– С ума спятил, дурак! – сказал мой товарищ по комнате, но все же стал быстро одеваться. Я последовал его примеру. Когда мы вышли в коридор, нарушитель спокойствия был уже окружен группой студентов. Держа в руках «Правду», он вслух читал постановление президиума Совета народных комиссаров СССР о введении платы за обучение в старших классах школ и в вузах.
«Принимая во внимание подъем материального благосостояния трудящихся», – начал читать он. Такое вступление не предвещало ничего хорошего.
Сначала речь шла о введении платы за обучение в трех последних классах десятилетки. Затем следовал удар, направленный на нас.
«За обучение в высших учебных заведениях СССР устанавливается следующая плата:
а) В высших учебных заведениях, находящихся в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик – 400 рублей в год;
б) В высших учебных заведениях, находящихся в других городах– 300 рублей в год;
в) В музыкальных, художественных и театральных высших учебных заведениях – 500 рублей в год.
Плата за обучение в данных учебных заведениях: должна вноситься равными частями дважды в год: к 1 сентября и к 1 февраля.
Примечание: Плата за первое полугодие 1940/41 школьного года должна быть внесена не позже 1 ноября этого года».
У присутствующих вытянулись лица. Не только потому, что вообще была введена плата за обучение, но, прежде всего из‑за того, что первый взнос нужно было сделать до 1 ноября.
– Только 27 дней времени! – сказал кто‑то. Это звучало безнадежно.
Мы уже прикидывали в уме как можно сэкономить часть стипендии, чтобы внести деньги, как последовал следующий удар: тем же постановлением отменялись наши ежемесячные стипендии. Впредь они должны были выдаваться только студентам–отличникам.
Были созваны обычные собрания, на которых обосновывались «изменения в порядке распределения стипендий – как гласила официальная формулировка – и введение платы за обучение».
Собрание в институте прошло обычно. Когда докладчик закончил, ему аплодировали. Затем спросили, все ли ясно, нет ли вопросов, не хочет ли кто‑нибудь выступить. Желающих не нашлось.
Несколько дней спустя один студент рассказал мне, что в каком‑то из московских вузов с докладом о новом законе выступил заместитель наркома народного образования. После доклада ему задали вопрос, как можно согласовать новый закон с 121 статьей конституции СССР.
Вопрос был из щекотливых, ибо, действительно, 121 статья конституции СССР гарантировала бесплатное обучение во всех учебных заведениях СССР, «включая высшие учебные заведения».
Заместитель наркома ответил, что обоснование мероприятия содержится в самом законе и что статья конституции будет изменена в соответствии с новым законом. Так оно и случилось, – кстати, это был не единственный случаи, когда в СССР издавались законы противоречащие конституции.
Но студенты после 2 октября думали не о том, противоречит ли закон конституции или нет, а о том, что им делать.
Введение платы за обучение одновременно с упразднением стипендий практически лишало возможности многих детей рабочих и крестьян продолжать учение.
В эти дни я видел много заплаканных лиц. Со многими студентами мы распрощались навсегда.
Особенно тяжело мне было расставаться с одним маленьким рыжим студентом. Он был выходцем из бедной крестьянской семьи, занимался с крайним упорством и усидчивостью, радуясь, что станет учителем старших классов.
И он был далеко не единственным. Все больше и больше студентов, родители которых принадлежали к беднейшим слоям населения, покидали институт. В сущности, оставались лишь сыновья и дочери привилегированного слоя, офицеров и прочих «ответственных».
Большинство иностранных студентов и все русские, выросшие в детских домах, к «привилегированным» не принадлежали. Поэтому мы думали, что и нам придется распрощаться с институтом. Но несколько дней спустя русским студентам пообещали помощь из детских домов. Тем временем мы, иностранные студенты, обивали пороги МОПРа, который нам не раз уже помогал. Вскоре мы с облегчением узнали, что наc не бросят на произвол судьбы, МОПР обещал внести 400 рублей платы за обучение и продолжать выплачивать нам ежемесячную поддержку.
Возвращаясь сегодня мыслями в прошлое, я вспоминаю не только грусть расставания со многими институтскими друзьями; мне становится ясным, что этот закон означал новый шаг в развитии сталинской системы.
Чтобы попасть на высокую должность в Советском Союзе, надо окончить вуз. До 2 октября 1940 года все одаренные и способные дети рабочих и крестьян могли, независимо от материального положения родителей, кончить десятилетку и попасть в вуз. Таким образом, все возможности были для них открыты, что тогда и подчеркивалось постоянно советской пропагандой. После 2 октября до высоких постов могли, как правило, добраться лишь те, чьи родители сами занимали эти высокие посты. Круг замкнулся: правящий бюрократический слой, образовавшийся с конца двадцатых годов и укрепивший свою власть ликвидацией «старой гвардии» во время чисток 1936–38 годов, начал ограждать себя от проникновения «посторонних» и сделал, таким образом, первый шаг к передаче своих привилегий и должностей по наследству.
АКЦИИ НЕМЕЦКИХ ЭМИГРАНТОВ СНОВА ПОДЫМАЮТСЯ
В конце ноября 1940 года, спустя полтора года после заключения пакта о ненападении с Германией и через несколько недель после поездки Молотова в Берлин, в Москве неожиданно снова вспомнили о немецких эмигрантах.
После расформирования нашего детдома мы редко виделись друг с другом; большинство бывших воспитанников его работало на предприятиях, некоторые были все еще в одном из русских детдомов, другие учились в вузах. Многие женились на русских девушках и полностью обрусели.
Тем сильнее было мое удивление, когда в конце ноября 1940 года, через несколько недель после возвращения Молотова из Берлина, я получил приглашение на собрание в ЦК МОПРа. Я очень обрадовался, надеясь, что таким образом увижусь со старыми друзьями.
В 8 часов вечера я отправился в дом МОПРа. Встреча была радостной, ибо я действительно встретил многих друзей из бывшего детдома номер 6, а также многих австрийцев и немцев, детей эмигрантов, живших с родителями на частных квартирах. Почти все были комсомольцами. Все говорили по–русски, многие даже лучше, чем по–немецки.
Времени для приветствий, разговоров и воспоминаний было, однако, мало, так как вскоре нас пригласили в большой зал. Официальная часть собрания началась речью од–ного австрийского работника Коминтерна:
«Товарищи! Мы созвали вас, чтобы восстановить связь. Сегодняшнее собрание не будет единичным. Мы будем собираться впредь каждый понедельник вечером для политучебы. Все присутствующие будут разбиты на группы для занятий на семинарах. В наши обязанности входит не только присутствовать каждый понедельник на собрании и выслушивать доклады, но и читать указанную литературу, принимать участие в работе семинаров.
Особенно же я хочу обратить ваше внимание на то, что эти занятия будут происходить в узком кругу и, по понятным причинам, распространяться о них не следует».
Мы уже сравнительно долго жили в Советском Союзе, чтобы нам было достаточно подобного указания – мы не рассказывали нашим русским друзьям о посещении курсов. Очевидно курсам придавалось большое значение. Так, например, те, кто работал на предприятиях в вечернюю смену, по понедельникам освобождались – указание наверняка шло свыше – без объяснений их руководителям на предприятиях для чего это нужно.
Я тоже не говорил с русскими студентами о наших специальных курсах. Но сам я не переставал об этом размышлять. Уже самый факт, что впервые за полтора года немецкие и австрийские товарищи в Москве были созваны, казался мне признаком того, что, может быть, отношения с гитлеровской Германией не были такими гладкими, какими они все еще казались в то время.
Никакого ухудшения отношений по советской печати заметно не было. Все сообщения иностранных газет, которые могли бы как‑то повредить отношениям с Германией, немедленно резко опровергались. Поездка Молотова в Берлин была подана как большое событие и широко комментировалась. В середине ноября «Правда» опубликовала задним числом фотографию Гитлера с Молотовым, снятую во время переговоров.
На наших курсах по понедельникам в ЦК МОПРа вначале тщательно избегались все темы, затрагивающие текущее международное положение и отношения между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Помимо обязательной проработки истории ВКП(б) – на курсах мне пришлось проходить ее в третий раз – мы изучали основы марксизма–ленинизма и слушали лекции по истории немецкого рабочего движения.