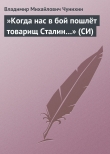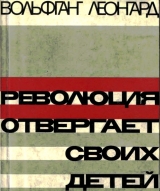
Текст книги "Революция отвергает своих детей"
Автор книги: Вольфганг Леонгард
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
– Я думаю, мы можем уже собираться, – сказал он.
Молча взяли мы свои чемоданы.
Мы сошли на берег уставшими от долгого путешествия, но нас разбирало любопытство, что же будет дальше. Что думали оба моих спутника – мне неизвестно. Они молчали, и на их лицах я ничего не мог прочесть.
На сей раз нас не ждала автомашина – быть может в целях конспирации. Мы побрели с нашими чемоданами не в населенный пункт, а в противоположном направлении.
Кушнаренково, как я потом узнал, маленькое местечко километрах в 60–ти к северо–западу от Уфы. Железнодорожного сообщения с этим местечком не было. Летом единственным сообщением была пароходная линия, а зимой – санный путь. Это было, несомненно, идеальное место для политической школы, которая не должна была обращать на себя внимание, а ученики ее не должны были иметь никакой связи с внешним миром.
Через полчаса ходьбы мы подошли к подножью горы.
– Нам надо подняться на гору, – сказал нам сопровождающий.
Молча начали мы подниматься.
Пока еще ничего не было видно: ни селения, ни двора, ни какого‑либо дома.
ШКОЛА КОМИНТЕРНА В КУШНАРЕНКОВЕ
Спустя четверть часа ходьбы, мы увидели два запущенных дома, очевидно, бывшее имение. Кроме главного здания были еще две–три постройки. Посередине – площадь. Все это выглядело заброшенным – совсем иначе, чем я представлял себе школу Коминтерна.
Я думал, что мы еще далеки от цели, когда наш сопровождающий, сделав неопределенный жест в сторону здания, сказал:
– Пожалуй, мы пойдем сюда.
Перед тем, как войти, он дал последние указания:
– Было бы неплохо заявиться к секретарше. Мы молча поднялись на первый этаж.
Оставив нас, он пошел в секретариат, откуда вышел через несколько минут и, сделав знак рукой молодому товарищу, скрылся с ним за дверью. Я продолжал ждать.
Через несколько минут он вышел и кивнул мне. Теперь, мол, твоя очередь.
Я был принят секретаршей. Снова повторились обычные вопросы и ответы.
После этой знакомой и надоевшей мне до предела прелюдии, она посмотрела мне пристально в глаза.
– В нашей школе имеются особые правила. Во–первых, вы не имеете права покидать пределы этой школы без специального разрешения. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что неисполнение этого правила может повлечь за собой тяжелые последствия. Во–вторых, само собой разумеется, что ни в одном письме вы не имеете права делать ни малейшего намека на то, где вы находитесь. Школа Коминтерна не должна упоминаться ни в письме, ни при указании адреса отправителя.
До этого о подобных вещах мне, неопытному студенту, не приходилось слышать. Но как же мне писать свой адрес?
– Вы должны писать: Башкирская АССР. Кушнаренковo. Сельскохозяйственный техникум №101. Этого вполне достаточно[5]5
Впоследствии это правило стало еще более суровым. Через несколько недель мы были вообще лишены права переписки.
[Закрыть].
Она сделала паузу и снова пристально посмотрела на меня:
– А теперь о самом главном. Вы не имеете права называть кому‑либо вашу настоящую фамилию, даже рассказывать о мелочах из вашей прошлой жизни. Я хочу обратить ваше внимание на то, что исполнение этого предписания крайне необходимо. Никому, даже вашим старым знакомым, вы не должны называть вашей настоящей фамилии.
Снова маленькая пауза, после чего она уже немного приветливее спросила:
– Какую фамилию вы хотели бы иметь?
– Линден.
Она записала фамилию и сказала:
– Прекрасно, значит, с сегодняшнего дня вы – Линден. Забудьте вашу настоящую фамилию и помните, что в течение вашего пребывания в школе вы носите фамилию Линден. Пока – все. Вы можете теперь пойти закусить. А после я покажу вам вашу спальню. Завтра рано утром директор школы примет вас и сообщит вам о дальнейшем.
Когда я вошел в столовую там уже никого не было. Еда была очень хорошая; правда, она не вызвала у меня прежнего восторга. «Как быстро человек привыкает ко всему хорошему», – подумал я. В этот момент дверь отворилась и ко мне бросился мой старый друг.
– Вот хорошо, что ты здесь, – воскликнул он радостно.
Это был Ян Фогелер. В Москве мы с ним ходили в школу имени Карла Либкнехта. Он был моим одноклассником и я к нему хорошо относился. Он был сыном Генриха Фогелера, немецкого художника из Ворпсведе, эмигрировавшего в Советский Союз, а впоследствии, осенью 1941 года, насильственно переселенного в Казахстан и умершего в начале 1942 года в результате тяжелых испытаний и нужды, Отец Яна умер более полугода тому назад и ему, конечно, об этом уже давно сообщили. Но по–видимому этот факт нисколько не изменил его политических взглядов, что часто бывало среди советской молодежи. Ян оставался ярым комсомольцем и говорил о Советском Союзе с большим воодушевлением.
Он сразу же стал рассказывать.
– Знаешь, где я был? Нет, ты даже представить себе не можешь!
Мне так и не удалось вставить хоть одно слово.
– До недавнего времени я был на фронте. Лишь очень немногим немцам это разрешалось. Я был переводчиком. Как‑то раз даже при маршале Жукове. Знаешь, Жуков замечательный человек!
Он рассказывал о фронте и я все слышал: Жуков, Жуков, Жуков.
Меня это не удивило, так как и в Казахстане мне часто приходилось слышать восторженные отзывы о Жукове. Жуков пользовался настоящей, а не искусственной популярностью, особенно в армии и у молодежи; быть может это было одной из причин отстранения Жукова Сталиным в конце 1946 года.
Я слушал Яна с интересом, но мне хотелось отвести его от этой темы и узнать что‑либо о школе.
Это случилось раньше, чем я ожидал, так как он вдруг опомнился и в отчаянии схватился за голову.
– Ах, да, я ведь ничего не должен рассказывать о своем прошлом. Ты, пожалуйста, больше никому не говори о том, что я тебе… Кстати, какая у тебя здесь фамилия, чтоб я не ошибся.
– Моя фамилия Линден, а твоя?
– Данилов, Ян Данилов.
Странно, не успел он назвать своей партийной клички, как он совершенно вдруг переменился. Он начал отвечать на мои вопросы осторожно и уклончиво.
– Школа? Ну, что особенного можно о ней рассказать. Мы разделены на группы по национальностям. Кроме отдельных занятий и семинаров по различным национальным группам, у нас бывают и общие для всех лекции. Немецкую группу ведет Класснер. Здесь его фамилия Класснер, а кто он на самом деле – не знаю.
– А есть здесь еще кто‑нибудь из нашего детдома или из школы им. Карла Либкнехта?
– Гм… как тебе сказать. Ну, ты сам увидишь.
За несколько секунд Ян, восторженный комсомолец, превратился в партработника, полностью владеющего собой к осмотрительно взвешивающего каждое свое слово. Вскоре в столовую вошла секретарша.
– Товарищ Линден, я хочу вам сейчас показать комнату, где вы будете спать.
Сначала она повела меня по первому этажу, где находились аудитории отдельных секций.
В конце коридора на втором этаже была старая скрипучая деревянная лестница, которая вела наверх. Дальше шел узкий проход. Секретарша показала на дверь:
– Здесь библиотека и читальня, – затем она остановилась перед последней дверью. – Это здесь. Я увидел большую комнату с пятнадцатью кроватями. Около каждой кровати была тумбочка. Посередине комнаты стоял стол. Это было вроде общежития учительского института в Караганде, с той только разницей, что там была новостройка, а здесь – старый помещичий дом. Я был несколько разочарован. После всего пережитого и виденного мною в Уфе, я представлял себе школу совсем иначе.
Секретарша подвела меня к примитивной деревянной кровати:
– Ваше место здесь. Завтра придите ко мне и я поведу вас к директору.
Я сел. С чувством изумления начал перебирать я в памяти события последних дней и в то же время с волнением думал о том, что мне принесет мое пребывание в школе Коминтерна.
Через несколько минут пришли мои товарищи по комнате. Это были испанцы.
Они кивнули мне. Один даже подошел ко мне и спросил меня по–испански:
– Испанец?
– Нет, немец, – ответил я.
И в тот же момент испугался, что, быть может, сказал что‑то лишнее.
Я радовался тому, что буду жить с испанцами, так как в Москве у меня были друзья–испанцы и атмосфера, которая царила среди испанской эмиграции была мне больше по душе, чем среди немецкой.
Испанцы говорили громко. Я все надеялся, что встречу среди них какого‑нибудь знакомого, который расскажет мне о школе. Но здесь никого не было из тех, кого я знал в Москве. Наша спальня понемногу наполнялась.
Вдруг я увидел моего хорошего друга из Москвы – Мишу Вольфа, которого несколько недель тому назад я встретил в Алма–Ате. Я хотел было уже броситься к нему с криком «Миша!», но вовремя спохватился, что у него, конечно, здесь другое имя и что даже со старыми друзьями нельзя вспоминать прошлое. Тем временем он меня тоже увидел и не спеша направился к моей кровати.
– Фёрстер, – представился он, подчеркнуто безразлично протягивая мне руку.
– Линден, – ответил я.
– Хорошо, что ты здесь. Ты наверно скоро сживешься со школой.
– Да, я тоже очень рад, что я здесь.
Больше мы ничего друг другу не сказали. Мы строго придерживались предписания, хоть это и было смехотворно, так как мы знали друг друга с 1935 года, то есть уже около восьми лет.
Мы разделись молча.
Между тем была одна свободная кровать. Меня интересовало, кто будет спать рядом со мной?
– Немец? – Миша кивнул мне головой.
Я прятал свои вещи в тумбочку и не заметил, как ко мне вплотную подошел мой сосед по кровати.
Когда я взглянул на него, то увидел, что это был Гельмут Генниз, которого мы когда‑то в детдоме прозвали «Хельмерль». Это был мой лучший друг.
Хельмерль был родом из Восточной Пруссии. Его родители были партийными работниками. В течение многих лет, проведенных в детдоме, мы готовили вместе уроки за одним столом. Мы читали одни и те же книги и во время долгих прогулок по Москве спорили часами. Я знал о его увлечениях, а он – о моих, как и полагается двум неразлучным друзьям в возрасте 14–17 лет. Мы вместе готовились ко вступлению в комсомол и были приняты приблизительно в одно и то же время. В последние годы мы виделись реже. К началу войны он закончил десятилетку.
– Цаль, Петер Цаль, – сказал он многозначительно.
– Линден, Вольфганг Линден, – был мой ответ. Мы замолчали. Затем я робко спросил:
– С каких пор ты здесь?
– Так… с некоторого времени.
Встречу с моим бывшим другом «Хельмерлем», ставшим «Петером Цалем», я представлял себе совсем, иначе. Но произошла она именно так. Хельмерль строго придерживался школьных правил и вообще за последние годы стал очень законопослушным, и мне не оставалось ничего другого, как тоже придерживаться школьных предписаний.
Мне так хотелось поскорее узнать, что из себя представляет школа, но уж если даже «Хельмерль» мне ничего не говорит, то ни от кого другого я наверняка ничего не узнаю.
Утром нас разбудил резкий звонок. Все быстро встали.
– Физзарядка! – крикнул мне «Хельмерль».
Все курсанты были разделены по национальным группам. Руководители групп рапортовали коротко, почти по–военному, о наличном составе. Мы в это время стояли, как по команде «смирно». Для меня все это было ново. Когда я был студентом, мы занимались военным делом лишь в немногие, специально для этого отведенные часы. А от партийной школы я этого уж никак не ожидал.
Затем мы отправились на спортивную площадку, находящуюся недалеко от главного здания.
Каждый день начинался с физзарядки, гимнастики, упражнений на турнике, бега и прыжков. Результаты тщательно отмечались – очевидно спортивным достижениям в школе придавалось большое значение.
После обильного завтрака, – контраст между прекрасным питанием и примитивными жилищными условиями бросался в глаза, – я пошел в секретариат и через несколько минут был вызван к директору. Я знал только, что его фамилия Михайлов – вернее, что его так надо было называть в школе.
Через некоторое время я узнал, что Михайлов – болгарин, владеющий несколькими языками, что во время гражданской войны в Испании он играл важную роль в подготовке партийных кадров, – главным образом, в подготовке политкомиссаров, – а также редактировал испанскую газету «Эль комиссарио» («El comissario»).
Михайлов во многом был похож на моих друзей из Агитпропа в Караганде и не производил впечатления крупного должностного лица или директора школы. Не было трафаретных вопросов и ответов. Разговор носил характер непринужденной беседы. Он расспрашивал между прочим о моей деятельности в комсомоле, о моем учении и даже справился, хорошо ли я перенес путешествие. И только после всего этого он перешел к теме о «школе Коминтерна», причем казалось, что он больше всего интересуется моими политическими знаниями.
– Ознакомились ли вы уже с главнейшими сочинениями классиков марксизма–ленинизма?
– Да, конечно.
– Какие книги Ленина вы уже проработали?
– В вузе и по собственному желанию я прочел ряд его сочинений: «Что делать?», «Шаг назад, два шага вперед», «Две тактики социал–демократии в демократической революции»…
Он прервал меня и в дружеском тоне начал задавать вопросы, один за другим, о вышеуказанных книгах.
Мне бросилось в глаза, что это не были обычные вопросы, задаваемые на семинарах в вузах. Его вопросы были так сформулированы, что по моим ответам можно было сразу судить, прочел ли я только эти книги, или я и осмыслил их. Коротко ответил я на все его вопросы. Казалось, он остался удовлетворен моими ответами. Только при одном его вопросе я запнулся.
– Против какого идеологического направления выступал Ленин в его сочинении «Что делать?»
Для советских условий это был до смешного простой вопрос. Но как раз ответ на этот вопрос никак не приходил мне в голову.
Он засмеялся.
– Да, ведь вы это сами знаете, против экономистов.
Я действительно это знал и сейчас же начал рассказывать в чем там было дело. Но движением, руки он показал, что продолжать не надо.
– Вполне достаточно! Вы этими вопросами еще будете основательно здесь заниматься.
После этого он перешел на другую тему.
– Как вы знаете, это школа Коминтерна. Мы подготовим кадры для разных стран. Готовы ли вы вести работу в Германии?
– В Германии? – Все это было для меня как‑то ново и я не знал, что он под этим подразумевает. Подпольную работy? Работу среди немецких военнопленных? Политическую работу после поражения гитлеровской Германии?
– Само собой разумеется, – ответил я. Он серьезно взглянул на меня:
– Товарищ Линден, задача каждого ученика подготовиться здесь для работы на своей родине и чувствовать свой долг по отношению к своему собственному народу. Вы должны знать, что вам придется разрешать стоящие перед вами задачи в Германии и что, в первую очередь, вы должны заниматься вопросами, касающимися Германии.
Беседа была закончена. Он мне дружески протянул руку и пожелал успеха в работе.
В ближайшие дни я узнал, что школа Коминтерна была разделена на отдельные национальные секции. Интересно указать, что в 1942 году там находились лишь партработники из тех стран, с которыми Советский Союз находился в состоянии войны, или из тех стран, которые в то время были оккупированы Гитлером: немцы, австрийцы, судетские немцы, испанцы, чехи, словаки, поляки, венгры, румыны, болгары, французы и итальянцы.
У каждой группы был свой преподаватель и представитель от учеников. Испанская группа была самая многочисленная, в ней было 30–40 курсантов. Средние по количеству учеников группы – немецкая, австрийская, судетско–немецкая и болгарская – состояли из 15–20 человек, а остальные группы были еще малочисленнее. Англичане и американцы в школе Коминтерна не были представлены вообще. Был там один югослав, которого присоединили к болгарской группе, и одна симпатичная аргентинка, жена члена аргентинской компартии; она принимала участие в гражданской войне в Испании и теперь проходила курс учебы в испанской группе.
Преподавание велось, главным образом, по отдельным группам, составленным по национальному признаку. Только при особо важных темах назначались общие лекции для всей школы. Три группы, в которых преподавание велось на немецком языке – немецкая, австрийская и судетско–немецкая – занимались также отдельно. То, что занятия у австрийцев велись отдельно, не было удивительным, ибо тогда уже было ясно, что Австрия снова станет независимым государством. Что же касается судетских немцев из Чехословакии, то их судьба, видимо, не была еще решена, чем и объясняется создание специальной судетской группы в школе Коминтерна.
Только через несколько недель я узнал, что кроме упомянутых 12–ти групп существовала еще одна группа. Несколько в стороне от домов, в которых размешалась школа, находилось маленькое строение, которое было обнесено оградой и куда никто из нас не смел заходить. Благодаря полной изоляции никто из курсантов не знал, что в этом здании происходило и кого там обучали. Постепенно просочилась только одна информация: в этом здании обучаются корейские коммунисты. Они жили там совсем обособленно и никогда не принимали участия в каких‑либо общих начинаниях.
Причину таких особых мер предосторожности не трудно объяснить. В школе Коминтерна подготовлялись лишь партработники из тех стран, с которыми Советский Союз находился в состоянии войны и из оккупированных державами оси областей. Как известно, с Японией Советский Союз до 1945 года не находился в состоянии войны. Между СССР и Японией был заключен пакт о ненападении и они поддерживали нормальные дипломатические отношения. Следовательно, обучение корейцев, которые в сущности готовились для борьбы с японскими оккупантами, должно было держаться в строжайшей тайне.
Не только студенты, которых в школе называли «курсантами», но и преподаватели имели вымышленные фамилии, так что я за все время пребывания в школе и еще много лет спустя не знал их настоящих фамилий.
Уже после 1945 года узнал я на фотоснимках двух доцентов (не считая преподавателей немецкой группы), которые за это время заняли высокие государственные и партийные посты. Так выяснилось, что руководитель польской группы в школе Коминтерна Яков Берман стал членом Политбюро Польской объединенной рабочей партии и заместителем председателя Совета министров Польской народной республики. Яков Берман в молодые годы был на юридическом факультете Варшавского университета и быстро выдвинулся в рядах польского революционного студенческого движения. Вскоре после этого он начал фигурировать среди руководства польской компартии. После роспуска Коминтерна, весной 1943 года, он принимал активное участие в основании Объединения польских патриотов в СССР и в организации формировавшейся тогда в Советском Союзе польской дивизии им. Костюшко. В 1944 году он был заместителем министра иностранных дел при временном правительстве в Люблине.
Впоследствии я также увидел на фотографии в газетах руководителя австрийской группы школы Коминтерна. Это был Франц Хоннер. Еще до 1918 года он состоял в австрийкой социалистической партии, а в 1920 году он перешел в компартию. После февральского восстания 1934 года он был интернирован и сидел в концентрационном лагере Вёллерсдорф. Но ему удалось оттуда бежать в Советский Союз. Во время испанской гражданской войны он был в австрийском батальоне интернациональной бригады и после падения Испанской республики в 1939 году снова приехал в Советский Союз. В мае 1943 года, когда Коминтерн и вместе с ним наша школа были распущены, он поехал в Москву и впоследствии был одним из руководителей австрийского освободительного батальона, сражавшегося в рядах югославской партизанской армии. В 194 5 году Франц Хоннер был короткое время министром внутренних дел временного австрийского правительства.
О других доцентах – за исключением доцента немецкой группы – мне абсолютно ничего не приходилось слышать с тех пор, как я покинул школу. Несомненно лишь одно – доценты были высококвалифицированными работниками, принадлежали к руководству компартиями различных стран и по всей вероятности и сегодня занимают высокие Посты – если за это время не пали жертвой многочисленных чисток.
НЕМЕЦКАЯ ГРУППА
Руководителем нашей группы и главным доцентом был высокий сорокалетний мужчина с тронутыми сединой висками и темными глазами, говорящий по–немецки с судетским акцентом и называвший себя «Класснер». Класснер был законченным типом интеллигента–сталинца. Он обладал чрезвычайно большими знаниями не только в области марксизма–ленинизма, истории Коминтерна и КП Германии, но и в области истории Германии и в философии. Кроме того, он долгое время специализировался по балканскому вопросу. Казалось ничто не могло поколебать его холодную уверенность в себе.
Он мог бы беспощадно пожертвовать своими лучшими друзьями и сотрудниками, если бы руководство от него этого потребовало, Он себя держал под постоянным контролем и необдуманные или неточные формулировки в его устах были невозможны. Он выбирал слова предельно точно и можно было быть уверенным, что они точь–в-точь согласованы с генеральной линией.
Благодаря своему уму и интеллигентности он умел вовремя схватить малейший намек на перемену идеологического направления и соответственно с этим действовать. При перемене генеральной линии он был готов в любой день переменить свой взгляд на вещи и защищать с кристально ясной логикой взгляды прямо противоположные тем, которые он выражал накануне. Он был выдающимся педагогом и свои большие теоретические знания он целиком отдавал для того, чтобы обосновывать, пояснять и пропагандировать директивы, получаемые им сверху.
Тогда я еще не знал его настоящей фамилии; позже я узнал, что его зовут Пауль Вандель. Он был родом из Маннгейма, посещал в Москве школу им. Ленина, после чего работал в аппарате Коминтерна в качестве сотрудника Вильгельма Пика, главным образом, в балканском отделе. После 1945 года он был председателем Центрального управления народного образования и затем министром народного образования в Советской зоне Германии. В 1952 году он получил повышение и стал во главе отдела координации и контроля образования, науки и искусства. С июля 1953 года он уже – секретарь Центрального комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ – SED).
Заместителем руководителя немецкой секции в школе Коминтерна был Бернгард Кёнен, пожилой работник, в прошлом рабочий, без сомнения получивший свое образование в тяжелых условиях. С 1907 года он был членом социал–демократической партии, а в 1917 году перешел в Независимую социал–демократическую партию (USP). В 1918 году, когда вспыхнула ноябрьская революция, он был председателем совета рабочих и служащих на предприятии Лейна–Верке (Leuna‑Werke).
Бернгард Кёнен оставался еще и после 1918 года в Независимой социал–демократической партии Германии, но в 920 г. перешел в германскую компартию. Он принимал активное участие в революционной борьбе с 1919 по 1923 год, в том числе участвовал в восстании 1921 года в центральной части Германии и в недолговременном рабочем правительстве в 1923 году.
В отличие от Класснера, в нем чувствовался настоящий рабочий–революционер, не превратившийся в холодного, расчетливого сталинского партаппаратчика. Ему не всегда удавалось при поворотах в политике скрыть свои личные чувства, сразу приноровиться к новой генеральной линии, как это прекрасно мог делать Класснер.
Я никогда не забуду одной сцены. Класснер поручил мне переводить на немецкий язык важнейшие статьи «Правды» Бернгарду Кёнену и его жене Фриде (которая также была в школе Коминтерна), так как они плохо знали русский язык.
Однажды я переводил статью из «Правды», в которой речь шла об извечной совместной борьбе русских, поляков и других славянских народов против Германии.
Не колеблясь, я перевел: «Дело идет о постоянных товарищах по оружию в борьбе против немцев, гнусных, заклятых врагов славянских народов!»
Бернгард Кёнен в ужасе посмотрел на меня.
– Постой, постой, ты тут что‑то неправильно перевел! Этого не может быть! Переведи еще раз!
Я прочел снова эту фразу. Бернгард забеспокоился.
– Может быть там есть что‑нибудь о немецком империализме или о господствующих классах Германии?
– Нет, Бернгард, речь идет просто о немцах.
– Но ведь этого не может быть!
Молча показал я ему это место в «Правде» и еще несколько других фраз, в которых так же шла речь о «немцах» как об извечных врагах славян.
Бернгард побледнел. Он больше ничего не сказал. Ему, старому рабочему–революционеру было не легко стать сталинским партработником, который безоговорочно должен подчиняться советским директивам.
Во время большой чистки в 1936–38 годах Бернгард Кёнен был арестован органами НКВД. В тюрьме он потере один глаз. Благодаря чьему‑то вмешательству он был выпущен, после чего он продолжал служить сталинщине.
После 1945 года Кёнен был первым секретарем обкома Социалистической единой партии Германии в области Саксония–Ангальт; в 1953 году он был назначен послом ГДР (DDR) в Прагу, что, несомненно, означало понижение.
Кроме двух наших главных доцентов – Пауля Ванделя (Класснера) и Бернгарда Кёнена, у нас была еще ассистентка, которую в школе называли Лене Ринг. Она потом была преподавательницей в Высшей партийной школе СЕПГ им. Карла Маркса и затем правой рукой Бернгарда Кёнена в обкоме города Галле.
Наша немецкая группа состояла из 18–20 курсантов. Лишь некоторые из них были старыми партийцами, принадлежавшими к германской компартии начиная с 1933 года. Среди них был «Отто» из Гамбурга и «Вилли» из Берлина (их настоящих имен я так никогда и не узнал). Оба они били раньше в Союзе Красных фронтовиков (RFB) и оба сражались в интернациональной бригаде в Испании. «Артур» – его настоящее имя Ганц Гофманн, – был в Испании полит–комиссаром II–ой Интернациональной бригады. После 1945 года он был уже генерал–лейтенантом, возглавлял военизированную народную полицию и был заместителем министра внутренних дел в ГДР; Лене Бернер до 1933 года принимала участие в подпольной деятельности немецкой компартии и Коминтерна и ей приходилось выполнять особые задания даже в Японии. После 1945 года она была преподавательницей в школе при Советской военной администрации в Германии, затем работала в Обществе немецко–советской дружбы в Восточном Берлине и, наконец, в министерстве иностранных дел ГДР.
Большинство курсантов немецкой группы в школе Коминтерна были, как и я, молодые люди, комсомольцы, выросшие и получившие воспитание в Советском Союзе. В школе Коминтерна я встретил много моих старых друзей из школы имени Карла Либкнехта и из детдома №6. Кроме Миши Вольфа, Гельмута Генниза и Яна Фогелера (я должен был теперь не забывать их новых фамилий «Фёрстер», «Цаль» и «Данилов»), я еще неожиданно встретил Марианну Вейнерт, дочь известного поэта–коммуниста Эриха Вейнерта, с которой я познакомился еще ребенком в 1932 году в Берлине в колонии деятелей искусства на Брейтенбахплатц. Встретил я также Эмми и Эльзу Штенцер («Штерн») – двух дочерей депутата Рейхстага от германской компартии, убитого нацистами.
В австрийской группе также было много моих друзей из нашего детдома №6; среди них – Руди Спирик, сын социал–демократа, коменданта шуцбунда, погибшего во время боев в феврале 1934 года, Тони Шлёгль из Санкт–Пёлтена, Алиса Клок, которая не преуспевала в школе Коминтерна и впоследствии должна была посещать еще одну партийную школу, и, наконец, Ганс Шейхенбергер, которого мы в детдоме из‑за его наружности в шутку прозвали «негром». В школе Коминтерна он сохранил свое прежнее обаяние. Вне немецкой и австрийской группы я никого не знал. Лишь на третий день пребывания в школе Коминтерна я увидел испанскую девушку исключительной красоты, лицо которой мне показалось знакомым. Казалось, что и она меня знала. Это была Амайя Ибаррури, дочь Долорес Ибаррури, генерального секретаря испанской компартии, которая из незаметного партийного работника стала самой известной женщиной республиканской Испании и носила имя «Пассионария». После поражения испанских республиканцев она приехала с сыном и дочерью в Советский Союз. Ее сын служил в Красной армии и погиб в ноябре 1942 года под Сталинградом. Дочь же училась у нас в школе Коминтерна. Ее здесь звали Майя Руис.
Дочь Пассионарии была не единственной видной личностью среди курсантов. В нашей комнате привлек мое внимание молодой товарищ с одной рукой. Он хорошо говорил по–русски и однажды рассказал нам в спальне, невзирая на предписание, что он уже сражался на фронте в 1941 году и там потерял руку. Он был, как будто, единственным, которого не так‑то легко было укротить, и он, казалось, не все принимал всерьез. Почему‑то ему предоставляли свободу действий. Меня это очень удивляло. Как только он появлялся сразу становилось как‑то веселее и свободнее и ему кричали: «Шарко, что нового?» Я с ним тоже познакомился и вскоре он мне прямо сказал, что он – сын Тито.
ЧТО МЫ ИЗУЧАЛИ В ШКОЛЕ КОМИНТЕРНА
О том, что, собственно, мы будем изучать, я так толком и не знал, так же, как в свое время не знал, куда меня направят. Обычно нас оповещали только о серии предстоящих докладов, относящихся к прорабатываемой теме. После всех этих докладов, которые длились от двух до трех недель – иногда, правда, значительно дольше, – нам сообщали следующую тему. За 10 месяцев, проведенных мною в школе, мы проработали следующие темы: история компартии Германии, история компартии Советского Союза, Веймарская республика, фашизм, характер и ход событий Второй мировой войны, политическая экономия, диалектический и исторический материализм, история Коммунистического Интернационала, обзор истории Германии.
Каждой теме был посвящен цикл лекций, которые читались большей частью Паулем Ванделем, иногда Бернгардои Кёненом или Лене Берг; некоторые же доклады на исторические темы делала одна венгерка.
В конце каждой лекции нам говорилось, что мы должны прочесть, чтобы подготовиться к семинару. Так же, как и в советских вузах, материал для чтения разделялся на обязательную литературу, знание которой было необходимо, и на дополнительную литературу для лиц теоретически особо подкованных.
Для проработки указанной литературы составлялась группа из определенного числа курсантов. Мы обязаны были делать выписки, которые иногда проверялись. После самостоятельной работы проводились семинары, которые длились сплошь и рядом по 3 часа, а иногда и больше.
Общие лекции для всех групп происходили большей частью в библиотеке или в столовой, так как у нас не было большой аудитории. Так была назначена общая для всех тема об истории Коммунистического Интернационала. Лектором этого цикла докладов был наш директор – товарищ Михайлов. Лекции его были во всех отношениях исключительными. Ни до, ни после мне не приходилось слышать докладов, хотя бы отдаленно приближающихся к такому высокому уровню изложения. Михайлов читал лекции по–русски и все те, кто знал русский язык, как свой родной – (а это, как правило, были представители младшего поколения) – садились в передние ряды, в то время как за другими столами доклад переводился на испанский, немецкий, французский, итальянский, румынский, чешский, словацкий, польский и венгерский языки. Так как курсанты каждой на–циональной группы сидели за отдельными столами, то это никому не мешало, и вся эта система перевода была блестяще организована. Семинары на эту тему вел преподаватель каждой национальной группы отдельно.