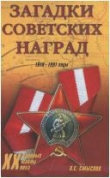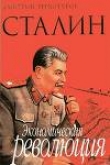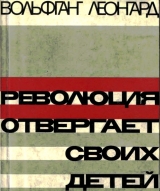
Текст книги "Революция отвергает своих детей"
Автор книги: Вольфганг Леонгард
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 39 страниц)
– Через несколько недель, 29 ноября, годовщина нашей революции. В этот вечер мы устроим в нашем посольстве прием и я был бы очень рад, если бы ты мог принять в нем участие.
Я принял приглашение.
Когда я в конце следующей недели приехал из Высшей партийной школы домой на свою квартиру в Панкове, там ждал меня приятный сюрприз. Пришел пакет из Швейцарии. Я с любопытством вскрыл его. В нем было несколько толстых брошюр на немецком языке: речи Тито и Карделя, а также другие материалы V съезда Коммунистической партии Югославии, который состоялся в Белграде через несколько недель после разрыва с ВКП(б).
В те дни ничто не могло меня обрадовать больше, чем этот пакет. Несколько минут спустя я погрузился в чтение брошюр.
Вдруг в дверь резко постучали. Я вздрогнул. Это было в первый раз, что я в Восточном Берлине испугался стука в дверь.
Но испуг мой был напрасен, за дверью стоял случайный посетитель.
Вернувшись на свою казенную квартиру в Высшей партийной школе, я тщательно убрал и запер полученные брошюры и имевшиеся у меня с прежнего времени бюллетени Танъюг. В первый раз я сознательно прятал что‑то от партии. Ни в малейшей степени я не чувствовал себя при этом виноватым, так как я знал, что югославские коммунисты были правы, а Коминформ – неправ. В этом вопросе я не признавал более никаких попыток оправдания. Мое отношение уже определилось.
Заявление партийного руководства от 3 июля и подробное разъяснение от 29 июля были не концом, а лишь началом большой кампании против югославских коммунистов и против «титоизма».
По этому вопросу в сентябре 1948 г. был созван чрезвычайный пленум Центрального Комитета. Это был XIII пленум и единственной целью его было осуждение югославских коммунистов. Резолюция Коминформа снова – вот уже во второй раз – верноподданнически приветствовалась в официальном коммюнике и было прокламировано полное согласие по всем вопросам с Советским Союзом.
После пленума была опубликована длиннейшая резолюция под широковещательным заголовком «Теоретическое и практическое значение резолюции Информационного бюро о положении в Коммунистической партии Югославии и уроки из этого для СЕПГ».
Льстиво благодарило партийное руководство СЕПГ «Политбюро ВКП(б) и лично товарища Сталина» за то, что они «своевременно вскрыли ошибки компартии Югославии». Примитивная и лживая резолюция Коминформа называлась «блестящим вкладом в теорию марксизма–ленинизма», а в порядке самокритики отмечалось, что «в СЕПГ до сих пор недооценивается значение документа Информационного бюро коммунистических партий» и «лишь в некоторой части партийного руководства и на отдельных общих собраниях членов партии вопрос обсуждался и приняты резолюции». Резолюция клеймила «явления отступления перед идеологией врага» (под этим подразумевались заявления югославских коммунистов) и констатировала, что было сделано «недостаточно, чтобы ознакомить членов партии с опытом борьбы за социализм в Советском Союзе и с уроками из истории ВКП(б), с ведущей ролью Советского Союза в борьбе за мир и против империализма и с освободительной ролью Советской армии».
И, наконец, у меня было отнято последнее, что еще связывало меня с партией: теория особого германского пути к социализму. Марксистский тезис об особом германском пути к социализму был осужден следующими словами:
«Центральный Комитет партии констатирует, что в СЕПГ также существуют «теории» об «особом германском пути» к социализму… Попытка искать особый германский путь к социализму повела бы к пренебрежению великим советским примером».
Многие видные ответственные работники партии высказались сразу же по поводу этой новой «линии». Аккерман, с именем которого была связана теория об особом германском дуги к социализму, пока что молчал. Но 24 сентября он нарушил свое молчание и опубликовал – без сомнения против своего убеждения – развернутую статью под заголовком: «О единственно возможном пути к социализму». В ней он отказался от своей марксистской концепции особого германского пути к социализму:
«Эта теория содержит элементы отмежевания от рабочего класса и от большевистской партии Советского Союза» – писал Аккерман.
Осуждение югославских коммунистов обусловило мой внутренний разрыв с СЕПГ. Осуждение теории особого германского пути к социализму порвало последние нити, соединявшие меня с партией, в организации и основании которой я принимал участие с большим воодушевлением.
То были тяжелые недели, тяжелые месяцы. Травля Югославии, начавшееся поношение тех, кто очень активно распространял теорию особого пути к социализму, усиливались и принимали все более резкие формы.
Часто в Высшей партийной школе устраивались собрания и конференции, на повестке дня которых стояла резолюция Коминформа и осуждение теории об особом пути к социализму. Основные доклады делал Фред Ольснер, который теперь, после самокритики Аккермана, явно играл роль главного идеолога СЕПГ. После его доклада в дискуссии выступал целый ряд партработников. Все шло по плану – слишком даже чётко по плану. Я чувствовал, что выступления в дискуссии были подготовлены и организованы. Это было мне знакомо уже по собраниям в Советском Союзе. До сего времени, однако, ничего подобного в Высшей партийной школе не наблюдалось. СЕПГ сделала в направлении уподобления ВКП(б) еще один значительный шаг.
Нетрудно было себе представить, что за этим последует. Сначала, по плану, история ВКП(б) будет пропагандироваться с особым нажимом. Затем последуют критика и самокритика по сталинскому образцу и, наконец, в советской зоне начнутся «чистки» партии: честных, самостоятельно мыслящих партийных работников будут снимать с работы, исключать из партии, разоблачать как агентов и шпионов и арестовывать, приписывая им несовершенные ими преступления.
СВИДАНИЕ С МАТЕРЬЮ
В августе 1948 года я проводил свой отпуск в «закрытом» доме отдыха в Цинновице на Балтийском море.
Я лежал на пляже и дремал, когда вдруг кто‑то крикнул мне:
– Телефон! Из Берлина!
Работник отдела кадров, позвонивший мне, коротко сообщил:
– Приехала твоя мать! Возвращайся сейчас же в Берлин! Через несколько часов я мчался на машине в Берлин, чтобы увидеть свою мать после двенадцати лет разлуки.
Чего только не произошло с того вечера в октябре 1936 года, когда я видел свою мать в последний раз в Москве! В то время как я окончил советскую школу, учился в университете, вступил в комсомол, затем закончил школу Коминтерна и сделался ответственным партработником в СЕПГ, моя мать видела жизнь в Советском Союзе совсем с другой стороны: она провела двенадцать лет в советских исправительно–трудовых лагерях.
Официально моя мать была осуждена «только» на пять лет, – срок, который считался в период чисток 1936–1938 годов небольшим. Срок этот истекал в октябре 1941 года. После начала войны, однако, освобождение всех политических заключенных – лишь за некоторым исключением – было приостановлено.
По окончании войны, казалось, наступило, наконец, время их освобождения. Неоднократно пытался я предпринять что‑либо через отдел кадров, но каждый раз получал отрицательный ответ. Наконец, я обратился, – будучи у него в гостях, – к самому Вильгельму Пику, который знал мою мать еще со времен «Спартака» и «путча Каппа» 1920 года.
– Пока что ничего еще нельзя сделать, Вольфганг, – сказал мне Пик, – но мы будем пытаться дальше. Как только представится возможность, я тебе сообщу.
Наконец, в феврале 1947 года Пик пригласил меня в свою виллу в Нидершёнгаузене.
– Появилась одна возможность! Я узнал, что твою мать могут освободить и она приедет сюда. Подай соответствующее заявление, – сказал он мне.
На следующий день я подал прошение в секретариат Вильгельма Пика. Я надеялся, что теперь день свидания недалек. Но и я, – а еще в большей степени моя мать, – должны были еще долго терпеть и ждать.
«Дело передано дальше» – единственное, что я слышал. Я тогда еще не знал, что моя мать была вывезена в небольшой совхоз в Алтайском крае и что ей приходилось вести невероятную борьбу за то, чтобы добиться от местного отдела НКВД проведения решения центрального НКВД. Проходили недели и месяцы. Лишь в середине июля 1948 года моя мать получила от Барнаульского отдела НКВД разрешение на выезд и шесть недель спустя, 29 августа 1948 года, прибыла в Берлин. Она провела 13 лет в Советском Союзе, из них 12 лет в тюрьмах, лагерях и ссылке…
Когда я пришел в здание ЦК, меня встретил один из партработников:
– Твоя мать помещена в доме для гостей Центрального секретариата.
Двенадцать лет я не видал свою мать. Я просто не мог дождаться увидеть ее и бросился туда. Когда я ворвался в ее комнату, она вздрогнула и взглянула на меня радостно, но с оттенком сомнения: я ли это? Она помнила меня таким, каким я был двенадцать лет назад.
Но и она очень изменилась: у нее был загнанный вид – лишения и страдания этих лет наложили на нее свой отпечаток. Когда кто‑нибудь проходил мимо лестницы и что‑нибудь кричал, она вздрагивала. Уже в течение первого разговора я увидел, насколько она была запугана и растеряна. «Можно ли это? Разрешат ли мне это? Где я должна прописаться?» – спрашивала она меня испуганно. И лишь позже она рассказала мне, что произошло с 25–го на 26–е октября 1936 года, когда она была арестована в Москве.
Ее сначала привезли на Лубянку, а затем перевезли в пресловутые Бутырки. Только после восьми месяцев заключения, уже в июне 1937 года, ей объявили приговор: пять лет. Затем ее выслали в Коми АССР и после длительного пребывания во многих пересыльных лагерях в январе 1938 года она прибыла в Кочмесс, принадлежащий к лагерям Воркутинского района. Там и в лагере инвалидов в Адаке она провела более восьми лет своей жизни. Наконец в апреле 1946 года, через девять с половиной лет после ее ареста, ее выпустили из лагеря, но задержали вместе с другими немцами в Кожве на Печоре. Ей был сообщен приказ НКВД, что ни один немец не имеет права вернуться на свое прежнее место жительства, а все они будут переселены в Сибирь. Омская область и Алтайский край предлагались немцам «на выбор». Мать выбрала небольшое селение Кальманку в горах Алтая. Она прибыла туда в мае 1946 года. Там жилось ей, однако, еще хуже, чем в лагерях на Воркуте. В конце концов, прожив более двух лет на Алтае, она получила 19 июля 1948 года разрешение на выезд и вернулась через Москву в Берлин с двумя женщинами[24]24
О своих переживаниях моя мать пишет в книге «Украденная жизнь» – «Gestohlenes Leben», Europaische Verlagsanstalt Frankfurt/M.
[Закрыть].
Оба мы, хотя и в совершенно различных условиях, прожили значительную часть нашей жизни в Советском Союзе. В жизни моей матери, так же как и в моей жизни, решающую роль играли мировоззренческие вопросы. Таким образом, было вполне понятно, что мы в самых первых наших разговорах задели и идеологические проблемы.
Поначалу мы не могли найти общего языка. Слишком разно прошли для нас эти двенадцать лет жизни: у нее – жизнь в лагерях, у меня – жизнь комсомольца и ответственного партработника. Оппозиционные мысли, которые она высказала во время первых наших разговоров, я сначала резко отверг. Я ни в коем случае не хотел, чтобы судьба моей матери влияла на мои политические убеждения. Только по прошествии недели, когда мать переехала ко мне жить, я решил отбросить мою сдержанность и открыто заявить ей, что и я, убежденный на вид, обученный в Советском Союзе ответственный партработник, в глубине души был настроен оппозиционно и симпатизировал Югославии.
Мать смотрела на меня большими, удивленными глазами:
– А я уж думала, что ты тоже стал стопроцентным, – сказала она, облегченно вздохнув.
Я рассказал ей о надеждах, которые окрыляли нас в 1944 году в Москве, о тезисах Аккермана об особом германском пути к социализму, о моих «политических коликах» и, в особенности, о Югославии, которая отделилась от Советского Союза, чтобы идти своим собственным, самостоятельным путем к социализму.
Мы оба были настроены оппозиционно к сталинизму, но наша оппозиция имела различные корни и затрагивала разные вопросы. Мать видела страдания и лишения заключенных и ее возмущение было в это время, конечно, сильнее моего. Она рассказывала о миллионах заключенных, о десятках и сотнях тысяч старых заслуженных революционеров, которых Сталин объявил контрреволюционерами и приказал арестовать, о невероятных жертвах, об искаженном до неузнаваемости идеале…
– Советский Союз – не социалистическая страна! – говорила она.
Для меня это заходило в то время еще слишком далеко. Моя оппозиция ограничивалась тогда вопросом самостоятельного пути к социализму и равноправием социалистических стран. Я все еще, несмотря ни на что, был убежден, что Советский Союз – социалистическая страна. И все‑таки этот разговор нас сблизил.
Моя мать уже по прошествии короткого времени вошла в жизнь и захотела работать.
– Обе мои спутницы и я переданы отделу кадров и должны получить в ближайшие дни сообщение о направлении на работу, – сказала мать.
Она хотела получить по возможности не политическую, а «нейтральную» работу. Наконец ее устроили в издательстве «Культура и прогресс» («Kultur und Fortfchritt») в качестве лектора. Обе ее спутницы, напротив, вступили сразу в СЕПГ и одна из них получила ответственную политическую работу.
Это отнюдь не было исключением. С 1945 года я познакомился с целым рядом партработников, на долю которых в Советском Союзе выпали тяжелые испытания или же чьи ближайшие родственники сидели в советских концлагерях. Тем не менее они оставались верными СЕПГ и Советскому Союзу.
Первая моя такая встреча относится к июню 1945 года. Я сидел утром с Паулем Ванделем на Принценаллее 80, когда вошел один ответственный партработник. Он знал Пауля Ванделя по прежним временам и они радостно приветствовали друг друга. Сын этого ответственного работника попал в Советский Союз и там вырос.
– Когда вернется мой сын? – спросил он.
Он просидел долгие годы в нацистском концлагере и страстно хотел видеть своего сына.
– Боюсь, что он не вернется, – ответил Пауль Вандель спокойно.
– Почему? В чем дело?
До сегодняшнего дня у меня осталось в памяти испуганное лицо этого товарища.
– Он наделал там глупостей, но я надеюсь, что это на тебя не повлияет.
У того выступили слезы, но он быстро смахнул их рукой:
– Нет, нет… конечно, нет – сказал он с грустью и запинаясь. А потом продолжал совершенно другим тоном: – Так, а теперь поговорим о работе.
Он получил ответственную должность и до сих пор еще с искренним убеждением стоит на стороне политики СЕПГ и считает необходимой дружбу с СССР, хотя существующая там система отняла у него сына.
Я знавал также ответственных работников и работниц, которые сами отсидели в советских тюрьмах и лагерях, а после своего освобождения приехали в Восточный Берлин и служили там СЕПГ и Советскому Союзу верой и правдой.
Связанность с партией, в особенности у специально вышколенных партработников, настолько велика, что ее трудно понять людям Запада, которые гораздо глубже переживают судьбу отдельного человека и подпадают под большее влияние личных переживаний. Ответственных работников, прошедших соответствующую школу, личные переживания часто вообще не затрагивают. Их связь с партией, со сталинизмом порывается обычно лишь тогда, когда принципиальные теоретические соображения касаются основ сталинской идеологии.
Моя мать сняла себе недалеко от моей квартиры в Панкове комнату и вскоре я начал проводить конец недели постоянно у нее. Она удивительно быстро приспособилась к новым условиям жизни. У нее я мог открыто говорить обо всем, что лежало у меня на душе. И я посвятил ее в мой план побега в Югославию.
– Если ты убежишь, то мне тоже нужно уходить отсюда, – сказала она.
Нам не надо было много спорить и длительно обсуждать этот вопрос. Она сразу согласилась.
– Когда? – спросила она только. Она ко многому в жизни привыкла.
– Я останусь, пока это будет возможно. Я хочу рассказать как можно большему числу товарищей правду об югославском конфликте.
– На этой неделе? На будущей? – спрашивала она меня теперь каждый раз, когда я приходил к ней в конце недели.
– Подожди еще немного, подготовь все, я вовремя предупрежу тебя.
– Если все случится неожиданно и быстро, то позвони мне по телефону. Скажи мне просто – тогда‑то ты пошлешь свою статью в редакцию. Это укажет мне дату твоего побега.
Мать невольно перешла на тон, которым она говорила в бытность свою на нелегальной работе.
– Согласен, – сказал я. Этот вопрос был решен.
ПО СОВЕТСКОМУ РАСПИСАНИЮ
– Предстоят большие изменения, – сказал мне шепотом Фред Ольснер после одного из собраний в Высшей партийной школе, на котором он читал доклад.
Фред Ольснер и не подозревал, насколько сильно мучили меня в то время «политические колики». Он мне особенно доверял, как своему бывшему сотруднику и единственному преподавателю Высшей партшколы имени Карла Маркса, который прошел обучение в Советском Союзе.
Он таинственно вытянул из кармана две телеграммы:
– Читай!
Они были из Бухареста от Коминформа. «Сообщите о существующих изданиях истории ВКП(б) общую цифру тиража» – гласила одна телеграмма.
Вторая передавала, также в виде вопроса, директиву по усилению изучения истории ВКП(б).
– Вопросы достаточно ясно поставлены, не правда ли?
Это было именно так. Десять дней спустя появилась соответствующая резолюция ЦK СЕПГ: «Об усилении изучения истории ВКП(б)»:
«Германский рабочий класс… должен в первую очередь учиться по истории ВКП(б)… В истории еще не было партии, которая добилась бы таких успехов, как Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Благодаря своим победам она стала признанным и неоспоримым вождем международного социалистического рабочего движения и международной борьбы против империализма».
Как удары хлыста падали на партию распоряжения об изучении истории ВКП(б). Всем ответственным работникам вменялось в обязанность изучить «Краткий курс». Партийная пресса получила директиву начать кампанию за усиление этого изучения, были устроены специальные бюро консультации по изучению истории ВКП(б) и в «Социалистических учебных тетрадях» – как я был рад, что не был больше их редактором! – должны были печататься разъяснения по главам. Выработанный нами в 1946 году учебный план для районных партийных школ должен был быть изменен, чтобы включить туда изучение истории ВКП(б) «в возможно больших размерах»; в краевых партийных школах «Краткий курс» должен был изучаться еще более основательно.
В особенности же дело затрагивало нас: «В Высшей партийной школе имени Карла Маркса «Краткий курс истории ВКП(б)» должен быть положен в основу всех учебных планов».
Мне всегда доставляло удовлетворение, что преподавание в Высшей партийной школе велось на высоком уровне. Что будет сейчас, если мы положим эту примитивную и, – как я знал уже тогда, но еще не в полном объеме – изобилующую историческими подтасовками книгу в основу учебных планов! Я был не единственным, кого встревожили эти распоряжения. Многие курсанты и преподаватели, за исключением стопроцентных приверженцев партии, задумчиво покачивали головами, а некоторые в небольшом кругу друзей откровенно высказывали свои сомнения.
Один из преподавателей, бывший социал–демократ, назвал «Историю ВКП(б)» книгой сказок, а другой заявил:
– «Кратким курсом» можно, самое большее, пользоваться как общим руководством; работа в Высшей партийной школе должна базироваться, в первую очередь, на изучении источников.
Я тоже не мог смолчать. Одному из курсантов, который задал мне на семинаре вопрос, я ответил:
– Товарищи, надо при рассмотрении вопроса о «Кратком курсе истории ВКП(б)» видеть вещи в их историческом аспекте. Книга была издана в 1938 году для широких масс советского народа и без сомнения сыграла большую роль. Если мы сегодня, через десять лет, в Высшей партийной школе изучаем вопросы, затрагиваемые в этой книге, то это должно, естественно, идти в совершенно других формах. В наших условиях будет самым правильным рассматривать «Краткий курс» лишь как введение к дальнейшему серьезному изучению источников.
Курсанты моего семинара выслушали мое заявление с удовлетворением, но я не подозревал, что система доносительства процветала и в Высшей партийной школе и что среди курсантов также были доносчики. Через два дня среди преподавателей разнеслась неприятная весть:
– Будет созвано чрезвычайное собрание преподавателей. Критика и самокритика в связи с историей ВКП(б).
Каждый прикидывал, что у него в этом плане уже лежит на совести.
На следующий день действительно было созвано чрезвычайное собрание преподавателей. Рудольф Линдау произнес вступительную речь таким холодным и резким тоном, какого я уже несколько лет не слышал в кругах высших ответственных работ–ников и который появился лишь за последние недели. Этот тон напомнил мне вечера критики и самокритики в школе Коминтерна в Кушнаренкове. Мне было тяжело слушать.
– Великая освободительная роль Советской армии… не давать спуска националистическим настроениям… измена югославского партийного руководства… антипартийная теория об особом немецком пути к социализму… Углубление изучения истории ВКП(б)… Сомнительные явления в коллективе преподавателей… необходимость критики и самокритики… Недооценка великого труда по истории ВКП(б)…
И, наконец, с особым ударением:
…определенно указывают на то… из достоверных источников сообщают… что история ВКП(б) написана самим Сталиным…
Преподаватели и руководители факультетов Высшей партийной школы все покраснели, как раки. Заявление, что Сталин является автором истории ВКП(б), сделало ситуацию еще более затруднительной.
Я знал, однако, что это заявление было ложью. Уже несколько недель до собрания, когда я в первый раз услышал об этом, мне неясно припомнилось, что в Москве во время чисток появилось письмо Сталина к авторам «Краткого курса». Я начал искать и нашел это письмо. Оно было опубликовано в «Правде» от 6 мая 1937 года. Покачивая головой, я прочел «Письмо товарища Сталина авторам истории ВКП(б)». Не оставалось никаких сомнений: Сталин не был ее автором! Я, конечно, не сообщил никому о моем открытии и не сделал намека об этом на собрании.
Первый вечер критики и самокритики преподавателей Высшей партийной школы имени Карла Маркса начался. Рудольф Линдау сделал затравку и многое в происходившей затем дискуссии показалось мне подготовленным и организованным. Точно по словам Линдау, сначала взяли на мушку преподавателей из социал–демократической партии. Они никогда не переживали еще ничего подобного, сидели все красные и, казалось, не понимали, что происходит. Не привыкшие к сталинской системе критики и самокритики, они пытались оправдаться, а один из них даже осмелился заявить, что надо смотреть на вещи объективно. Мне было жаль их – они и понятия не имели, что означает критика и самокритика…
Советизация пошла семимильными шагами. После того, как была осуждена теория особого пути к социализму, а «История ВКП(6)» положена в основу всех учебных планов и были введены собрания критики и самокритики по советскому образцу – в середине октября 1948 года «открыли» немецкого Стаханова. 13 октября Адольф Геннеке в одной из штолен шахты имени Карла Либкнехта в угольном районе Цвикау превысил дневную норму на 380 процентов. Это было сразу же сделано – так же, как в 1935 году после появления Стаханова в Советском Союзе – отправной точкой для развернутого «движения». Я очень хорошо помню, как мы в советской школе долбили стахановский рекорд от 31 августа 1935 года в шахте Ирминской в Сталино: Стаханов выполнил норму на 1400 процентов. С Геннеке все‑таки вышло поскромнее. Он выполнил норму не на 1400, а «только» на 380 процентов. В остальном все было так же.
В Советском Союзе я постепенно узнал некоторые закулисные подробности о стахановском движении: сколько времени подготавливается какая‑либо рабочая область, как создаются особо благоприятные условия труда, как целые бригады производят все подсобные работы, чтобы дать возможность поставить «рекорд». У меня не оставалось никаких иллюзий, и все‑таки я был удивлен, с какой трезвой откровенностью Рудольф Линдау информировал нас на внутренней треподавательской конференции о начавшемся «движении Геннеке»:
– Мы будем говорить здесь совершенно откровенно. Сейчас наступило время, когда сделался необходимым путь создания особого движения, чтобы достичь нового отношения к работе, нового огромного подъема производительности труда. Такие вещи сами по себе не делаются. Их надо тщательно планировать и организовывать. Уже два месяца назад началась подготовка. Сначала надо было выяснить, в какой части нашей зоны лучше всего начать такое движение.
После долгих дискуссий решено было начать движение в Саксонии.
Затем было вынесено решение, в какой отрасли промышленности должно зародиться движение. Как и в Советском Союзе угольная промышленность казалась самой подходящей. Далее, следовало ли выбрать для исполнения этой функции молодого или пожилого рабочего? В Советском Союзе решено было остановиться на комсомольце. У нас в зоне дело обстоит иначе. Молодое поколение легче привлечь к такому роду движения ударников. Главный вопрос заключался в том, чтобы поднять энтузиазм старшего поколения промышленных и квалифицированных рабочих. Поэтому было решено выбрать рабочего из старшего поколения.
Наконец, необходимо было выяснить еще один вопрос: следует ли поручить дело беспартийному или члену партии? После обстоятельного совещания решено было выбрать члена СЕПГ, чтобы подчеркнуть роль партии в этом важном вопросе.
После того, как были разрешены эти важнейшие вопросы, можно было приступить к поискам отвечающего этим требованиям лица. Несколько ответственных товарищей поехали в саксонский горнопромышленный район и доверительно посоветовались с местными секретарями партийных организаций и директорами предприятий, чтобы выискать подходящего рабочего – члена партии.
Так был найден Адольф Геннеке, который вполне соответствовал поставленным требованиям. Ему теперь 43 года, уже более двадцати лет он работает в горной промышленности, состоит в партии и даже посещал партийную школу СЕПГ.
Но неожиданно возникла одна трудность: Адольф Геннеке отказался. Он боялся, что его товарищи по работе рассердятся на него, если он согласится на эту роль. Только после того, как ему было разъяснено политическое значение этого мероприятия, а также показаны открывающиеся возможности его собственной карьеры, он взял на себя эту задачу. 13 октября он поставил свой рекорд и мы, таким образом, стоим у истоков движения ударников.
Несколько дней спустя появилось письмо Центрального секретариата об Адольфе Геннеке во всех газетах советской зоны. В письме говорилось о его «подвиге, указывающем путь», о его «революционном успехе при выполнении плана, который является уничтожающим ответом на политику Маршалл–плана на Западе». Поскольку я знал, как всё это было практически сделано, мне стало невыносимо стыдно, когда я читал это письмо:
«Отсюда с полной ясностью вытекает, что твой подвиг является результатом проснувшейся в тебе революционной традиции немецкого рабочего движения, жившей в Карле Либкнехте, имя которого носит твоя шахта. Этот подвиг – результат социального сознания, ответственности и высшего чувства долга по отношению к твоей партии, твоему классу и нашему народу».
МАТЕРИАЛ О ТИТО В ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ
22 ноября 1948 года меня постигла неожиданная неприятность. В вестибюле главного здания Высшей партийной школы был вывешен новый номер стенгазеты. В ней я увидел статью под крупным заголовком «Югославия и товарищ Леонгард». Я подошел ближе и прочел следующие строки, подписанные Рудольфом Фриче:
«При участии преподавателей и курсантов в нашей школе были основательно продискутированы ошибки Коммунистической партии Югославии, была внесена ясность в недостаточно четкое или ложное отношение к этим вопросам и таким образом достигнут единый взгляд на проблему.
Основой нашей дискуссии послужила резолюция Информационного бюро, а также резолюция Центрального секретариата СЕПГ.
Можно было бы считать дело законченным, если бы при всех обсуждениях здесь в школе, не только мною лично, но и другими товарищами не было замечено отсутствие соответствующего заявления со стороны товарища Леонгарда.
Я вспоминаю один из докладов товарища Леонгарда, в котором он, на основании своего богатого опыта и хороших знаний, обрисовывал положение в Югославии. В убедительных выражениях он рисовал нам достижения югославского народа и Тито. Работу Коммунистической партии Югославии представлял он как некий шедевр. Югославия двигалась по пути к социализму впереди всех стран народной демократии. Но достаточно. Я перечисляю все это не затем, чтобы вытаскивать на свет давно позабытое. Однако для нас всех, в том числе и для товарища Леонгарда, было бы весьма ценным, если бы мы услышали из его уст ясное и недвусмысленное самокритическое мнение, отсутствие которого до сих пор мы так болезненно ощущаем».
Мне стало сразу ясно, что курсант Рудольф Фриче с факультета экономики написал эту статью не по собственному почину. Это был предупредительный «холостой» выстрел сверху. Тенденция его была совершенно ясна. Я должен был заняться самокритикой. Что мне было делать? Я неустанно об этом думал. Целыми днями эта проблема сверлила мой ум.
В конце концов я сочинил ответ, – лишь в несколько строк, – в котором я указывал, что югославская проблема слишком сложна, чтобы разбирать ее в краткой статье в стенгазете. Я готов, однако, говорить на эту тему перед интересующимися товарищами.
Я принес свою заметку одному из редакторов стенгазеты. Он быстро пробежал ее и сказал, окинув меня скептическим взглядом:
– Ты думаешь, что они этим удовлетворятся, товарищ Вольфганг?
Особое ударение на словечке «они» заставило меня насторожиться. Вскоре мы с редактором стенгазеты углубились в живое обсуждение и я заметил, что и он в югославском вопросе страдал «политическими коликами». Этот редактор был молодой коммунист из Западной Германии, носивший в Высшей партийной школе имя «Вундерлих». В действительности его имя было Герман Вебер[25]25
Герман Вебер через несколько лет после меня также порвал со сталинизмом и живет сейчас в Германской Федеративной Республике Оригинал стенгазеты с нападками на меня находится у него.
[Закрыть].
Статья в стенгазете показала мне, что против меня будут приняты новые меры, если я немедленно и решительно не выскажусь за резолюцию Коминформа. Но в этом вопросе для меня уже не было компромиссов и оправданий. И я начал готовить все для бегства в Югославию.
Через несколько дней, 29 ноября, в югославском посольстве в Западном Берлине был прием в честь национального праздника.
Я получил приглашение.
Принимая приглашение я подвергался немалому риску, так как следовало предполагать, что на приеме будут также советские представители, но я хотел показать югославам, что в конфликте между Коминформом и Югославией стою на их стороне.