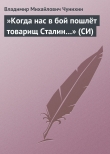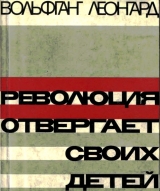
Текст книги "Революция отвергает своих детей"
Автор книги: Вольфганг Леонгард
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
На приеме присутствовали дипломаты всех не–советских стран и несколько советских представителей. Никто из гостей не подозревал, что среди них находился оппозиционный ответработник СЕПГ и преподаватель Высшей партийной школы имени Карла Маркса. Разумеется, я не выявлял себя ни малейшим намеком. Если у буфета или в небольших группах нельзя было избежать разговора, то я говорил по–английски, а с югославами по–русски.
Приблизительно в полночь дипломатический прием был окончен.
– Останься ненадолго, поговорим еще, – сказали мне.
Поскольку остались свои люди, настроение было прекрасное. Мы сидели небольшими группами. Вдруг один югослав встал и произнес несколько сердечных слов о революции и о предстоящей борьбе. Он с презрением говорил о коминформовской клевете и тут я впервые услыхал слова, которые мне так часто пришлось затем слышать в Югославии: «Истина мора победити» («правда должна победить!»).
Крупный югославский партработник подошел к моему столу:
– Товарищ Леонгард, мы слышали, что вы хотели бы перейти к нам. Мы, со своей стороны, ничего против этого не имеем. Мы были бы рады, если бы вы были с нами именно в это время. Но, пожалуйста, не рисуйте себе ложной картины – у нас в Югославии жить не легко и следующие месяцы, а может быть и годы, будет еще труднее. Не смотрите на существующее положение сквозь розовые очки. Перед нами большие трудности. Может быть, вы хотите еще раз всё продумать.
– Нет, мне не о чем думать. Я думал достаточно долго. Мое решение непоколебимо. Я стою на вашей стороне и хочу быть вместе с вами.
Он улыбнулся и пожал мне руку.
– Хорошо, мы согласны, и до свидания – в Югославии! После этого вечера 29 ноября мои мысли были целиком направлены только на Югославию. Но пока я еще находился в Высшей партшколе, я хотел сделать как можно больше для распространения моих убеждений.
Дискуссии о Югославии не прекращались. Все чаще приходили ко мне курсанты или берлинские ответработники.
– Скажи, Вольфганг, каково твое мнение? Ты ведь там был, что ты об этом думаешь?
К общему хору осуждения югославских коммунистов я присоединиться не мог, это было выше моих сил. С другой стороны я не мог высказывать своего мнения открыто. Таким образом я был принужден к двуличию, которое сталинизм неизбежно влечет за собой. «Правоверным» я давал уклончивые ответы; умеющим думать самостоятельно я намекал, что считаю резолюцию Коминформа ошибочной; оппозиционно настроенным я давал переводы югославских брошюр.
Успех не заставил себя долго ждать. Почти все указывали на один факт:
В Югославии опубликовали и то и другое – резолюцию Коминформа и югославский ответ, так что у каждого может создаться свое мнение самостоятельно. А у нас опубликовали только резолюцию Коминформа.
Поступок Югославии произвел сильное впечатление.
Иногда я встречал оппозиционные настроения там, где меньше всего этого ожидал. Однажды я гулял с одним ответственным работником, который был «вне всяких подозрений». С большими колебаниями я передал ему материал, для верности добавив, что это только для его личной информации, «потому что мы принадлежим к кругам, в которых такие вещи можно спокойно читать».
Через три дня мы снова встретились на территории Высшей партшколы. Он оглянулся по сторонам. Никого поблизости не было.
– Я не могу этого больше выдержать, – признался он с удивительной откровенностью. – Эта история с Югославией – просто подлость; но это не только политическая клевета, за этим скрывается что‑то другое. За этим стоит Сталин, этот полуграмотный варвар, который не может примириться с тем, что среди западно–европейских коммунистов другая компартия и другой вождь, Тито, вызывают большую симпатию. Если бы ты знал, как я ненавижу Сталина. Да – я ненавижу Сталина!
Он побледнел от гнева, а я от страха. Таких слов я еще никогда не слышал, да к тому же еще на территории Высшей партшколы. Он пришел в себя.
– Между нами? – он протянул мне руку.
– Между нами, – подтвердил я.
Этим утром я долго гулял один. Мне думалось о многом. Я вспомнил, что читал где‑то о том, что воинствующие атеисты зачастую выходили из иезуитских школ. Может быть, это сейчас повторялось? Может быть, Высшая партшкола имени Карла Маркса воспитала самых опасных еретиков[26]26
Это предположение через несколько лет подтвердилось. Когда я прибыл в ноябре 1950 года в Западную Германию, я нашел там многих, окончивших Высшую школу СЕПГ, которые после меня порвали со сталинизмом, – но остались социалистами.
[Закрыть].
Но ведущие партийные руководители твердо оставались верными «генеральной линии». В один из выходных дней я снова посетил – в последний раз – огороженный забором квартал вилл в Нидершёнгаузене, где проживали десять наиболее выдающихся руководителей СЕПГ. Я говорил за последние недели и месяцы так много с оппозиционерами, что даже в доме руководителя партии, портреты которого можно было так часто видеть на страницах «Нейес Дейчланд», мне было трудно сдерживаться.
Руководитель СЕПГ предложил мне коньяк и сигареты.
– Почему у тебя такой удрученный вид? Политические колики из‑за Югославии? – обратился он ко мне.
– Я читал некоторые из последних югославских брошюр и…
– Не читай слишком много таких вещей, – сказал он, улыбаясь, но я почувствовал, что он не шутит.
– В этих брошюрах ставится не только вопрос о том, была ли справедливой резолюция Коминформа или нет, но и некоторые кардинальные вопросы, которые нельзя так просто отбросить.
Мой собеседник посмотрел на меня спокойно и холодно.
– В политике бывают положения, в которых приходится защищать хорошее дело при помощи плохих аргументов и плохое при помощи хороших.
Я был снова потрясен тем, что многие руководители партии пытаются ничего не значащими фразами совершенно отмести очевидные противоречия, делая это как для других, так и, в первую очередь, вероятно, для самих себя. Осторожно сделал я еще один, последний, шаг.
– Мне кажется, что дело не в плохих или хороших аргументах, а в некоторых основных принципах марксизма. Югославы в своих брошюрах утверждают, что с появлением народно–демократических стран создалось новое положение. Эти страны находятся на пути к социализму и этим самым возникает вопрос отношения этих стран к Советскому Союзу. Югославы выставляют, по моему мнению, совершенно правильное марксистское требование, что между странами народной демократии и Советским Союзом должно быть полное равноправие и что не может быть ведущих и зависимых социалистических стран, – все государства должны быть равны.
Мой собеседник явно занервничал. Он махнул рукой:
– Погоди, Вольфганг, давай будем трезво исходить из фактов. Что значит равноправие? Видишь ли: борьба, происходящая в мире, в конце концов, большая шахматная игра.
Он нарисовал в воздухе шахматную доску:
– На этой доске есть только белые и черные. Два противника стоят один против другого. У каждого различные фигуры, разные по своему значению, которыми он распоряжается. Но двигать этими фигурами может только один, это можно делать только из центра, а этот центр может быть только в Москве или… может быть, ты хочешь поставить Белград на место Москвы? – спросил он иронически.
Я вспомнил Маркса и Энгельса, которые всегда высказывались против ведущей роли одной партии внутри Интернационала, Ленина, который даже после победы революции в России отклонил и осудил мысль о ведущей роли победоносной большевистской партии.
Мое молчание было воспринято моим собеседником иначе: он, вероятно, подумал, что его теория шахматной доски произвела на меня впечатление.
– Мы должны подходить к делу трезво. Ты ведь не со вчерашнего дня на партийной работе. Разве ты никогда не замечал одной особенности в названиях «СССР» и «Советский Союз»?
Я не сразу понял, куда он метит.
– В этих названиях отсутствует понятие «Россия». Это ведь не случайно. Этим создается возможность вступления в этот союз последующих социалистических государств. Неужели ты думаешь, что мы сможем существовать как самостоятельные государства, независимо от СССР, если страны народной демократии, а позже советская оккупационная зона, достигнут основ социализма? Мы должны смотреть на эти вещи реально. Здесь, между собой, мы можем об этом говорить откровенно.
Несмотря на то, что мы были в комнате одни, он невольно понизил голос.
– Вполне возможно, – я не говорю, что это необходимо, – что в какой‑то момент страны народной демократии войдут как новые республики в состав СССР. Конечно, сейчас еще рано об этом говорить и ты, пожалуйста, об этом не говори никому, – но ты должен об этом хотя бы знать. В этом все дело, а не в каких‑то дискуссиях о равноправии между социалистическими странами.
Этот разговор подтвердил, что мне в этой партии делать больше нечего. Я стремился не к новой советской республике, а к независимой равноправной социалистической Германии.
Противоречие между моей официальной деятельностью в Высшей партшколе СЕПГ и распространением титоистической литературы среди партработников не могло долгое время оставаться незамеченным. Я знал, что не смогу этим заниматься. Поэтому я спешно готовился к бегству.
Часто я размышлял, не выступить ли мне во время открытого собрания перед всей партшколой и не сказать ли правды о резолюции Коминформа, не доказать ли её лживость, не высказаться ли за независимый путь к социализму? Когда я думал об этом спокойно, то я понимал, насколько безумными были такие мысли.
Чего бы я достиг? Сразу же после первых фраз меня силой заставили бы замолчать и затем сослали бы в такие места, где я вообще ничего не смог бы сказать. «Революционный романтик», называл я самого себя. «Честно, но бесплодно». Поэтому мне показалось более рациональным остаться возможно дольше в Высшей партшколе, заставить размышлять все большее количество партийцев путем частных разговоров и, если я добьюсь их согласия, раздавать им материалы. Если бы это было вскрыто, то я еще мог попытаться бежать в Югославию. Такое бегство в Югославию должно было бы заставить размышлять еще большее количество партийных товарищей – ведь я был единственным ответработником СЕПГ, бывшим с официальным визитом в Югославии после 1945 года.
Наступил февраль 1949 года. СЕПГ все больше приспосабливалась к своему «советскому образцу». На 1–й партийной конференции от 25 до 28 января 1949 года было ликвидировано равенство между бывшими членами социал–демократической и коммунистической партий, в пользу, прежде всего, тех членов коммунистической партии, которые были в московской эмиграции. Центральный секретариат СЕПГ был распущен. Вместо него было создано Политбюро, состоявшее из шести бывших членов компартии и трех бывших социал–демократов. Для проведения текущей работы был создан «малый секретариат» под председательством Ульбрихта. За ним последовала Центральная контрольная комиссия под председательством Германа Матерна. Все это происходило под лозунгом превращения в «партию нового типа» – но это было не что иное, как выравнивание СЕПГ по сталинской партии Советского Союза. Компартии Западной Европы ожидала та же участь. Руководители партий получили в конце февраля распоряжение открыто заявить, что коммунистические партии, в случае военного конфликта, будут поддерживать советские войска. 2 марта 1949 года соответствующее заявление было сделано также Политбюро СЕПГ. Этим шагом уничтожалась последняя видимость независимости. Партия открыто признала себя вспомогательным отрядом Советской армии.
Это было последнее заявление СЕПГ, которое застало меня в советской зоне Германии.
Через несколько дней в мою квартиру в Высшей партшколе зашел один ответработник.
Он немного замялся.
– Я хотел бы с тобой поговорить наедине.
– Политические колики?
– Да, причем серьезные.
– Останется между нами. В чем дело?
Полчаса мы говорили осторожными намеками. Потом он неожиданно сказал:
– Знаешь, у меня такое чувство, что не все правда, что говорят о Югославии.
Я радостно протянул ему руку.
– Твое чувство тебя не обманывает. Я уверен, что югославы правы.
Он посмотрел на меня с удивлением. Этого он не ожидал.
Я открыл ящик, который всегда держал запертым и выложил на стол целую стопку югославских брошюр на немецком языке.
– Дай мне это почитать, – сказал он почти лихорадочно. – Я до сих пор ничего не получал. Я ждал как раз этого.
– Не спеши, не спеши, – должен был я сдерживать моего нового единомышленника, – вот тебе сначала югославский ответ на резолюцию Коминформа и речь Тито на V съезде партии. Когда прочтешь, принеси назад, после этого получишь другие материалы. Но будь осторожен!
Он пообещал быть осторожным, спрятал материалы во внутренний карман и ушел.
Я озабоченно смотрел ему вслед. У него был правильный политический инстинкт. Но был ли у него, кроме того, опыт, чтобы скрыть свои чувства? Несмотря на то, что он был сравнительно крупным ответработником, он был на несколько лет моложе меня и не имел той строгой выучки.
На следующий день, рано утром, он снова появился. Он был полон воодушевления.
– Наконец‑то я нашел товарища, с которым могу говорить откровенно!
И он засыпал меня оппозиционными мыслями. Теперь мои опасения увеличились. Его честность была вне подозрений, но его темперамент мог оказаться для нас роковым.
Через три дня я со страхом увидел его в столовой Высшей партшколы окруженным целой группой внимательно слушающих ответработников. Среди них были «стопроцентные», – но он продолжал говорить.
Я ушел. Позже я узнал, что во время этого обеда начали развиваться события. Действительно, в столовой Высшей партшколы он говорил открыто о Югославии и о резолюции Коминформа и отвечал на все заданные ему вопросы, среди которых, конечно, были и провокационные; он был знаком с материалами и защищал правое дело. Затем, в пылу спора, нарушая все правила конспирации, он призвал меня в свидетели.
– Вольфганг Леонгард сказал еще, что… – Он в тот же момент спохватился, но уже было поздно. Слова были произнесены.
ПОСЛЕДНЯЯ САМОКРИТИКА
На следующий день я пошел, ничего не подозревая, на один из моих обычных семинаров.
– Тебя вызывает, немедленно, Рудольф Линдау, – сказали мне.
Линдау стоял в дверях директорского кабинета. Холодно и озлобленно, не подавая мне, как обычно, руки, он вымолвил:
– Я хочу переговорить с тобой после семинара.
Никогда мне не было так трудно проводить семинар. Я все время посматривал на часы. Наконец эти три часа прошли.
Я пошел к Линдау. Ни слова не говоря, он повел меня в директорский кабинет. Там сидело пять крупных партийных деятелей. Перед ними лежали карандаши и бумага.
Картина была такой же, как в школе Коминтерна в 1942 году. Теперь, весной 1949 года, я снова стоял перед этими холодными партаппаратчиками и снова мне предстояла «критика и самокритика».
Спокойно я смотрел на сидящих передо мной партийцев. Конечно, особенно приятно мне не было, но они не производили теперь на меня прежнего впечатления. «Они никакие не коммунисты, – думал я, – настоящие коммунисты это те, кто борется против подчинения Советскому Союзу, против нечеловеческих методов слежки».
Допрос начался.
Кроме Рудольфа Линдау, директора партшколы, я знал только одного из присутствующих. Я не верил своим глазам: передо мной сидел Герберт Геншке, учившийся вместе со мной в школе Коминтерна. Тогда он был одним из самых слабых курсантов и Пауль Вандель («Класснер») поручил мне помочь ему в подготовке к экзамену.
Началось то же самое, что мне пришлось пережить шесть с половиной лет тому назад в школе Коминтерна – долгое, действующее на нервы ожидание, затем политическое введение, в котором указывалось на всеобщее положение, на необходимость верности партии и Советскому Союзу, на необходимость борьбы против отступлений и искажений. Но то, что меня когда‑то потрясло до глубины души, не произвело на меня теперь никакого впечатления. Тогда я был еще полностью предан партии.
Теперь все было иначе. Внутренне я порвал с партией. Вся гнетущая обстановка не производила на меня ни малейшего впечатления. Во время всей этой процедуры я спокойно думал: тезис об особом пути к социализму обоснован учением Маркса, Энгельса, Ленина. Югославские коммунисты, идущие по пути, основанному на этих принципах, правы. Те, кто осуждают югославских коммунистов, отошли от основ марксистско–ленинского учения. Тезис о равноправии коммунистических партий в коммунистическом рабочем движении согласован с учением Маркса, Энгельса и Ленина. Те, кто на его место поставили тезис о «ведущей роли» Советского Союза, не стоят на основах марксистского учения.
Между тем Рудольф Линдау окончил свое введение. По этой же схеме говорили еще двое других. Но узы были разорваны, то, что на меня годами влияло, связывало меня, было преодолено.
Только когда начал говорить третий и когда должен был, собственно говоря, начаться допрос, я стал осознавать всю тяжесть моего положения. Дискутировать с этими аппаратчиками не имело ни малейшего смысла. Они не были борцами рабочего класса, несмотря на то, что постоянно объявляли себя таковыми. Теперь оставалось одно: выиграть время, чтобы попасть в Югославию! Значит нужно было применить тактику. Они меня этой тактике обучали. Теперь я использую ее против них самих. Я решил сознаться в некоторых «ошибках» и представиться сомневающимся. Только таким образом я мог достичь того, чтобы против меня не были сразу приняты меры, а чтобы было назначено второе заседание. Выиграть время! Может быть, бегство в Югославию все же удастся.
– Я думаю, что теперь мы можем приступить непосредственно к вопросу, как к таковому.
Это был голос Линдау.
Это было в Клейн–Махнове около Берлина, весной 1949 года, но это был тот же голос и тот же тон, как и осенью 1942 года в Кушнаренкове, в далекой Башкирии; голоса сталинских партаппаратчиков всюду одинаковы.
На меня посыпались вопросы.
– Правда ли, что давал товарищам на прочтение враждебные партии югославские материалы?
– Да.
Все опустили головы. Во время короткой паузы после моего ответа все пятеро делали пометки.
– Правда ли, что во время разговора с одним из курсантов Высшей партшколы, ты говорил о двух типах партийных работников – о тех, кто боролся в стране нелегально и о тех, кто по указанию партии находились в СССР?
– Да, но я этим…
– У тебя будет еще время объяснить все подробно, пока ты обязан отвечать только «да» или «нет».
– Верно ли, что ты называл примерными партийцами тех, кто в это время боролся внутри самой страны и утверждал, что они борцы за самостоятельную политику? Называл ли ты в связи с этим следующие имена: Тито, Гомулка, Маркос, Мао Цзэ–дун …
– Мао Цзэ–дуна тоже? – с испугом спросил Герберт Геншке, для которого я, очевидно, все еще представлял политический авторитет.
Он покраснел под строгим взглядом старшего аппаратчика.
– Верно ли, что ты в присутствии другого курсанта выражал сомнение в оправданности существования Советских акционерных обществ в советской зоне Германии и советских политических советников в странах народной демократии?
– Да, – ответил я, сознавая, что все равно тут ничего не изменишь.
Но последние вопросы меня очень испугали. Об этом я говорил не с моим чересчур темпераментным другом. Это я сказал двум другим курсантам. Значит, они донесли.
– Верно ли, что ты дал курсантам выдержку из вражеского писания Кёстлера?
– Да, но я не говорил, что разделяю взгляды Кёстлера.
– Мы этого не спрашивали. Достаточно, что ты давал его читать.
– Высказывался ли ты в разговоре с курсантами за то, чтобы напечатать вражеские материалы югославских троцкистов и националистов в партийной прессе и вынести их на обсуждение?
– Да.
«Надо выиграть время, надо выиграть время!» – это было единственное, о чем я в данный момент думал.
Допрос окончился. Теперь должна была наступить «оценка» и анализ. Представитель отдела кадров взял слово:
– Товарищ Леонгард, излишне говорить о том, что всё это вещи чрезвычайно серьезного порядка.
Его тон был угрожающим, но у меня как будто камень с сердца свалился. Он продолжал называть меня «товарищем»! Значит, немедленных оргвыводов еще не будет. Вероятно, мне дадут возможность оправдать доверие.
– То обстоятельство, что ты один из товарищей, выросших в Советском Союзе, еще увеличивает твою вину. Вопрос о твоем поведении и о враждебных партии высказываниях будет еще обсуждаться. Но сегодня партия нуждается в каждом своем члене. Поэтому, несмотря на всю тяжесть твоей вины, партия даст тебе возможность – учитывая твою предыдущую работу – исправить свои тяжкие ошибки усиленным трудом. Однако ты не должен создавать себе ложной картины, – твои высказывания являются тяжелым злоупотреблением доверия партии.
После этого аппаратчик сделал паузу и серьезно, качая головой, посмотрел на меня. Для него было, очевидно, трудно понять мой «случай». До сих пор среди отклонявшихся от генеральной линии он встречал только бывших социал–демократов и старых членов партии.
– Скажи, товарищ Леонгард, как это могло произойти после пройденного тобой пути? Как могло случиться, что югославский вопрос настолько ввел тебя в заблуждение?
«Внимание, – думал я, – только внимание!» Глаза всех были устремлены на меня.
– Дело в том… В конце концов, не каждый день случается, что какая‑нибудь коммунистическая партия вступает в конфликт с Советским Союзом и с Информационным бюро коммунистических партий. Это вопросы серьезные, их надо обдумать. Разве так удивительно, что я об этом размышлял?
Один из аппаратчиков, молчавший до этих пор, прервал меня:
– Ты скажи коротко и ясно: каково твое отношение к резолюции Информационного бюро коммунистических партий и к резолюции нашей партии по поводу Югославии? Или, может быть, ты стоишь за предательское белградское руководство?
С какой бы охотой я рассказал им о том, что я прочел и о чем размышлял за эти месяцы с 1948 года, о том, к каким выводам я пришел. Но я сдержался:
– Мне еще неясны некоторые вещи и поэтому я бы хотел иметь возможность дискутировать по этому поводу. Этот случай кажется мне настолько серьезным, что я считал бы необходимым разобрать дело более основательно.
– Как это ты себе представляешь – разобрать более основательно? – спросил другой, который еще не мог разобраться в партийце, обученном в СССР и теперь ставшем еретиком.
– Я могу понять, что при настоящем положении партии было бы, вероятно, безответственным, опубликовать материалы обеих сторон. Может быть даже здесь, в Высшей партшколе, перед курсантами, нельзя поставить проблему на дискуссию в таком виде. Но разве не было бы возможным, хотя бы для преподавательского состава школы, изучить и серьезно продискутировать материалы? В конце концов, это вопрос идеологический, политический и, частично, даже теоретический.
Первый аппаратчик меня перебил:
– Товарищ Леонгард, ты ошибаешься, югославский вопрос не теоретический, а административный вопрос, – сказал он тоном, не терпящим возражений.
«Административный» – это слово было мне знакомо. Под это понятие попадали аресты 1936–1938 годов. Намек был достаточно ясным. Я зашел уже настолько далеко, что при теперешних обстоятельствах дальше идти было некуда. Еще один намек и я после допроса буду лишен свободы.
– Давайте заканчивать! Тебе известно, товарищ Леонгард, что все вопросы, касающиеся личных и политических вопросов преподавательского состава Высшей партийной школы решаются прямо и непосредственно Политбюро партии. Еще в большей мере это относится к твоему случаю, Отчет о твоих антипартийных высказываниях и о сегодняшнем заседании будет передан в Политбюро. Там и будет принято через несколько дней решение по твоему делу.
МОЕ БЕГСТВО В ЮГОСЛАВИЮ
Он сказал: «Через несколько дней…» Значит, у меня было еще время. Комиссия вышла. Я остался один. Медленно пошел я от центрального преподавательского здания в свою квартиру, которая находилась как раз напротив всегда охраняемого входа. Не исключена возможность, что я уже сейчас был под наблюдением. Поэтому я решил не делать ничего, что вызвало бы еще больше подозрений. Дома я взял самый маленький портфель, такой, какой был почти у каждого преподавателя, шедшего на семинар.
Я в последний раз осмотрел комнату. В ней находились еще некоторые важные вещи, некоторые записи из времен «группы Ульбрихта», приблизительно двадцатистраничный протокол заседания с маршалом Жуковым, письма партийцам и от партийцев, но которые нельзя было употребить как обвинительный материал. Брать с собой нельзя было ничего. Может быть, меня при выходе из Высшей партшколы обыщут. Если бы нашли при мне эти вещи, то я пропал бы. Сжечь я ничего не мог. Я оставил материал так, как он лежал, надел пальто и направился к выходу.
По дороге я встретил шофера, который всегда возил меня в город. Он еще ничего не знал. Для него я был еще важной персоной.
– Товарищ Леонгард, я должен как раз ехать в «Дом Единства». Подвезти?
– Хорошо, – ответил я равнодушно.
Так мое бегство началось в автомашине Высшей партшколы.
У ворот мы остановились. Дежурный увидел меня и сразу пропустил машину. Значит еще ничего не сообщили.
Машина подвезла меня к станции городской железной дороги Дюппельн, которая была как раз на границе между советской зоной и западными секторами Берлина.
– Я сойду здесь, – сказал я.
– До свидания, товарищ Леонгард!
– До свидания.
Только через несколько лет, от бывшего курсанта Высшей партшколы, который порвал со сталинизмом после меня, я узнал, что эта моя поездка на машине была признана особо коварной. На собрании Высшей партшколы после моего бегства было сказано:
– То, что этот агент выехал отсюда на машине Высшей партшколы, превосходит всё по своему нахальству.
Машина отъехала. Я поехал поездом в мою вторую квартиру в Панкове, тепло оделся, захватил в небольшой портфель самое необходимое, рассказал партработникам, с которыми вместе жил, что уезжаю в спецкомандировку и буду отсутствовать несколько недель.
Так я начал давно подготовленный побег из Берлина–Панкова в Белград.
Сначала я пошел в телефонную будку. У меня было три телефонных разговора.
– Сегодня вечером я закончу мои статьи, – сказал я в разговоре с моей матерью.
Это было условным знаком, чтобы сообщить о дате бегства. То же самое я сказал моей подруге Ильзе, которая со своей стороны закончила все приготовления, чтобы сразу после меня бежать в Югославию другим путем.
После этого состоялся третий разговор с паролем, означавшим начало моего побега.
Было пять часов вечера.
Через четверть часа после этого на условленном месте остановилась автомашина.
– Готов?
– Готов!
– Хорошо.
Сейчас было четверть шестого. Через пять с половиной часов, без четверти одиннадцать, я находился всего в нескольких километрах от границы. Это была граница между советской оккупационной зоной Германии и Чехословакией.
– Здесь, – сказал мой спутник.
Мы остановились в маленьком ресторанчике. Он подвел меня к столу, за которым сидело двое мужчин. Мы поздоровались и произнесли несколько ничего не значащих фраз.
– Я думаю, можно двигаться, – сказал один из них, после того, как мы расплатились в ресторане.
Последние приготовления были сделаны в небольшом домике. Пачка денег исчезла в кармане человека, который должен был провести меня через границу. Он не имел ни малейшего понятия, кто я такой; это его и не интересовало. Он должен был только перевести меня через границу и вернуться назад, чтобы получить еще большую сумму, которая для него была приготовлена.
Он посмотрел на меня с интересом и остался доволен, увидев, что на мне высокие сапоги и что я был хорошо подготовлен к такому походу.
– Вы как, выносливый?
– Да, мне не привыкать …
– Ну да, вы еще молоды! Тогда – вперед! Автомашина с моим спутником исчезла из вида. Теперь я всецело зависел от ведущего меня нелегально через границу проводника. Высшую партшколу я покинул семь часов тому назад. Как только мое исчезновение будет замечено, меня начнут искать в Панкове у партработников, с которыми я жил в одной квартире, рассчитывал я. Они сообщат то, что я им сказал: что я нахожусь в «спецкомандировке». Пока наведут справки в различных партийных учреждениях, пройдет несколько дней. Спецкомандировки, к счастью, были обставлены большой таинственностью. Значит, у меня был некоторый выигрыш во времени.
– Надо идти побыстрее, – прошептал мой проводник. До границы было еще четыре километра, но надо было
быть очень осторожным.
Через час мы были рядом с границей. Мы больше не говорили ни слова. Время от времени мой проводник посматривал на часы. Был час ночи. Надо было до рассвета дойти «туда». Вдруг мой проводник схватил меня за руку. Мы бросились на землю. Перед нами протекал маленький ручей. Это была граница.
– Чехословакия, – шепнул он мне, показывая на другую сторону ручья.
На цыпочках, как можно тише, перешли мы вброд через ручей. Вдруг проводник насторожился и подал мне знак. Мы бросились в снег.
Теперь я тоже услышал голоса. Они, как будто, приближались. Прошли одна или две тяжких минуты. Наверное, это были пограничники. Они говорили по–немецки. Что делать? Я думал все время об одном: что я скажу, если меня задержат? Говорить ли, что я преподаватель Высшей партшколы СЕПГ? Как я объясню, что я делаю ночью с субботы на воскресенье на границе между зоной и Чехословакией?
Вдруг я со страхом увидел, что мой проводник встает. Теперь конец, подумал я. Но он успокаивающе кивнул мне:
– Не бойтесь, это такие же, как и мы, идущие через границу. Я их знаю. – С этими словами он подошел к группе, я за ним. Они молча протянули мне руки. Они шли из Чехословакии с контрабандой. Один из них предложил сигареты.
У меня только хватило времени подумать, не начнут же они курить в пяти метрах от границы, как один из них уже протягивал огонь, чтобы прикурить.
Тщетно пытался я увести моего проводника.
– Ничего! В эти часы как раз на этом участке спокойно.
Другие, – очевидно также опытные контрабандисты, – закивали, подтверждая его слова. Меня это ни в коей мере не успокоило. Если попадусь я, то меня ожидает худшая участь, чем контрабандистов.
Между тем они говорили о том, где можно в Чехословакии дешевле всего купить товар и где его выгоднее всего сбыть в зоне.
Перекур тянулся без конца. Я все время пытался увести моего проводника, но он был упрям, как настоящий контрабандист.
Вначале они шептались, теперь говорили в полный голос. А я судорожно думал, куда бежать, если откуда‑нибудь начнет подходить к нам пограничный патруль.
Наконец наступил конец этим мучительным минутам.
– Счастливого пути, – пожелали мы друг другу на прощанье.
– Скорей! – подгонял теперь меня проводник, – нам еще два часа надо идти, пока дойдем до дома, где нас ждут мои друзья.
Было три часа ночи. Холодный ветер дул в лицо. Мы шли теперь, не сгибаясь.
– Теперь уже не так опасно. Здесь не надо идти так осторожно, в это время чешские пограничники не усердствуют, – успокаивал меня проводник.