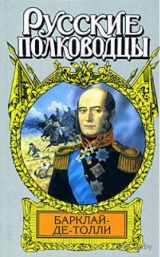
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц)
Начинать обучение стрельбе Кутузов советовал из наиболее легкого положения – с колена, после чего можно было переходить и к обучению стрельбе стоя в рост.
И первоначальная дистанция тоже должна была учитывать неопытность вчерашних рекрутов: не более ста шагов. Потом дистанция все возрастала, и в конце обучения егеря должны были поражать цель уже с трехсот шагов. Далее Кутузов рассказывал, как следует господам офицерам учить своих людей стрельбе, что при том говорить и как на деле все толково объяснять и показывать.
И видно было, что генерал десятки, а то и сотни раз учил и рядовых и унтеров точной стрельбе, в которой, несомненно, и сам был большой мастак.
Дальше генерал писал, как следует обучать егерей действиям в строю, как следует маршировать повзводно, поротно, побатальонно, по рядам и в густой колонне.
Но более всего наставлял Кутузов солдат и офицеров тому, что следует предпринимать, когда невозможно применить конницу, а пехота, хотя бы и гвардейская, будет занята боем по фронту. Тогда-то егеря и должны показать себя во всей красе: они должны решительно занимать дефиле – узкие проходы в горах, лесах и болотах; захватывать мосты и плотины, броды и дороги; выбивать неприятеля из любой позиции и, заняв любую позицию, непременно ее удерживать. Они должны были первыми атаковать и до конца защищать деревни и кладбища, мельницы и усадьбы, рвы и валы, высоты и впадины. Они же заслоняли своим огнем и пехоту, и кавалерию, и артиллерию, и пионеров, когда были те на марше, перестраивали фронт или же шли по трудной местности.
Рефлекц этот стал настольной книгой для егерей их корпуса, а для Барклая волею судьбы превратился в Катехизис, потому что ему пришлось командовать егерями почти до конца жизни, лишь на время оставляя этот вид войска и переходя в пехоту или кавалерию.
А в Финляндском егерском корпусе прослужил он два года, перейдя под начало еще одного весьма незаурядного человека – принца Виктора Амадея Ангальт-Бернбург-Шаумбургского, доводившегося графу Фридриху двоюродным братом…
Принц имел звание генерал-поручика русской армии, вступив в нее еще в 1772 году. Он был на двенадцать лет младше своего кузена, и его увлеченность военной службой являлась абсолютной: принц посвятил ей свою жизнь всецело, не занимаясь ничем более. Граф Фридрих по-прежнему делил свои дни между двумя корпусами – кадетским и егерским, и Барклай и знал и чувствовал это лучше других. Жизненная позиция принца Ангальта импонировала ему гораздо более, так как и сам Барклай не знал ничего, кроме военной службы, и в этом отношении был полным единомышленником Виктора Амадея.
Кроме того, Барклая привлекала в принце возвышенная простота, впрочем, как он отмечал, присущая и графу Фридриху. Только это качество проявлялось в Викторе Амадее еще более ярко. Он, владетельный принц, стоящий на самом верху аристократической лестницы, хотя и небольшой, но монарх, вел себя скромнее подчиненных ему офицеров, не имеющих никаких титулов. Без какой бы то ни было рисовки не сгибался он под пулями и ядрами, еще будучи офицером, никогда не уклонялся от опасных боевых дежурств, а кроме того, всегда оставался необычайно деликатным и добрым, вместе с тем никогда не отступая от своих принципов.
И когда незадолго до нового, 1788 года принц с присущей ему откровенностью спросил Барклая, не хочет ли он перейти к нему на службу, Михаил, уже и сам подумывавший об этом, столь же откровенно ответил принцу согласием. Кузены быстро договорились, граф Фридрих отпустил Барклая на новую службу, и 13 января 1788 года, ровно через месяц после того, как исполнилось ему двадцать шесть лет, получил он назначение старшим адъютантом к генерал-поручику Виктору Ангальту. Одновременно было присвоено Барклаю звание капитана.
Глава пятаяОсада Очакова
Ангальт служил в Петербурге, носил генеральское звание, но пребывал в резерве, ибо генералов в России всегда было больше, чем дивизий и даже полков, а полковников – всегда больше, чем батальонов.
Вместе с тем по штату Ангальту полагался старший адъютант, и Барклай занял эту вакансию в надежде на то, что в скором будущем его начальник будет восстановлен как боевой командир. И вскоре чаяние это исполнилось.
Летом внезапно началась война со Швецией, которая, будучи издавна вечной недоброжелательницей своей могучей юго-восточной соседки, вот уже более двух веков находилась почти беспрерывно в состоянии готовности, как и Турция, в любой момент схватиться за оружие.
Эти страны представляли собою два постоянно существовавших фланга в исторических битвах, которые вела Россия. И потому ее армия, пребывая в непрерывном напряжении, качалась, как вечный маятник, между Свеей и османами.
О Турции уже говорилось, а Швеция в XVIII веке провела две несчастливые для себя войны, потеряв Прибалтику, Карелию, Ингерманландию и Восточную Финляндию[26]26
Имеются в виду русско-шведская война 1741–1743 гг., которая закончилась Абоским миром, и война 1788–1790 гг., завершившаяся Верельским миром.
[Закрыть].
Да и сам Санкт-Петербург и его военно-морской редут Кронштадт возникли в результате этого бранного соперничества.
И теперь, летом 1788 года, полагая, что русские по горло увязли на Дунае и в Бессарабии, шведский король Густав III, как и все прочие монархи Северной Европы, бывший в родстве с Екатериной II, забыв об узах крови, вознамерился отобрать у кузины то, что оставили ей в наследство Петр I и его дочь – Елизавета Петровна, отнявшие у Швеции больше городов и земель, чем в его королевстве осталось.
Война еще не была объявлена, а уже паруса шведских линейных кораблей и фрегатов забелели возле Кронштадта и Петергофа. О серьезности намерений врага говорило хотя бы то, что флот шел под флагом герцога Зюндерманландского – родного брата короля.
На первых порах все обошлось одной демонстрацией морской мощи, однако же настолько внушительной, что залпы шведских кораблей были слышны во всех домах Петербурга.
Екатерина устыдила трусов, помышлявших бежать из города, и призвала петербуржцев к мобилизации. Повсюду поспешно собирали, экипировали и муштровали молодых и старых кучеров, лакеев и ремесленников. На каждой почтовой станции между Петербургом и Москвой стояло до пятисот лошадей для скорой доставки рекрутов. К границам Швеции была выдвинута гвардия, а из Кронштадта вышла эскадра адмирала Грейга, состоявшая из семнадцати линейных кораблей и восьми фрегатов.
И все же войск было мало – навстречу шведам ушло немногим более шести тысяч человек, столько же войск было и в Финляндии.
В июле сам Густав встал во главе сорокатысячной армии и пошел к приграничным русским крепостям, отстоявшим от Петербурга на расстояние от 80 до 180 верст. Отправляясь в поход, король похвалился перед дамами своего двора, что он скоро отслужит благодарственный победный молебен в Петропавловском соборе, а бал в честь взятия русской столицы даст во дворце Петергофа.
То, что произошло вскоре, вполне соответствовало русской поговорке: «Не хвались в Москву, а хвались из Москвы» – его флот был разбит Грейгом у острова Гогланд уже 6 июля, а сухопутные войска начали терпеть одно поражение за другим. Бахвальство короля не соответствовало его военным способностям, да к тому же и армия Густава III отнюдь не напоминала бравых драбантов Карла XII.
Как только в Петербурге началась мобилизация, принц Виктор загорелся ратным духом и немедленно поехал в Военную коллегию с заявлением о своей совершеннейшей готовности отправиться на войну. Конечно, и Барклай почувствовал себя как горячий кавалерийский конь, услышавший сигнал боевой трубы.
Принцу пообещали тут же рассмотреть его просьбу, но почему-то дело приостановилось.
Ангальт съездил по начальству еще раз, а более не поехал – не позволяла ни субординация, ни этикет.
Принц оказался не единственным генералом, предложившим свои услуги Отечеству. Днем раньше не в Военную коллегию, а прямо к самой государыне прибыл как снег на голову любезный его кузен, тоже воспылавший ратным духом и готовый ради грядущих подвигов оставить любимый Кадетский корпус. В отличие от принца, граф Фридрих не просто попросил у государыни место в строю, для чего довольно было бы соизволения Военной коллегии, но предложил себя в главнокомандующие, требуя одновременно и следующий чин – генерал-аншефа.
Государыня от такой дерзости стала в столб, а когда пришла в себя, тут же во всем графу отказала и выслала его вон. Тотчас же велела она досконально дознаться, кто подбил старого дурня на столь наглый поступок, но оказалось, что всему виной был сам граф и его великая наивность.
В тот же день был он с поста командира Егерского корпуса отставлен, оставшись лишь при кадетах. А еще через день – 23 июня – назначила государыня главнокомандующим в Финляндию вице-президента Военной коллегии, генерал-аншефа графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина.
Узнав обо всем произошедшем, принц возблагодарил судьбу, что догадался явиться с просьбой о посылке в Финляндию не к государыне – о чем, положа руку на сердце, подумывал, – а в Военную коллегию, как то воинским регламентом и было предписано.
Должно быть, несчастливый визит кузена к государыне поохладил пыл начальства и к собственной персоне принца – принципалы замолкли.
Желая помочь принцу, к которому Барклай уже крепко прикипел душой, он осторожно расспросил о возможной причине столь странного в военное время промедления старого ведуна Паткуля. Швед вздохнул, поморгал и, отведя глаза в сторону, будто стесняясь, ответил Барклаю таким тоном, словно разговаривал с ребенком:
– Причина самая обычная, более всех прочих распространенная, – козни и каверзы, называемые по-французски «интрига».
– Да в чем же могут состоять происки недоброжелателей против столь благородного человека? – воскликнул Барклай.
– А вот ты и сам себе ответил, – печально улыбнулся Паткуль, впервые называя Михаила на «ты». – Принц действительно благороден, и потому завистников у него – пруд пруди. И менее всего хотят они, чтоб отличился он в бою, тем более что бой-то – вот он, чуть ли не на Фонтанке, совсем рядом с государыней, – что ни сделай, тотчас же все во всем Петербурге будет известно.
– Ну хорошо, – недоуменно проговорил Барклай, – а что же Мусин-Пушкин?
– А вот ему-то принц и вовсе не надобен: если брать его под свое начало, то не окажется ли он вскоре на его месте, а значит, Валентин Платонович при таком соседстве себя в безопасности чувствовать не будет. Другое дело, если бы попросился принц к Румянцеву или Потемкину – с ними принцу не тягаться, им он не соперник.
В тот же день Барклай все рассказал Ангальту. Он счел самым подходящим разговор предельно откровенный и по-мужски прямой. И оказалось, что Барклай не ошибся: принц и сам был человеком искренним и открытым и потому без всякой аффектации выслушал своего адъютанта, а в конце беседы обнял его и сказал, что теперь-то уж непременно уедет хоть на край света, лишь бы не жить с пакостниками и карьеристами в одном городе.
Тем же вечером Михаил поведал обо всем и Вермелейну, который конечно же одобрил его решение пойти вместе с принцем на войну и тут же стал вспоминать о минувшей кампании, вновь перебирая старые эпизоды под Рябой Могилой и на Ларге, перечисляя имена незабвенных своих комбатантов по Новотроицкому полку.
А уже через неделю мчались они в легкой бричке на юг – к Очакову, где с весны стояла Екатеринославская армия генерал-фельдмаршала, Светлейшего князя Потемкина-Таврического.
Теперь же следует сказать о южной российской недоброжелательнице, еще более древней, чем Швеция, – об османской Турции, воевавшей с Россией с перерывами более трех веков.
Только в нынешнем веке была эта русско-турецкая война четвертой, а за годы правления императрицы Екатерины – уже второй.
Началась война из-за того, что произошло тринадцать лет назад. Тогда Россия, в очередной раз одержав над Турцией победу, вышла на Черное море, захватив три важнейших порта: Кинбурн, бывший к тому же и крепостью, запиравшей вход в днепровское устье, а также порты Керчь и Еникале – в Крыму.
Возможно, что если бы русские этим ограничились и не претендовали на большее, турки не стали бы браться за оружие, но через девять лет после подписания мирного договора Россия приняла под свое покровительство Восточную Грузию и тогда же полностью присоединила к себе Крым.
Героем и главным действующим лицом последней картины грандиозного исторического спектакля был Григорий Александрович Потемкин. Он не только присоединил к России колоссальные территории Северного Причерноморья, названные Новороссией, но и воздвиг там новые города – Екатеринослав, Николаев, Херсон и Одессу. В покоренном Крыму был тогда же заложен еще один город, названный Севастополем, что по-гречески означало – «город Славы», или «Величественный город».
За три года, прошедших после присоединения Новороссии и Крыма, на этих землях возникло множество сел, были построены мануфактуры и фабрики, кораблестроительные верфи и арсеналы, заложен Черноморский флот, распаханы тысячи десятин земли, преобразовав недавние дикие степи и незаселенные морские берега в изобильный и цветущий край. А то, что здесь прочно встала большая и сильная армия, превратило весь этот весьма опасный для Турции процесс в грозную и необратимую реальность.
Забыв старые распри, Англия, Голландия и Пруссия объединились в своих устремлениях помочь Турции, подстрекая султана к новой войне с Россией.
30 мая следующего, 1788 года, когда шведский флот уже поднял паруса, через неделю после отъезда Светлейшего из Елисаветграда к Очакову, следом за Потемкиным двинулся и армейский обоз, а всякий знает: куда пойдет обоз, там и будет генеральное сражение.
И обоз – этот сказочный, тысячеголовый зверь – покатился тоже к Очакову.
Об армейском обозе следует сказать особо, ибо он представлял собою не простое скопище телег и повозок, экипажей и бричек, двуколок и карет. Справедливо названный предками «градом, некоею премудростию на колесницах устроенным и к бранному ополчению весьма угодным», он тащил тяжелые наплавные мосты-понтоны и столь же тяжелую осадную артиллерию, тысячи телег, на которых в мешках, ящиках, бочках, корзинах и просто насыпью и навалом везли фураж – овес, сечку и сено; муку и крупу, сухари и солонину; шанцевый инструмент – лопаты, заступы и кирки; оружие – холодное и огнестрельное всевозможных видов, ядра и бомбы, порох и селитру, лекарские снадобья и питьевую воду. Здесь же шли повозки с амуницией и сбруей для кавалерийских и обозных лошадей, с палатками для господ офицеров, катились кашеварные котлы и лазаретные фуры, походные кузни, телеги с пустыми запасными бочками и совсем пустые повозки, чтобы подбирать уставших и заболевших. И вместе с обозом ехали тысячи людей – и необходимых армии, и откровенных захребетников, втуне едящих хлеб свой. Нужными людьми были кашевары и хлебопеки, лекари и обозные солдаты, коноводы и скорняки, оружейники и кузнецы, большинство из которых и званий никаких не имело, ибо в полковых списках они не числились, а Именовались одним словом – «унтер-штаб».
И хотя был здесь и свой генерал-вагенмейстер, которому подчинялся весь обоз, а при нем состояли даже и обер-офицеры, но и на них распространялось это понятие – «унтер-штаб», и по неписаной традиции, как и военные чиновники, считались они скорее штатскими, прикомандированными к армии, чем офицерами. И когда о каком-нибудь поручике или даже майоре приходилось слышать: «Он-де во время баталии в обозе обретался», то более уничижительного отзыва нельзя было и придумать.
Да и как было не грешить на обозных, когда и кусок у них был пожирнее, и служба полегче, а кроме того, окончательно губя их репутацию, оставалась возле них и совсем уж непристойная шатия – гулящие девки, шинкарки, маркитантки, гадалки да портомои, которые нередко были и теми, и другими, и третьими.
Но и они не были самыми последними людьми в этом «гуляй-городе». После них шли совсем уж законченные паразиты – прибившиеся к армии бродяги и пропойцы, гороховые шуты, жившие подаянием да надеждой на чем-нибудь погреть руки…
А следом за обозом, уже на следующий день, 7 июня, выступила к Очакову и вся Екатеринославская армия – более пятидесяти тысяч человек. Триста верст – от Елисаветграда до Очакова – армия прошла за три недели и, встав лагерем, образовавшим гигантское каре, взяла крепость в осаду.
Очаков расположился на берегу узкого, длинного залива, образованного двумя лиманами – Бугским и Днепровским. Его укрепления состояли из двух крепостей – старой цитадели, расположенной в центре города, и замка Гассан-паши, стоящего в стороне от Очакова, на высоком холме, господствовавшем над местностью. И Очаков и замок были по европейскому образцу окружены земляными укреплениями – рентраншементами. На южной стороне Бугского лимана, прямо против Очакова, на узкой песчаной Кинбурнской косе стояла еще одна крепость – Кинбурн, но в ней находился русский гарнизон, которым командовал знаменитый пятидесятивосьмилетний генерал-аншеф Суворов. Он прибыл к Потемкину сразу же, как только война с турками началась, и Светлейший поручил ему оборонять Крым и обширный район от Херсона до Кинбурна.
О победе Суворова под Кинбурном вскоре узнала вся Россия, и к его прежним лаврам победителя в трех недавних войнах с пруссаками, поляками и турками прибавились новые.
В июле Суворов прибыл под Очаков, и почти одновременно с ним туда же подошел и Бугский егерский корпус генерал-майора Кутузова.
В конце июня в степи под Очаковом стояла страшная сушь. Земля, светло-желтая и серая, покрытая клочками жухлой травы и слоем метавшейся под ветром мелкой колючей пыли, кое-где уже начинала спекаться и трескаться. И степь, обычно наполненная в начале лета жизнью, ныне омертвела: суслики ушли глубоко под землю, исчезли сурки, зато расплодилось множество жуков и змей да парили под солнцем орлы, ястребы и кречеты – хищное небесное воинство.
На юге степь скатывалась к мутной, желтой, прогретой солнцем воде лимана и густым зарослям камыша.
Остановившись между небом и землей, стала армия зарываться в землю. И вскоре в полутора верстах к северу от Очакова, куда уже не могли залететь бусурманские ядра, степь всхолмилась многими тысячами бугорков, покрытых настилами из камыша.
В центре лагеря поставили огромный шатер главнокомандующего, в полуверсте от земляного города стал еще один немалый град, именуемый «вагенбург», то есть «город повозок», отодвинутый подальше по правилам походной диспозиции, а также и для того, чтобы соблазны, в нем пребывающие, не вводили в грех жителей соседнего воинского подземного царства-государства.
Государство же сие было разбито по регламенту, и со стен крепости видели под Очаковом не сумбурное скопление телег, шалашей, землянок, палаток, артиллерии и конских табунов, но регулярный – порядочный и правильный – военный лагерь, разбитый на большие квадраты полков, делящиеся внутри на не столь великие четырехугольники батальонов, в свою очередь разделенные на ротные участки.
Лагерь еще строили, а уже был он окопан рвом, над коим перебросили мосты, учинив перед ними кордегардии, впереди которых, для вящей безопасности, учредили блок-посты – самые близкие к неприятелю пункты для наблюдения за ним.
Наконец, огородившись рогатками – деревянными крестовинами, с заостренными верхними концами, – завершили устройство лагеря по тем канонам, коими руководствовались еще их предки, называя такие бивуаки воинскими станами.
Двухбатальонный егерский корпус Ангальта разместился в версте от большого лагеря, поближе к замку Гассан-паши, стоящему у самого лимана. В задачу егерей Ангальта входило блокировать размещенный в замке гарнизон. Лагерь егерей был уменьшенной копией армейского стана, а из-за того, что в корпусе было много новобранцев и многие офицеры – в их числе и Барклай – еще не нюхали пороху, создание регулярного бивака оказалось для них делом весьма непростым.
Казалось бы, экая недолга разместиться на просторе полутора тысячам здоровых мужиков, у которых есть и топоры и лопаты? Ан нет, и здесь понадобилось немало житейской смекалки и здравого смысла, потому что в степи, кроме камыша да глины, ничего не было.
И, наблюдая за тем, как ловко – будто всегда только этим и занимались – егеря месили глину и обмазывали ею привезенный с лимана камыш, Барклай понял, почему называли на Руси строителей и инженеров «розмыслы и хитрецы».
И на сей раз снова убедился, сколь талантлив русский солдат, умеющий выйти из самых затруднительных ситуаций.
На первом же военном совете Потемкин произнес фразу, которую потом целых полгода ставили ему в вину: «Очаков – ничтожная крепость, она не выдержит и недельной осады».
Уверовав в справедливость сделанной им оценки, Светлейший стал руководствоваться ею, неспешно производя действия, которые сначала никому не казались ошибочными, но с течением времени поставили в тупик, ибо было не ясно, что предпринимает главнокомандующий – блокаду крепости или же ее осаду?
Меж тем и другим действом большой разницы не было: начиналось с того, что крепость лишали всех связей с миром, перекрывая дороги и не давая получить ни одного сухаря и ни одного патрона.
Но почти сразу стало ясно – блокаду установить невозможно, ибо турецкие корабли легко проходят к Очакову из-за малочисленности русского флота и благодаря мастерству своих капитанов, многие из которых были в свое время и неплохими контрабандистами.
Стало быть, нужно было переходить к осаде, то есть дополнить частичную блокаду другими, более действенными мерами, а именно подвести к стенам апроши – зигзагообразные окопы, начать подкоп под стены подземными ходами – сапами, предварительно поставив вокруг осадные батареи.
Однако Потемкин ограничился тем, что установил на своем правом фланге две батареи, насыпав два невысоких плоских холма, на которые и втащили четыре мортиры и четыре пушки. И дальше ждали, когда у бусурман кончится провизия и порох, после чего и никакого приступа не потребуется. Однако время шло, батареи время от времени постреливали, бусурмане отвечали тем же, а дело с места не сдвигалось.
А в русском лагере между тем начались болезни – кровавый понос и болотная лихорадка. Избавиться от этой заразы было так же невозможно, как и от комаров, разносящих малярию, и от мух – переносчиков дизентерии.
Заболевших оказалось намного больше, чем ждали: чуть ли не треть армии слегла в две недели – видать, недаром и ту и другую немочь причисляли на Руси к двенадцати сестрам Иродовым.
Случилось все из-за сущего пустяка – гнилую воду из лимана пили некипяченой, а уксуса, обезвреживающего сырую воду, захватить с собою не удосужились.
Подкрепления подходили медленно, ибо формирование новых частей сильно затягивалось из-за нехватки рекрутов, которым до Новороссии надобно было добираться не неделями – месяцами.
Ко всем огорчениям вскоре прибавилось и еще одно: в конце июня Швеция объявила России войну, и, стало быть, следовало обходиться своими силами, так как Санкт-Петербургская, Лифляндская и Финляндская дивизии попадали в столь же трудное положение, как и армия Потемкина. По большому счету с Очаковым нужно было кончать как можно скорее, да пока ничего не получалось – янычары дрались отчаянно и о капитуляции не помышляли.
В середине июля Потемкин склонился к мысли, что осаду продолжать следует, но только более энергично, а о штурме из-за нехватки сил и средств пока и не заикаться: не по себе древо рубить – только людей смешить.
Меж тем горячие головы судили иначе: нечего ждать у моря погоды, надобно приступать к Очакову, ибо известно: медлить – дела не избыть.
А тем временем пришло известие, что 14 июля у острова Змеиный, в старину называвшегося Фидониси, произошло морское сражение между русской Севастопольской эскадрой адмирала Войновича и турецким флотом Гассан-паши. Сражение происходило всего в ста девяноста верстах от Очакова, и потому о нем узнали вскоре. Тридцать шесть русских кораблей, из коих больших кораблей – линейных и фрегатов – было лишь двенадцать, обратили в бегство вражеский флот, насчитывавший шестьдесят вымпелов, причем больших кораблей было у турок двадцать восемь.
Стало известно и имя героя этой баталии – Федора Ушакова, который, командуя авангардом эскадры, сошелся в поединке с турецким флагманом и, едва не утопив, заставил его спасаться бегством, и он увлек за собою весь флот. Повторяли и имя командира флагманского линейного корабля «Святой Петр» Дмитрия Сенявина, который был в самом центре этой дерзкой и смертельно опасной атаки. Победа под Фидониси воодушевила всех, особенно сторонников действий энергичных, наступательных, тем более что сразу же после того, как стало известно о морской виктории, под Очаков прибыл генерал, почитавший наступление матерью победы. Это был Суворов. И снова собрал Светлейший военный совет. К назначенному часу пришли к нему все его генералы и многие полковники.
Они шли на совет в сопровождении адъютантов, непременно несших за своими начальниками либо большие портфели, либо папки с бумагами и планами. И только два военачальника не загружали своих адъютантов ничем – генерал-аншеф Суворов и атаман Платов.
Обычно, когда члены военного совета скрывались за дверью шатра главнокомандующего, забрав документы у сопровождавших их молодых офицеров, те начинали свой собственный военный совет. И порою казалось, что именно здесь, в адъютантской палатке, и проходит истинное совещание стратегов, высказывающих мысли не менее верные и глубокие, чем в соседнем шатре у Светлейшего.
Поручики и капитаны в спорах этих выказывали столько глубокомыслия и так блистали знанием военной истории, что им могли бы позавидовать те, чьи имена повторяли диспутанты, чаще всего ссылаясь на примеры и опыт Юлия Цезаря, Александра Македонского, Густава Вазы, Евгения Савойского, Анри Тюренна и Фридриха Второго – величайших полководцев в истории.
А имена великих фортификаторов, признанных магов осады и обороны крепостей Вобана, Кормонтеня и Монталамбера не сходили у них с уст.
И объяснялась столь изрядная эрудиция молодых офицеров тем, что все они были образованы получше своих отцов, дядюшек и тестей, с детства они обучены были тому, о чем их генералам довелось узнать лишь на практике, а кроме того, знали господа адъютанты и по нескольку языков, паче же прочих – французский, на коем и писались труды по фортификации. Происходило же все сие по одной и той же генеральной причине – господа адъютанты почти все были либо сыновьями, либо зятьями, либо племянниками членов военного совета, но опрометчиво поступил бы тот, кто подумал о них дурно – нет, они, как правило, являлись образцовыми офицерами и собственное доброе имя и честь рода своего берегли пуще зеницы ока, ибо и то и другое сопрягали они с многовековой фамильной честью.
Барклай был одним из немногих адъютантов, не связанных узами родства или свойства со своим начальником, но и он тоже гордился им, и отсвет ратной славы и доброго имени принца Ангальта лежал на нем точно так же, как на адъютанте Кутузова – племяннике его Василии Бибикове или на адъютанте Суворова, тоже племяннике, – девятнадцатилетнем Алексее Горчакове.
Именно с Горчаковым двадцатисемилетний Барклай сошелся ближе, чем с другими молодыми людьми, несмотря на огромную в их возрасте разницу. Михаилу нравилось то, что был Горчаков подлинным аристократом. Из рода самого Рюрика, он никогда не кичился своим происхождением и не проявлял высокомерного к другим отношения. Никогда не пользовался он и именем своего знаменитого дяди, а наравне со всеми честно тянул армейскую лямку. Да и как могло быть иначе, если и сам Суворов ел кашу из солдатского котла, спал на сене, завернувшись в шинель, и от непогоды скрывался вместе с племянником-адъютантом в калмыцкой палатке, которую возил за собой со времен усмирения пугачевского бунта?
Когда выдавалось свободное время, Горчаков забегал на огонек к Михаилу, поскольку в свои девятнадцать лет Алексей среди, как ему казалось, уже пожилых двадцатипяти-тридцатилетних офицеров чувствовал себя не очень уютно. А Барклай нравился Горчакову, может быть, еще и полной с ним несхожестью, тем, что был он необщителен, молчалив и, как говорится, всегда застегнут на все пуговицы. Вместе с тем Горчаков чувствовал, что за замкнутостью Барклая скрывается доброе сердце и одиночество свое он охотно нарушит в беседе и дружеском общении. Старая истина – противоположности сходятся – получила в их довольно неожиданном альянсе еще одно подтверждение.
Молодой князь был необычайно общителен, да и почти все его окружающие искренне и сами к нему тянулись – был он хорош собой, умен, и, кроме того, знакомство с ним делало честь каждому из-за его близости не только родственной, но и сердечной со своим легендарным дядюшкой.
Хотя был Горчаков совсем юн, круг его друзей и добрых знакомых был весьма обширен, благодаря тому что князь поддерживал связи со всеми прежними товарищами юности и даже детства, которое, впрочем, было у него совсем недавно.
Суворов шутя говорил: «Глянь-ка, Алеша, снова тебе сегодня писем пришло поболее моего».
И на военных советах господ адъютантов к голосу Горчакова прислушивались, ведь был он тенью самого Суворова, и, хотя понимали, что о планах генерал-аншефа никогда не знает никто, все же полагали, что если и скажет им Горчаков даже не о деталях того, о чем думает Александр Васильевич, а лишь об общем направлении раздумий его, то и этого будет более чем достаточно. Однако, сколько ни прислушивались, ничего определенного вывести не могли – умел племянник секреты дядьки своего крепко держать.
Тем кончился и этот их военный совет – с чем пришли, с тем и ушли, проговорив долго, но ничего не придумав. Впрочем, то же самое произошло и в шатре у Светлейшего – судили-рядили и решили осаду продолжать до более благоприятного момента.
Вскоре после того собрал Светлейший военный совет еще раз. Объяснялось это тем, что Суворов стал настаивать на подготовке к штурму, а авторитет его был настолько велик, что многие генералы и штаб-офицеры стали склоняться к тому же.
Каждый приглашенный на совет должен был высказать свое мнение о том, что следует делать дальше.
Все в конце концов свелось к двум позициям: одни считали более разумным продолжать осаду, другие – брать Очаков приступом. К первым принадлежал сам фельдмаршал, а наиболее ярым сторонником штурма оказался Суворов. В итоге точка зрения Потемкина победила – было решено осаду продолжать.
Михаила Ларионович Кутузов четырнадцати лет окончил в Петербурге Инженерную и артиллерийскую школу и потому был весьма силен в вопросах фортификации, знал толк как в строительстве крепостей, так и в их взятии. Он-то и присоветовал Потемкину добавить к двум батареям правого фланга еще две – на левом, причем ставить новые батареи близко от крепостных стен, чтобы наносимый ими урон был гораздо большим, чем вред, причиняемый батареями правого фланга. Турки тут же поняли это и, когда работы развернулись вовсю, учинили внезапную вылазку.








