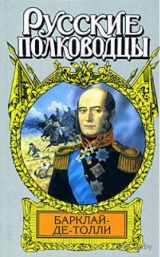
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
И представил их друг другу Кречетников как-то не обычно.
– Будьте знакомы, господа, – проговорил генерал, назвав Барклая по званию, а пришедшего канцеляриста, о котором только что отозвался как о своем офицере, просто Иваном Яковлевичем.
Молодые люди поклонились и, обмениваясь рукопожатиями, проговорили:
– Барклай-де-Толли.
– Де Дане.
Объяснив, каким образом должны они будут сотрудничать, охраняя священную особу, которая вскоре должна была осчастливить их своим появлением, Кречетников сказал в заключение, заметно помягчев оттого, что дело пошло и молодые люди, кажется, понравились друг другу:
– Ну, господа, за дело. А всякий петит[39]39
Петит – мелочь (фр.).
[Закрыть], детали всякие, обсудите меж собой сами. С Богом.
Дане привел Михаила в мансардную комнатенку, зажатую меж высокими крутыми скатами черепичной крыши.
Стол, два неказистых стула и такой прочный шкаф, будто в нем хранилась армейская казна, – вот и все, что было в его Особом бюро.
Пригласив Михаила сесть, Дане спросил его по-французски:
– Вы – француз?
– Нет, шотландец, – думая, что отвечает по-французски, сказал Барклай. Однако в его ответе лишь «нет» произнес он по-французски, а называя свою национальность, употребил немецкое слово «скотт», потому что не знал французского «экосе».
Дане мгновенно понял, в чем дело, и сказал уже по-русски:
– Извините, господин премьер-майор, меня сбила с толку ваша французская дворянская приставка «де».
Барклай коротко объяснил, почему именуется он «де Толли», но и промах свой понял: французский следовало знать лучше.
…Всякий русский, ступивший хотя бы на первую ступеньку лестницы, именуемой Табелью о рангах, вскоре же убеждался в том, что французский надо знать, и чем совершеннее, тем для карьеры лучше.
Зачастую и вся карьера зависела от того, насколько совершенен был чиновник в этом языке – языке двора, высшей бюрократии, дипломатов всех рангов и генералитета. Да и сама государыня и вся ее семья предпочитали французский всякому другому, хотя немецкий был родным ей, а русский она просто обожала.
Так уж случилось, что даже любимая забава двора – театр сначала был немецким, затем итальянским, после того – французским, и лишь в конце концов вышла на сцену и русская труппа – сначала Сумарокова, а за ней и Волкова[40]40
Волков Федор Григорьевич (1729–1763) – актер; в 1750 г. организовал в Ярославле любительскую труппу, на основе ее в 1756 г. в Петербурге был создан постоянный профессиональный публичный театр. На сцене его шли трагедии А. П. Сумарокова.
[Закрыть].
И ежели в свою пору Ломоносов, воспоминая о французском, ценил язык сей за то, что на нем с дамским полом говорить прилично, то теперь, не зная французского, можно было служить лишь в провинции, а в армии – хорошо если командовать полком, выше все приказы писались начальством по-французски.
В русской администрации мог служить человек любой нации, но его вторым языком должен был быть язык парижского света. И чем выше был пост чиновника, тем безукоризненнее должно было быть знание французского.
Обычный день даже у дворянина средней руки заключен был между традиционными «бонжур» и «бонсуар», проходя через бесконечные «мерси, мадам», «пардон, мадам», «вуаля, мадам»[41]41
Здравствуйте; добрый вечер; благодарю, мадам; простите, мадам, вот, мадам (фр.).
[Закрыть] и тому подобную галантную чепуху. Даже старые дворовые люди нередко знали по сотне-другой французских слов, а иные и говорили по-французски и даже читали.
В военном деле тоже никуда нельзя было деться от бесчисленных терминов, оттеснивших отечественные названия приемов, действий. Навеки вошли в военные российские лексиконы, а потом и в сам язык, вскоре уже не требуя перевода, «авангард» и «аванпост», «бомбардир» и «волонтер», «корнет» и «капитан», «каре» и «камуфляж» и десятки иных слов и понятий. Дошло до того, что и приказы по армии писались по-французски.
И потому без французского военному человеку не то что карьеры, но и обычной службы своей нести было нельзя…
Маленькая оплошность произвела на Михаила большое впечатление, оказалась даже некоей встряской, от чего был он обычно защищен спокойствием и холодностью своего характера. И столь же внезапно принял он решение: «Выучу французский». Дане, четко и ясно выказав в разговоре с Михаилом ум и сообразительность, не скрыв от него и юношеской увлеченности своим необычным ремеслом полицейского лимьера, а по-русски – дошлого сыщика, весьма понравился Михаилу, и расстались они добрыми приятелями.
* * *
Так пришло к Барклаю и еще одно постижение военной службы – понимание того, что делает военная полиция, агентурная служба армии, те самые шпионы – снова французское слово, – которых русские называли лазутчиками и соглядатаями, вкладывая в эти слова немалое презрение и даже гадливость.
А как было без них обойтись, когда инсургенты собрали в Гродно опытнейших заговорщиков и убийц, коими, по данным тишайшего Ивана Яковлевича де Дане, руководил сам Тадеуш Костюшко – опытнейший конспиратор, истинный оборотень, прибывший в Польшу из-за океана, где был он генералом армии Джорджа Вашингтона.
Из тех немногих сражений, что дали повстанцы русским прошлым летом, двумя, оказавшимися для мятежников удачными, командовал именно он. А теперь, уверял Дане, прибыл Костюшко в Гродно, чтобы кинжалом, пулей или ядом свести счеты с королем-изменником «зрадцей Станиславом», как прозвали Понятовского его вчерашние подданные, а ныне чуть ли не все сплошь – мятежники.
В общем, сколько ни старались Иван Яковлевич и все его люди – шинкари, содержатели отелей, торговцы всех видов, от хозяев многочисленных лавок до мелких разносчиков-офеней, не считая чиновников и полицейских, – Костюшко как в воду канул, и оттого на душе и у Дане, и у Барклая, да и у самих Кречетникова и Сиверса было неспокойно – а ну как выскочит где ни попадя сей оборотень, учинит королю некое нежданное лихо, что тогда?
И потому на кордегардии да гауптвахты, аванпосты да заставы, а паче всего на дворцовые караулы и оставалась вся надежда. Новая служба Барклая оказалась, пожалуй, тяжелее всех прочих – не из-за жары или стужи и не из-за обстрела или атаки в штыки, а из-за вечного страха неведомой опасности, которой приходилось ждать каждую минуту и днем и ночью.
Поневоле изучив многие тонкости полицейской службы, Барклай из пребывания во дворце извлек две несомненные для дальнейшей службы пользы: во-первых, сильно продвинулся вперед во французском и, во-вторых, вошел в мир, дотоле совершенно ему недоступный. Он близко увидел жизнь во дворце, в настоящем королевском дворце, и при дворе, хотя конечно же совсем не таком, каков был Петербурге кий, где ему довелось побывать лишь дважды, сопровождая графа Фридриха, а другой раз – сопутствуя принцу Ангальту. И все же это был двор коронованной особы, со всеми атрибутами королевского этикета и всеми приличествующими тому аксессуарами.
Когда Барклай впервые увидел Станислава Августа, он показался ему истинным королем. Его встречали колокольным звоном и пушечным салютом, ему отдавал шпагой честь сам главнокомандующий, его эскорт – Польская хоронгва – шел на прекрасных лошадях, в элегантных, сверкающих серебром и золотом гусарских доломанах, в шапках, отороченных соболем.
И сам Станислав Август вышел из кареты в генеральском мундире, украшенном голубой Андреевской лентой, со множеством орденов и алмазным портретом государыни. Он был стар, осанист и величествен. Ничто не говорило о постигшем его несчастье – разделе его страны. Станислав Август, надменно и гордо вскинув голову, державно и медленно взошел на крыльцо дворца, по обеим сторонам которого в две шеренги немо стояли молодые красавцы великаны в ливреях, напоминающих мундиры генералов.
Но не прошло и недели, как Барклай понял, что торжественный въезд короля в Гродно был не более чем еще одним привычным для него спектаклем, может быть, более пышным из-за того, что статистов – солдат и слуг – было больше, чем обычно, и звуковые эффекты – из-за артиллерийского салюта и колокольного звона – тоже посильнее повседневных криков «На караул!» и барабанной «Встречи».
Как ни был далек Барклай от короля, но ежедневное общение с немногочисленными придворными все же позволило ему узнать то, чего не узнал бы он в Царском Селе, проживи там хоть десять лет.
Королевский дворец в Гродно был раз в двадцать меньше Большого Екатерининского дворца в Царском Селе, а придворный штат был соответственно меньше раз в сто. И если бы можно было уподобить царскосельский дворец гигантскому увеличительному стеклу, то его фокус был бы равен дворцу в Гродно, ибо в фокусе сконцентрировались бы полтора-два десятка сановников империи, игравших первые роли в этом великолепном, огромном театре.
И в королевском театре в Гродно амплуа были те же: герои-любовники и героини-любовницы, доверенные советники и наперсницы-советчицы, завистники и злодеи, наушники и шуты, мудрецы и прорицатели, верные оруженосцы и гранд-кокетки, но, сколько бы их ни было, более полутора десятков тоже не насчитывалось. Зато все они были на виду и на слуху, представляя собою высокую концентрацию того же самого, чем был в свое время Версаль, а ныне продолжали быть Царское Село, Вестминстер или Сан-Суси.
Когда же поселился король в своих чертогах, то стало ясно, что все у него – в том числе и дворец – не свое. Может быть, принадлежал ему мундир да награды, да и то поговаривали, что все это тоже заложено, перезаложено и давно описано заимодавцами-кредиторами. И если бы не матушка-государыня, чей осыпанный алмазами портрет носил он на сердце, то неизвестно, где бы он был и что проживал.
Еще в Петербурге слышал Барклай, как и многие другие, что в молодости у государыни был с Понятовским – тогда еще послом в России – сокрушительный роман и что будто даже родилось от этого романа дитя, но государыню всегда сопровождало столько злословия и нелепиц, басен и пересудов, что и этому слуху можно было и верить и не верить.
Дымный шлейф этой давней истории, одновременно чем-то возвышающей нищего короля и унижающей великую Владычицу Севера, все еще тянулся по коридорам гродненского дворца, окутывая фигуру Станислава Августа в романтический флер, вызывая к нему у одних чувство печальной зависти, а у других – злорадство.
Так и жил этот странный и, в общем-то, казавшийся Барклаю жалким человек, пытаясь доказать окружавшим, что он – король, но сам-то отлично осознававший, что на самом деле – не более чем банкрот, политический банкрот столь же полный, как и финансовый.
Барклай близко сошелся с французом Дане, и тот, крещенный как Жан-Жак, а на русский лад – «Иван Яковлевич», хорошо помог в одолении французского. Кроме того, была Барклаю от общения с Дане и другая немалая польза: француз, не раскрывая секретов службы, сообщал иногда Михаилу крайне интересные сведения. Так, однажды Иван Яковлевич как бы между прочим сказал, что Понятовский предложил государыне свое отречение от польского престола за пожизненную ренту в восемьдесят тысяч ливров в год.
Но, судя по тому, что Станислав Август так и оставался королем, его предложение не было принято. «Наверное, – подумал Барклай, – польский трон и без этого скоро достанется России».
Понятовский торговался и бражничал, а тем временем в Гродно собрались делегаты сейма и в середине осени 1793 года утвердили новый – второй – раздел собственной страны. И так как были они во всем покорны русским, то вошли в историю под именем Немого сейма.
Однако, пока жалкий король и трусливый сейм от имени народа отдавали родину иноземцам, по всей Польше собирались многочисленные отряды патриотов.
К весне 1794 года польские заговорщики посчитали, что пушек у них достаточно, и стали доводить до конца план общепольского восстания, включив сюда и восточные земли Речи Посполитой, традиционно именуемые Литвой.
В марте 1794 года восстала польская кавалерийская бригада генерала Антония Мадалиньского, и генерал-аншеф Ингельстром – старый начальник Барклая – приказал всем своим войскам сосредоточиться в Радоме.
Ушел туда и русский гарнизон Кракова. Воспользовавшись этим, в Краков явился Костюшко и 14 марта принял присягу повстанцев как их главный начальник.
28 марта отряды Костюшко разбили русских под Рацлавицами, а еще через две недели – в ночь с 6 на 7 апреля, в Пасхальную ночь, по редчайшему совпадению пришедшуюся на одно и то же число и у католиков, и у православных, – Варшава восстала.
Эта ночь была святой и для тех, и для других. И хотя называли они друг друга схизматиками, что означало «раскольник» или «отщепенцы», все же и те и другие были христианами, и потому русские никак не ждали начала кровопролития в ночь такого великого праздника.
Разрозненные русские отряды сдавались либо уничтожались один за другим. Остатки гарнизона сбежались к дворцу русского посольства и заняли большой дом на площади Красиньских, но 7 апреля и они капитулировали. Лишь один казак чудом вырвался из города и помчался на свой страх и риск на восток. На вторую ночь он прискакал в Гродно и тотчас же отыскал Цицианова.
Князь мгновенно поднял полк по тревоге, а утром на местном рынке уже все говорили о восстании в Варшаве, о пленении и разгроме русского гарнизона и уверяли, что в Гродно с минуты на минуту войдет победоносная повстанческая гвардия.
Цицианов созвал военный совет, и его офицеры решили, что безопаснее будет, если полк станет лагерем где-то поблизости.
Для удобства сношений с другими русскими полками решено было выйти на Виленский тракт и там ждать дальнейшего развития событий.
В полдень полк вышел в поход. Как на учении, впереди шли караулы, за ними – артиллерия, вслед ехали верхом офицеры, а уж за ними – роты гренадер. Замыкал шествие полковой обоз.
Отойдя на пять верст, полк остановился, разбив лагерь и укрепив его по всем правилам военной науки.
Вскоре примчались к Цицианову вестники из Вильно и рассказали о том, что только-только случилось и у них в гарнизоне.
Как и в Варшаве, мятеж начался ночью. Местом сосредоточения заговорщиков стал центр города, где размещались польские части. Им принадлежали замок и арсенал.
Сигналом к нападению на русских послужил пушечный выстрел с башни замка, а в самом замке собрались главные заговорщики, которые, разбившись на боевые группы, тотчас же бросились разоружать русские посты. Как только выстрел с башни раздался, тут же по всему городу зазвонили колокола. Гарнизон, как и в Варшаве, был застигнут врасплох, и тысячу солдат и офицеров инсургенты арестовали без всякого труда и загнали в костел Святого Казимира.
Во всем городе оказался всего один человек, сообразивший, что следует предпринять. Это был двадцативосьмилетний артиллерийский премьер-майор Николай Алексеевич Тучков – главный артиллерийский начальник в Вильно, чей парк с девятнадцатью орудиями стоял на краю поля, на Погулянке. Услышав пушечный выстрел и еще не зная, что это значит, Тучков выскочил из дому, влетел в седло и помчался к своим орудиям.
И в то время как повстанцы бежали к костелам, созывающим их набатным звоном колоколов, их противники – отрядами, группами и поодиночке – прорывались на голос своих пушек, созывавших всех русских на Погулянку.
Весь день 12 апреля артиллеристы вели огонь по мятежникам, не подпуская их к позиции. Но дальнейшая оборона становилась невозможной, ибо у артиллеристов были пушки и бомбы, ядра и картечь, но не было запасов патронов и, самое главное, не было продовольствия – гарнизонные магазины уже захватили мятежники. Там же находился и арсенал, а значит, возникала угроза батальонам прикрытия, стоявшим в защитном кольце вокруг артиллерийского парка.
Поэтому в середине ночи на 13 апреля отряд Тучкова снялся с позиций и пошел на юг. Тучков, начиная отступление, зажег на Погулянке костры, делая вид, что остается на месте, а сам двинулся к Понарским высотам, откуда повернул на Гродно.
А впереди отряда, спеша уведомить санкт-петербургских гренадер, поскакали верхоконные гонцы. Они-то и рассказали Цицианову, что произошло в Вильно и что отряд Тучкова уже недалеко и, по-видимому, стоит, так же как и его полк, лагерем.
Цицианов послал навстречу Тучкову связного офицера, вернувшегося через два часа – русский лагерь оказался совсем рядом.
Встретившись, Цицианов и Тучков повели свои отряды на Гродно, а оттуда двинулись на соединение с войсками находящегося неподалеку генерал-поручика Кнорринга – того самого Богдана Федоровича Кнорринга, с которым Барклай служил еще в Феллине. По соседству же оказались и отряды второго его бывшего командира – недавнего главнокомандующего и русского посла в Варшаве генерал-аншефа Ингельстрома.
Замешательство русских было недолгим: уже 25 апреля главнокомандующим всеми русскими войсками в Литве и Польше был назначен Румянцев.
Под его знаменами собрались орлы Екатерины, которым на сей раз предстояло выполнить роль ястребов, Суворов и Репнин, и военачальники рангом пониже, но тоже уже многоопытные и закаленные – Кнорринг, Ингельстром, Беннигсен, Ферзен, Герман, Валериан Зубов.
Используя огромное превосходство в силах, русские и союзные им пруссаки стали наносить повстанцам одно поражение за другим.
6 мая пруссаки разбили под Хелмом корпус Йозефа Зайончека, затем поляки потерпели поражение под Щекоцинами, а 15 июня немцы вошли в Краков.
В это время отряд Цицианова получил приказ двинуться на Слоним, имея конечным пунктом своего продвижения Вильно.
Сумятица первых недель восстания привела к тому, что некоторые полки распались, результатом чего было и то, что под командованием Цицианова кроме санкт-петербургских гренадер оказался еще один казачий полк и один батальон Нарвского пехотного полка.
Солдаты Барклая шли окруженные казачьими пикетами, опасаясь внезапных наскоков мятежников. Однако их как будто и след простыл. Вокруг было полное безлюдье – деревеньки встречались редко, от местечка до местечка приходилось идти по два-три дня, пересекая ленивые сонные реки, неподвижные бочаги и омуты, пробирались узкими тропами среди великих болот, укутанных во мхи и прикрытых тонким и коварным наплавным слоем.
На опушках редких, чахлых и низкорослых лесов стояли бедные, крытые черной соломой хаты, сделанные из такого же самана, какой довелось видеть Михаилу под Очаковом.
Редко-редко выхолили из хат мужики и бабы, называвшиеся здесь полешанами и полешанками, потому что скудная их земля называлась Полесьем.
Равнодушно, не выказывая никакого опасения, смотрели они на ратников, идущих мимо за другими ратниками, проходившими здесь вчера. Какое им было дело до панов – можновладцев, разодравшихся с русской царицей?
У Слонима отряд настиг повстанцев, во главе которых стоял генерал князь Сапега, но они, не приняв боя, быстро пошли к Вильно, где уже кипели оборонительные работы – ставились рогатки, насыпались ретраншементы, рылись окопы. На всех высоких точках города стояли батареи, насчитывающие пятьдесят орудий. Сапега ушел под защиту Виленских укреплений, а Цицианов остановился. Он знал, что на подходе к Вильно находятся войска Валериана Зубова, Ивана Германа, Беннигсена и Кнорринга.
Барклаю уже довелось служить со всеми ними, кроме Зубова. Кнорринг и Беннигсен Были командирами полков, в которых служил он в Лифляндии и в Новороссии, а Иван Иванович Герман был квартирмейстером армии Кречетникова, стоявшей в Гродно и его окрестностях.
Старшим над всеми этими военачальниками князь Репнин назначил Кнорринга, и он, окружив Вильно, стал готовиться к штурму.
28 июля в семь часов утра штурм начался. Ожесточенный бой шел до самой темноты, но нападавшие были отбиты на всех пунктах. На следующий день, также в семь утра, Кнорринг бросил войска на новый приступ.
Батальону Барклая предстояло взять укрепления за оврагом, возле ворот, называвшихся Острой Брамой. Готовясь к приступу, Барклай продумал все возможные варианты атаки. Острая Брама закрывала вход в Старый город – сумятицу узких улиц, стиснутых каменными стенами домов, монастырей и костелов, из коих каждый был подобен замку.
28 июля гренадеры стояли в резерве, и Барклай лишь наблюдал за боем, ожидая приказа о наступлении. Однако Кнорринг берег его батальон и в первый день такого приказа не отдал.
Зато на второй приступ батальон пошел сразу же. Повстанцы не ожидали удара свежих сил, но у них тоже оказался запасной конный отряд, о котором русские не подозревали.
Конники стояли за воротами и ждали своего часа.
А меж тем гренадеры резво пошли к оврагу, где в пологой, узкой, довольно глубокой лощине засели стрелки. Не успели они дойти до него, как ударила стоявшая за оврагом польская батарея.
Огонь был сильным и точным, картечь выбивала атакующих десятками, но батальон рвался к воротам.
Барклай шел впереди, зная, что, где пройдет он, следом за ним пройдут и его гренадеры. Эта мысль владела им целиком, и он не думал ни о ранении, ни о смерти – ему нужно было пройти через овраг, достичь Острой Брамы и ворваться в город.
Но следовало также следить за тем, чтобы противник не предпринял каких-либо маневров, пытаясь остановить, отбросить или же уничтожить его батальон.
Он шел к оврагу, отвечая на ружейную пальбу огнем сходу, стараясь не подставлять солдат под картечные залпы и в то же самое время не забывая о некоей внезапной опасности, которую военные не любят и боятся более всего.
Барклай видел, как под картечью и пулями падают его гренадеры. Но он видел и как сокращается расстояние до оврага и чувствовал, что атака не захлебнется, что силы ее раската хватит для того, чтобы перемахнуть овраг и выйти к воротам.
Уже на последних метрах перед оврагом он увидел, что в атаку на батарею пошел соседний батальон майора Шеншина, и отметил, что теперь почти весь пушечный огонь достается соседям. Барклай, закричав «Ура!», побежал во всю прыть к лощине и увидел, как мятежники кинулись к воротам, не желая схватки врукопашную. Гренадеры, со штыками наперевес, пробежали через лощину в считанные мгновения и, тяжело дыша, вышли на другой ее край – у Острой Брамы. Ворота раскрылись, впуская в город его защитников, и, как это случается в девяти случаях из десяти у военачальника, преследующего противника, убегающего в распахнутые ворота, у Барклая тоже мгновенно возникла удалая мысль: «А не ворваться ли вместе с мятежниками в Вильно?»
И он, впервые в жизни отбросив рассудочную осмотрительность, рванулся к Браме.
Но обороняющиеся ждали этого и тут-то и выпустили из ворот свой конный резерв. Застоявшиеся кони и уставшие от ожидания боя всадники тут же отбросили гренадер к краю оврага, однако спускаться на его дно кавалеристам было не с руки, и они стали спешиваться, ведя огонь не с седла, а с земли.
Барклай тотчас же понял, что теперь кавалеристы утратили свое преимущество, ибо они не могли противостоять гренадерам – мастерам пехотной тактики и непревзойденным виртуозам огневого и штыкового боя.
Зацепившись за край оврага, гренадеры ввели в бой свое излюбленное оружие – гранаты, и перед кавалеристами сразу же вырос огневой заслон.
В эти же мгновения солдаты Шеншина захватили батарею. Барклай понял, что это произошло, потому что батарея замолчала. И тут же солдаты Шеншина бросились на выручку гренадерам. Мятежники нестройной толпой ринулись к воротам. Но на сей раз русским удалось ворваться в город. Батальоны Барклая и Шеншина оказались на улицах Вильно первыми из всех штурмующих. Гренадеры бежали вдоль стен, по узким средневековым улочкам, а с чердаков, из окон, из-за углов домов сыпались на них пули и гранаты, останавливая, калеча и убивая.
И Очаков и Бендеры, открыв ворота, более не сопротивлялись, а защитники Вильно продолжали драться и на улицах.
Исход штурма решил Беннигсен: он развернул лавой Изюмский кавалерийский полк, сбил с позиции артиллерию мятежников и прорвал их фронт на Погулянке. Затем погнал их по улицам навстречу батальонам Барклая и Шеншина. Зажатые кавалеристами Беннигсена и санкт-петербургскими гренадерами, мятежники сложили оружие.
Капитуляцию Виленского гарнизона принял Кнорринг. Он же представил Цицианова и Беннигсена к ордену Георгия 3-го класса, а Барклая и Шеншина – класса 4-го.
Вслед за тем Беннигсену и Цицианову было приказано преследовать повстанцев, сумевших избежать окружения. Беннигсен пошел к Ковно, а Цицианов – к Глуцку.
Батальон Барклая 8 августа настиг отступающих у местечка Выгоницы, разбил и почти всех пленил, а Беннигсен стал подлинным героем кампании: под Молями он захватил обоз повстанцев, не давая им опомниться, ночью переправился через Неман и неожиданно ворвался в Ковно.
Поляки дважды пытались выбить войска Беннигсена из Ковно, но он сумел удержать город.
В это же время в военные действия в Польше вступил Суворов.
7 августа 1794 года Румянцев послал Суворову в Немиров, под Винницей, приказ идти в Польшу, написав, что имя Суворова всегда было ужасом поляков и турок и оно подействует лучше многих тысяч солдат. Через неделю Суворов выступил в поход с двумя полками – гренадерским и карабинерным, – с двумя батальонами егерей и двумя сотнями казаков.
Так началась польская эпопея Суворова, закончившаяся через полгода взятием Варшавы. Но прежде чем это произошло, были одержаны победы при Крупчицах и под Брестом, были пленение Костюшки после боя у Мацейовиц и сокрушительный разгром поляков при Кобылке, уже совсем недалеко от Варшавы.
19 октября войска Суворова численностью в двадцать пять тысяч человек при восьмидесяти шести орудиях подошли к Праге – сильно укрепленному предместью Варшавы, закрывавшему столицу Польши с востока. Армии Суворова противостоял двадцатитысячный гарнизон, опирающийся на крепостные сооружения и многочисленную артиллерию. В тот же день Суворов собрал военный совет, который постановил: брать Варшаву штурмом. Начинать было решено с Праги. За три дня была произведена рекогносцировка, сколочены штурмовые лестницы, заготовлены фашины и плетни. Вечером 22 октября войска двинулись к Праге тремя колоннами, с музыкой, барабанным боем и развернутыми знаменами.
Они сбили польские пикеты, заняв их места, и стали лагерем на расстоянии чуть дальше пушечного выстрела от стен предместья. Суворов объехал и осмотрел лагерь, а на следующий день, 23 октября, дал войскам диспозицию о штурме Праги. Рассказав, как должно идти на приступ, Суворов завершил диспозицию так: «Стрельбой не заниматься, бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать; неприятеля, просящего помощи, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. Кого из вас убьют – царство небесное, живым – слава, слава, слава!»
Диспозицию трижды прочитали во всех полках, чтобы каждый солдат хорошо ее запомнил. В час ночи на 24 октября семь штурмовых колонн пришли в движение. Бесшумно подошли войска к рубежу атаки и в пять часов по сигналу ракеты еще в темноте бросились на штурм.
Поляки совершенно не ожидали столь скорой ночной атаки, рассчитывая, что, если приступ и будет, то не раньше чем через несколько дней.
Колонны шли на штурм под водительством командиров, четыре года назад взявших Измаил. Солдаты бросали лестницы на рвы и волчьи ямы и, не останавливаясь, не обращая внимания на огонь, рвались вперед. Штурм Праги продолжался три часа. Успеху русских способствовало и то, что командир пражского гарнизона генерал Йозеф Зайончек был ранен пулей в живот и увезен в Варшаву. От решительного, безостановочного натиска польские войска смешались, дрогнули и побежали. Однако на улицах Праги поляки опомнились и стали оказывать наступающим упорнейшее сопротивление.
Суворов, стоявший на вершине холма, прекрасно видел, как его войска ворвались в Прагу.
По донесениям ординарцев, адъютантов и офицеров, прибывавших из предместья, Суворов понял, что в Праге идет страшная резня, что диспозиция, требующая милосердия и пощады мирным жителям, начисто забыта. Ему доносили, что кровь на улицах льется рекой, что все площади устланы телами и что самая страшная бойня идет у моста через Вислу.
Все это привело к тому, что мирные обыватели – пражане стали кидать из окон и с чердаков камни, бросаться на солдат с вилами и топорами.
Ярость солдат дошла до предела – они врывались в дома, стреляли и кололи всех без разбора, а чудом спасшиеся обыватели бежали к Висле – к мосту и к лодкам и просто к воде, пытаясь перебежать или переплыть в Варшаву.
Суворов понял, что если его солдаты захватят мост, то Варшаву постигнет та же участь, что и Прагу. И он приказал поджечь мост, чтобы его солдаты не ворвались в польскую столицу.
Кажется, не было в истории войн такого случая, когда бы полководец остановил свои войска перед городом, который – не безоружный, но охваченный чудовищной паникой и обуреваемый смертельным страхом – уже лежал покорным у его ног.
А между тем Прага превратилась в море огня, наводя на варшавян еще больший ужас.
24 октября Суворов сообщил Румянцеву: «Сиятельнейший граф, ура! Прага наша».
А на следующее утро в русский лагерь прибыли представители варшавского магистрата с предложением о капитуляции.
Дождь наград и милостей полился на победителей – 19 ноября 1794 года Суворов наконец стал фельдмаршалом, а 6 января 1795 года – главнокомандующим в Польше. Беннигсен стал генерал-майором и кавалером ордена Владимира 2-го класса. Барклай тоже оказался среди отмеченных и взысканных – он стал подполковником.
И, как бывало и прежде, получение нового звания повлекло за собою и назначение на новую должность – 14 декабря 1794 года Барклай стал командиром батальона Эстляндского егерского корпуса, стоявшего в окрестностях Гродно.
Вновь предстояло ему оказаться в рядах егерей, которые были всегда его самым любимым войском, его первой любовью, которую никогда не забывало сердце.
* * *
Осенью 1794 года судьба во второй раз привела Барклая в Гродно. И в то же самое время туда же дорога другой судьбы привела Станислава Августа Понятовского – последнего короля Речи Посполитой.
В середине ноября Суворов отправил к Репнину в Гродно всех освобожденных из польского плена комиссариатских, провиантских и штатских чиновников, потому что в Гродно начала создаваться русская администрация по управлению захваченными у Польши землями.
Как раз в эту самую пору, поздним осенним вечером, на квартиру к Барклаю совершенно для него неожиданно пожаловал один из адъютантов Репнина. Премьер-майор оказался неразговорчив и сух. Он передал приказ немедленно явиться к господину главнокомандующему.
По своему адъютантскому прошлому Барклай знал, как неприятны всякие расспросы, и потому он, сдержав любопытство, стал быстро собираться, сняв повседневный и надев на всякий случай парадный мундир со всеми регалиями.
Дом командующего был освещен по-обычному, и Барклай понял, что гостей нет, а командующий, скорее всего, ждет его в кабинете.
Сдав шинель и шляпу лакею, пошел он вслед за адъютантом в бельэтаж, но тот вместо кабинета, где Михаилу ранее уже довелось побывать, провел его к соседней двери и, заговорщически улыбнувшись, промолвил:








