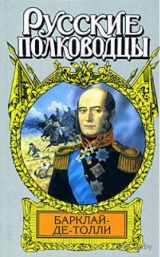
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Враги Барклая, оплотом которых стала Главная квартира, по выражению Толстого, «ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением царской милости». Барклай, столкнувшись почти со всеми этими интриганами-недоброжелателями еще в бытность свою в Петербурге, только в самых крайних случаях бывал в Главной квартире, кою называл «вертепом интриг и кабалы».
Барклаю предстояло упрочить свое положение, окружив себя энергичными, умными и талантливыми военачальниками. Ключевой фигурой после командующего является в армии начальник ее штаба, а в 1-й Западной им был маркиз Паулуччи – один из главных «партизан» антибарклаевской партии. К тому же маркиз не говорил по-русски, и это обстоятельство было названо главным, когда Барклай попросил царя заменить его.
Александр согласился, назначив на место Паулуччи Ермолова. Для Барклая Ермолов идеальной фигурой не был. Признавая его несомненные воинские дарования, огромную память, неутомимость в труде, обширные познания в деле и незаурядную храбрость, Барклай вместе с тем знал, что Ермолов не любит его, что он коварен и отменно хитер и от него можно ждать немалых козней.
Паулуччи получил приказ отправляться в Новгород, где генерал Клейнмихель занимался формированием резервов, и отбыл из Дриссы озлобленным на Барклая до конца жизни.
Вторая замена была тоже весьма существенной – генерал-квартирмейстер Мухин был заменен на своем посту полковником Карлом Толем – блистательным молодым человеком, прекрасно образованным, бесстрашным и прямодушным. Барклай знал, что когда Кутузов командовал в Петербурге Сухопутным шляхетным кадетским корпусом, «Карлуша», как называл Михаил Илларионович Толя, был самым любимым его кадетом и по обычаю, им заведенному, чаще других по воскресеньям бывал в его доме на обеде.
Но как бы то ни было, а вторично просить царя о начальнике штаба Барклай не мог, и ему пришлось служить с Ермоловым до конца войны, и он убедился, что Алексей Петрович не столь злокознен, как он ожидал, а во всех своих лучших качествах был им даже и недооценен. А Толь оправдал все его упования и ни разу не дал повода усомниться в себе – ни как в человеке, ни как в военачальнике.
* * *
В Дрисском лагере накануне выступления армии дальше на восток произошло и еще одно важное событие. Аракчеев, Шишков и Балашов собрались вместе, чтобы откровенно обменяться мнениями о том, что постоянное вмешательство царя в дела каждого из них ничего, кроме вреда и путаницы, не приносит. К тому же государь, принимая решения сам, далеко не всегда уведомлял их об этом. Барклай знал об этом совещании, но не был приглашен, хотя и он был сильно обескуражен, когда Александр, не сказав ему, собственным молниеносным приказом снял с поста командира 4-го корпуса графа Шувалова, назначив на его место графа Остермана-Толстого. Барклай, узнав о произошедшем, решительно возразил царю, и Александр вынужден был объясниться, ссылаясь на необходимость срочной замены. Однако факт остается фактом – Барклаем пренебрегли, еще раз показав, что главнокомандующим является не он, а царь.
То же самое постоянно происходило и с тремя другими сановниками – Шишковым, Аракчеевым и Балашовым.
Собравшись у велемудрого государственного секретаря, они выслушали письмо государю, сочиненное не просто поэтом и переводчиком, но верноподданным гражданином, патриотом и монархистом.
Указывая государю, что вся громада государственных дел – от дипломатии до финансов – осталась в Петербурге и никто, кроме него, не справится с этим колоссом, Шишков писал, что для блага Отечества Александр должен находиться в столице, ибо он прежде всего правитель, а дела военные и все прочие, связанные с Действующей армией, может доверить своим генералам.
Все трое понимали истинный смысл сочинения, но никто не сказал об этом вслух. Аракчеев, прослушав письмо, тут же воскликнул:
– Что мне до Отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь долее при Действующей армии?
Шишков тотчас же нашелся, ведя интригу в нужном направлении, ибо каждый из собравшихся «заговорщиков» опасался быть преданным сообщниками.
– Конечно, Алексей Андреевич, государь подвергается огромной опасности, ибо если Наполеон атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с государем? А если он победит Барклая, то беда еще невелика.
Последний аргумент Шишкова оказался решающим, и триумвират верноподданных заговорщиков в полном составе подписался под эпистолой государственного секретаря.
За день до выхода армии из Дриссы письмо было вручено Александру. Он сначала растрогался, потом задумался и наконец, поблагодарив всех за добрые к нему чувства, попросил дать ему время для окончательного решения.
…Перед тем как покинуть Дрисский лагерь, было решено прибегнуть к старой, излюбленной военной хитрости: оставить там сравнительно небольшой отряд, который имитировал бы целую армию.
В первую же ночь после ухода оставшиеся в Дриссе солдаты жгли сотни костров, а днем намеренно открыто появлялись на крышах редутов и на всех возвышенных, открытых местах, которые хорошо видны были французам. Сделано это было так умело, что главные силы Наполеона остались стоять на месте, и, пока хитрость не была разгадана, войска французов готовились к штурму. Лишь через несколько дней главные силы пошли вслед за русской армией, дав ей возможность сильно оторваться.
Впоследствии Наполеон писал об этом: «Во всей этой войне я находился под влиянием дурного гения, порождавшего в решительные минуты препятствия, которые не могли быть предусмотрены. Мог ли я предвидеть, что русская армия не останется более трех дней в лагере, стоившем нескольких месяцев работы и огромных денег?»
…В тот же день, когда состоялся Военный совет, Барклай писал жене: «Неприятель выдвинул часть своих превосходных сил между 1-ю и 2-ю армиями с целью открыть себе дорогу в сердце России… я надеюсь, что это будет предотвращено; я нахожусь теперь на скользком пути, на котором многое зависит от счастья…»
А в это самое время армия Багратиона все более удалялась на юг, увеличивая разрыв.
18 июня Багратион получил приказ Барклая идти к Вилейке. Круто повернув на Новогрудок, его армия по раскисшим от дождя дорогам прошла за трое суток около ста сорока верст, подошла к местечку Николаево и переправилась через Неман.
Здесь Багратион узнал, что с двух сторон подходят к нему войска Даву и Вестфальского короля Жерома Бонапарта. Совершив еще один маневр, Багратион решил попытаться раньше Даву выйти к Минску.
23 июня утром 2-я армия достигла Кореличей. Здесь Багратион издал приказ: «Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войски неприятельские – не иначе что как сволочь всего света, мы же – русские и единоверные.
Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пуля – мимо. Подойди к нему – он побежит. Пехота – коли! Кавалерия – руби и топчи!.. Тридцать лет моей службы и тридцать лет, как я врагов побеждаю через вашу храбрость! Я всегда с вами и вы – со мной!»
Однако тут пришло известие, что Минск уже занят корпусом Даву, и Багратиону не оставалось ничего иного, как еще раз переменить направление движения и идти к Бобруйску. Не успела 2-я армия пройти и двадцати верст, как из Главной квартиры поступил приказ, подписанный самим царем, проследовать через Новогрудок и затем атаковать Минск.
Не было в русской армии генерала, который более Багратиона хотел наступления. Однако на сей раз даже он отказался выполнить приказ царя, ибо наступление означало окружение, разгром и плен.
«Данное мне направление на Новогрудок, – ответил Багратион Александру, – не только отнимало у меня способы к соединению через Минск, но угрожало потерей всех обозов, лишением способов к продовольствию и совершенным пресеченьем даже сношений с 1-й армией».
Двигаясь к Бобруйску, Багратион узнал, что и Свислочь, расположенная в сорока верстах от Бобруйска, тоже уже занята французами.
Совершив еще один маневр, Багратион сделал рывок на юго-восток. 26 июня, присоединив по пути отряд Дорохова, 2-я армия вышла к Несвижу.
Здесь Петр Иванович отрядил в арьергард отряд Платова и остановил армию на отдых.
Наказной атаман Войска Донского шестидесятидвухлетний генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов встал у местечка Мир и начал готовиться к бою. Было у него под рукой пять с половиной казачьих полков – две с половиной тысячи человек. – и рота артиллерии.
Противник же шел в «тяжкой силе» – двенадцать польских конных полков, два саксонских кирасирских да четыре кавалерийских вестфальских. В авангарде корпуса Жерома Бонапарта мчалась кавалерийская бригада Турно.
27 июня в лихой кавалерийской сшибке с донцами Платова французский авангард был остановлен и отброшен. Большинство французских кавалеристов либо пало в бою, либо попало в окружение – хитроумный атаманский «вентерь».
На следующий день завязалось более крупное дело. Если накануне Платов сошелся с бригадой генерала Турно, то теперь перед ним была уже уланская польская дивизия генерала Рожнецкого. Однако Платов оказался победителем и в этом бою.
30 июня Платов ушел на соединение с главными силами Багратиона, но по дороге от захваченных в плен саксонцев и пруссаков узнал, что Даву и Жером Бонапарт, четко согласовывая передвижения своих войск, смыкают вокруг 2-й армии кольцо окружения.
Он тотчас же сообщил об этом Багратиону, и тот, бросив обозы и отправив пленных и раненых в Петриков и Мозырь, сам крайне спешно пошел к Бобруйску, чтобы опередить Даву, продвигавшегося к Могилеву.
Однако Даву был лишь одной из опасностей, второй – не меньшей – был наседавший с тыла Вестфальский король. Багратион приказал Платову занять Романово и стоять против Жерома заслоном хотя бы до вечера 3 июля, пока он не оторвется от превосходящих сил Даву.
На сей раз донцам предстояло схватиться с кавалеристами дивизионного генерала Латур-Мобура. Платов дождался Латур-Мобура, и когда тот вывел на рысях почти весь свой отряд к берегу Морочи, казаки подожгли мост и стали через реку расстреливать из пушек скопившиеся у переправы войска.
…В это время 1-я армия, в штабе которой не знали точно, где теперь Багратион, шла не на восток, к Минску, а, уйдя на север, остановилась в Дриссе. Расстояние между армиями Багратиона и Барклая все увеличивалось, достигнув в эти дни максимума – трехсот верст.
2 июля Багратион дал еще один бой.
В этот же день 1-я армия вышла из Дрисского лагеря и двинулась к Полоцку.
Выбор направления 1-й Западной армии определялся тем, что нужно было встать на таком месте, чтобы находиться неподалеку от корпуса Витгенштейна, прикрывавшего Петербург, и контролировать две дороги – на Ревель и на Себеж, откуда шел к армии основной поток продовольствия.
И именно таким местом и был Полоцк.
Ранним утром 7 июля, когда Барклай был на конюшне и чистил коня, вдруг подъехала коляска государя и он вошел к своему военному министру, чтобы дать ему последние наставления и проститься с ним.
Александр поручил Барклаю общее командование армиями, но не облек его званием главнокомандующего, поставив в очень затруднительное положение, ибо и Багратион, и командующий 3-й Обсервационной армией Тормасов были в одинаковых с ним званиях полных генералов. Александр полагал, что должность военного министра уже сама по себе делает его главноначальствующим.
Свидание было продолжительным, но не потому, что царь ставил задачи перед своим военачальником, а потому, что оправдывался перед ним и объяснялся по поводу множества ошибок, оплошностей и неловкостей, допущенных по его вине за последние три недели.
Как не похож был Александр Павлович на совсем недавнего государя, отчитывающего в Вильно за то, что он не добился от своих подчиненных точного выполнения отданных им приказов!
Если и проскальзывали в их беседе назидательные нотки, то были они едва заметны и произносились тоном извинительным, и чаще, чем обычно, употреблял государь «не кажется ли вам?», «не думаете ли вы?», «подумайте, не следует ли?», и чаще иного: «впрочем, полагаюсь на опытность вашу и весьма разумную осторожность».
И даже то, что прощаться с ним государь приехал в конюшню, сам-второй, при одном лишь кучере, оставленном в коляске, и свидание провел с глазу на глаз, без свидетелей, и даже как будто таясь, – о многом сказало Барклаю, еще раз заставив подумать, как непредсказуем Александр, когда дух его слабеет и в сердце вкрадывается тревога.
Сев в коляску, Александр ласково улыбнулся и сказал:
– Прощайте, генерал, еще раз прощайте.
И было неясно, только ли о разлуке говорит он или же еще раз просит прощения за нанесенные им обиды.
И, как бы избавляясь от двусмысленности сказанного, Александр добавил:
– Надеюсь, до свидания.
И когда коляска тронулась, царь обернулся к стоявшему во фрунт Барклаю и сказал:
– Поручаю вам свою армию. Не забудьте, что второй у меня нет. Эта мысль не должна покидать вас.
Все, кто видел Барклая после отъезда царя из Полоцка, кто часто бывал рядом с ним, выполнял его задания и отвечал за данные им поручения, отметили, что он переменился на следующий же день.
Суровый – он стал крутым и жестким; холодный в служебном общении – теперь он часто казался ледяным, и так же преобразился его взор, приобретший цвет льда; требовательный – он стал педантично-взыскательным, ничего не прощающим и все прекрасно помнящим; немногословный – он стал почти безмолвным, ограничиваясь только приказами.
Казалось, что вся та непосильная ноша, которая называлась армией, легла теперь на плечи его одного, и он экономил всякую малую толику сил, сохранял в себе и каждую мельчайшую частицу энергии, оставляя все только для одного-единственного дела – сохранения вверенной ему армии.
Даже адъютанты редко видели, когда и что он ел, где и сколько спал: чаще всего он чутко задремывал в седле и пробуждался от малейшего шороха. И вместе с тем был он аккуратен и даже щеголеват, показывая всем, каким должен быть всегда полководец.
Глава втораяОт Полоцка до Смоленска
Государь, оставив армию в Полоцке, через Смоленск поехал в Москву. Поздним вечером 10 июля Александр прибыл в первопрестольную и остановился в Кремле. На следующее утро Кремль наполнили тысячные толпы москвичей.
В 9 часов утра царь вышел на Красное крыльцо и был встречен приветственными кликами народа и звоном колоколов всех московских колоколен и церквей.
Однако не только криками «Ура!» приветствовали Александра народные толпы. Он слышал рядом с собою: «Веди нас, отец наш!», «Умрем или победим!», «Одолеем супостата!».
Александр, сойдя с Красного крыльца, с трудом пробился сквозь густую массу народа к Успенскому собору. Свитские генералы с трудом сдерживали натиск людей.
По дороге к собору один из мещан, оказавшийся рядом с ним, сказал: «Не унывай, батюшка! Видишь, сколько нас в одной только Москве, а сколько же по всей-то России! Все умрем за тебя!»
Едва тринадцать саженей Александр прошел чуть ли не за четверть часа – так тесно стояли москвичи на его пути.
После торжественного молебна в Успенском соборе Александр взялся за дела, целью которых было объединение всех сословий России в борьбе с иноземным нашествием.
15 июля собрание московских дворян и купцов, сошедшихся в Слободском дворце, еще раз убедило Александра в том, что у него есть единодушная и мощная патриотическая поддержка и среди дворян, и среди купцов. А встреча с народом в Кремле свидетельствовала о том, что ремесленники, мещане и крестьяне также решительно готовы встать на защиту Отечества. Дворяне обязались сдать в армию каждого десятого крепостного и сами, почти все, кто был способен носить оружие, пошли на войну. Купцы, оказавшиеся 15 июля в Слободском дворце, собрали менее чем за полчаса по подписке два миллиона четыреста тысяч рублей (а за всю войну 1812 года московское купечество пожертвовало более десяти миллионов).
Вечером, за ужином в Слободском дворце, растроганный приемом москвичей Александр несколько раз повторил: «Этого дня я никогда не забуду».
Во время пребывания Александра в Москве он получил мирный договор о завершении войны с Англией, подписанный в шведском городе Эребру[57]57
Эребруский мир (18 июля 1812) восстановил дипломатические отношения России и Англии, Россия обязывалась прекратить континентальную блокаду.
[Закрыть], а по дороге в Москву, когда остановился 9 июля в Смоленске, ему был вручен и мирный договор с Турцией[58]58
Русско-турецкая война 1806–1812 гг. закончилась Бухарестским миром 28 мая 1812 г. К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья.
[Закрыть], подписанный в Бухаресте Кутузовым и уже ратифицированный султаном.
В Москве же Александр переосмыслил роль Дунайской армии адмирала Чичагова – 4-й армии было приказано идти на соединение с 3-й армией Тормасова, образовывая на левом фланге Великой армии группировку в пять конных и девять пехотных дивизий.
В ночь с 18 на 19 июля, пробыв в Москве восемь дней, Александр выехал в Петербург.
На сутки остановился он в Твери у Великой княгини Екатерины Павловны, бывшей замужем за тверским генерал-губернатором Георгом Петром, принцем Ольденбургским, и 22 июля прибыл в Петербург.
Он поселился во дворце на Каменном острове и ежедневно по многу часов занимался делами армии, по-прежнему отдавая распоряжения и Главной квартире, и части свиты, оставшейся при действующей армии. Царь стал вести во дворце полубивачный образ жизни, сам был одет в походную форму и, как и его приближенные, носил шпоры, что означало: они все еще вместе со своим монархом находятся в походе.
Поездка по России встряхнула Александра и дала ему новые силы и твердую уверенность, что бороться с Наполеоном следует без всяких компромиссов и до конца.
Об этом весьма красноречиво свидетельствует его разговор с фрейлиной Струдзой, записанный ею по горячим следам тогда же, летом 1812 года.
Александр сказал фрейлине: «Мне жаль только, что я не могу, как бы желал, соответствовать преданности чудного народа». – «Как же это, государь? Я Вас не понимаю», – возразила Струдза. «Да этому народу нужен вождь, способный его вести к победе; а я, по несчастью, не имею для того ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость протекла в тени двора, а если бы меня тогда же отдали к Суворову или Румянцеву, они меня научили бы воевать и, может быть, я сумел бы предотвратить бедствия, которые теперь нам угрожают». – «Ах, государь, не говорите этого. Верьте, что Ваши подданные знают Вам цену и ставят Вас во сто крат выше Наполеона и всех героев на свете». – «Мне приятно этому верить, потому что вы это говорите; но у меня нет качеств, необходимых для того, чтобы исполнить, как бы я желал, должность, которую я занимаю; ко, по крайней мере, не будет у меня недостатка в мужестве и в силе воли, чтобы не погрешить против моего народа в настоящий страшный кризис. Если мы не дадим неприятелю напугать нас, он может разрешиться к нашей славе. Неприятель рассчитывает поработить нас миром; но я убежден, что если мы настойчиво отвергнем всякое соглашение, то в конце концов восторжествуем над всеми его усилиями». – «Такое решение, государь, достойно Вашего Величества и единодушно разделяется народом». – «Это и мое убеждение; я требую только от него не ослабевать в усердии к великодушным жертвам, и я уверен в успехе. Лишь бы не падать духом, и все пойдет хорошо».
16 июля, когда Александр еще был в Москве, дворянское собрание Московской губернии избрало «в главнокомандующие Московской военной силы», то есть начальником народного ополчения, М. И. Голенищева-Кутузова. По воле царя и дворянства Петербургской губернии Кутузов должен был возглавить добровольцев и все те части Петербургской и Финляндской дивизий, которые находились в столице и ее окрестностях, и, кроме того, еще и Петербургское ополчение. Александр, утвердив его в новом качестве, назначил главой «Московской военной силы» генерал-лейтенанта графа И. И. Маркова – сподвижника Суворова, участника штурмов Очакова и Измаила. (Иногда фамилия Маркова писалась «Морков».)
Кутузов же остался начальником Петербургского ополчения, получив под команду сначала так называемый Нарвский корпус, предназначенный для обороны столицы, а затем и все войска Петербурга и Финляндии.
* * *
Отъехав из Полоцка в Москву, Александр оставил Барклая не только супротив Великой армии Наполеона, но и против сонма недоброжелателей и врагов, засевших в его собственной армии.
И если, сражаясь с французами, Михаил Богданович мог рассчитывать на помощь десятков тысяч своих солдат и офицеров, то тихую, невидимую войну с интриганами из Главной квартиры должен он был вести почти в одиночку, ибо его партия была намного слабее партии паркетных шаркунов-царедворцев.
Ко всему прочему, угождая этим господам, многие генералы и офицеры его собственного штаба стали их союзниками, и кто-то из них сразу же после отъезда Александра пустил довольно обидный каламбур: «Каково-то станет ныне Барклаю без царя во главе». Шутка особенно понравилась Константину Павловичу, давнему недоброжелателю Барклая, который после отъезда старшего брата стал претендовать в армии на первую роль – еще одного «августейшего вождя».
Трудно было отыскать в армии двух столь противоположных людей, как Барклай и Константин Павлович.
Порфироносный Константин, рожденный в царском дворце, презирал сына нищего арендатора, у которого и теперь не было ни крестьян, ни земли.
Довоенные досуги Константина Павловича были заполнены волокитством, кутежами, маскарадами и балами, неистовствами всякого рода – от организации убийств наемными бандитами до руководства оргиями, участники которых тоже нередко становились убийцами и насильниками, и даже Александру с трудом удавалось не доводить эти скандальные дела до суда.
Ненавидя всякий труд, цесаревич более всего любил мундирно-парадный блеск и мишуру, в то время как Барклай все свободное время тратил на чтение и получение полезных знаний, а в военном деле полагал самым важным созидание боеспособной армии, а не шагистику и фрунт.
Барклай был заботлив, не чужд снисходительности, всячески избегал телесных наказаний, в то время как Константин Павлович и в этом был ему совершенно противоположен.
И мог ли цесаревич потерпеть, чтобы им командовал такой человек?
К тому же Барклай пользовался репутацией исключительно храброго человека, а о Константине Павловиче знаменитый Денис Давыдов оставил в своих воспоминаниях такие строки: «Не любя опасностей по причине явного недостатка в мужестве, будучи одарен душою мелкою, неспособною ощущать высоких порывов, цесаревич, в коем нередко проявлялось расстройство рассудка, имел много сходственного с отцом своим».
Цесаревич сильно чувствовал нравственное превосходство Барклая и столь же глубоко и сильно ненавидел его.
Неприязнь между ними возникла еще пять лет назад, когда цесаревич был главой «мирной партии», доказывая необходимость заключения с Наполеоном мира, а Барклай – одним из немногих сторонников продолжения войны с ним.
Потом служба не сталкивала их, да и Александр был для Барклая надежной опорой и защитой, а в первые дни войны лишь один случай мог еще дальше испортить отношения между ними, но Барклай ловко избежал столкновения, не поступившись ни человеческими, ни служебными принципами.
…Однажды Барклаю доложили, что двое лейб-казаков, находясь в засаде, увидели медленно и, как им показалось, осторожно едущих офицеров. Их кони шли бок о бок, а офицеры тихо переговаривались по-французски.
Казаки пропустили французов мимо себя, а потом выстрелили им в спины. Оба были убиты наповал. Казаки привели коней с положенными поперек седел телами офицеров в полк, и тут оказалось, что убиты ими русские офицеры-гусары, которых приняли они за противников из-за чужеземного наречия да и из-за великой пестроты мундиров того времени.
Казаков арестовали, и по воинскому уставу за убийство офицеров им могло быть назначено лишь одно наказание – смертная казнь.
Барклай отправил дело генерал-гевальдигеру и велел судить их по всей строгости закона, зная, что последнее слово за ним, ибо приговоры, касающиеся всех его подчиненных до полковника включительно, утверждал после решения суда он сам. Особенно же относилось это к делам, по которым выносилось решение о расстреле.
Барклай немедленно издал приказ по армии, категорически запрещавший вблизи неприятеля, в разведке, на аванпостах, в боевом охранении говорить на каком-либо иностранном языке.
А дождавшись смертного приговора, наложил такую резолюцию: «Понеже оба приговоренных состоят по команде в лейб-гвардейской дивизии, шефом коей является е.и.в.в.к. Константин Павлович, отправить оный приговор е.и.в. для окончательного решения».
Константин Павлович, получив такую бумагу, не только приговор отклонил, но и представил того и другого казака к медалям.
Случай этот Константин Павлович запомнил и посчитал его за прецедент, когда бы его подчиненные находились в его юрисдикции.
И случилось так, что на следующий день после отъезда Александра из Полоцка, когда армия должна была выступать дальше – к Витебску, Конная гвардия, которой командовал полковник Арсеньев, опоздала выступить, и Барклай приказал Арсеньева арестовать.
А шефом полка был Константин Павлович, и Конная гвардия входила в состав его дивизии. Одного этого было довольно, чтобы вражда вспыхнула, однако дело пошло дальше – цесаревич приказал отменить арест, Барклай же свой приказ оставил в силе.
Не понимая принципиальной разницы в поступках казаков и полковника Арсеньева, Константин видел в приказе Барклая лишь одно – показать ему, цесаревичу, кто из них старше.
Кроме того, он считал, что в первом случае Барклай не был уверен в реакции государя, а во втором – понимал, что государь уже уехал без него, любое его слово – закон.
«Нет, – подумал Константин, – ошибаешься, плебей, я собью с тебя спесь, и ты еще встанешь передо мною на колени».
И авторитетом родного брата императора и его престолонаследника он при всяком подходящем случае порицал действия Барклая, высмеивал его распоряжения, выдавая себя за радетеля несчастного Отечества, готового пойти на штыки и лучше умереть, чем отдать еще хоть одно село.
Он часто восторженно отзывался о Багратионе, вскользь замечая, что довелось побывать им вместе в Италии у великого Суворова и что старик генералиссимус перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кто и как командует ныне русской армией.
А между тем армия отступала, и все большее число офицеров и генералов, образованной партикулярной публики и немалое число простолюдинов винили в том Барклая. И едва ли не громче всех порицал и хулил Барклая князь Багратион. Да и многие солдаты тоже согласны были с этим.
И вот новый марш на восток, и снова отступление идет весьма поспешно, но кто из тех, что шел к Витебску, знал, почему так быстро идут они на восток?
Никто, кроме Барклая.
А дело было в том, что туда же шла армия Багратиона и нужно было занять позиции возле города раньше, чем займут их французы. В этой гонке армия Барклая выиграла двенадцать часов и оседлала дорогу на Москву – главный предмет неприятельских усилий.
Опередить противника и кратчайшим путем выйти на Московскую дорогу помог Барклаю герцог Александр Вюртембергский, бывший в свое время витебским генерал-губернатором, много поездивший по Витебщине и прекрасно знавший топографию этих мест и все дороги.
Он-то и указал Михаилу Богдановичу кратчайший путь и наилучшую позицию для встречи противника.
Здесь Барклай узнал, что 2-я армия идет к Могилеву, и, желая помочь Багратиону, двинулся навстречу.
13 июля он послал к Багратиону Вольцогена с письмом, в котором писал: «Перед мыслью, что нам вверена защита Отечества в нынешнее решительное время, умолкнут все прочие рассуждения и все то, что в обыкновенное время могло бы повлиять на взаимные отношения: голос Отечества призывает нас к согласию, которое есть вернейший залог наших успехов. Соединимся и сразим врага России. Отечество благословит согласие наше».
Между тем войска под командованием Мюрата шли к Бешенковичам, приближаясь к Барклаю. Туда двигались: весь корпус Нея, три дивизии корпуса Даву, кавалерийские корпуса Нансути и Монбрюна.
Туда же шли войска принца Евгения, корпус Сен-Сира, Старая и Молодая гвардия, гвардейская кавалерия и корпус Груши.
Вечером 12 июля в Бешенковичи приехал и Наполеон, чтобы бросить все эти войска на 1-ю армию.
Барклай понимал, что из-за неравенства сил он не сможет победить противника, но все же остановился и стал готовиться к сражению. Он делал это для того, чтобы оттянуть на себя как можно больше вражеских войск и тем самым дать возможность Багратиону переправиться через Днепр и облегчить 2-й армии соединение с 1-й.
В семи километрах от Витебска произошла стычка 4-го корпуса Остермана-Толстого с авангардом Нансути. Французы отошли, а Остерман занял оборону возле Островно.
13 июля Мюрат двинул на Остермана всю кавалерию. 23 батальона и 23 эскадрона русских при 70 орудиях преградили путь огромным массам вражеских войск. Остерман-Толстой, отличительной чертой которого была неколебимая стойкость в обороне, мужественно отражал атаки французов до самой ночи.
Когда его спросили: «Что делать, если от огня вражеской артиллерии многие полки понесли огромный урон?» – Остерман ответил: «Ничего не делать. Стоять и умирать».
В таком же тоне ответил он и на вопрос командира батареи, сообщившего, что убито много канониров и побито много орудий и он не знает как быть дальше.
«Что ж, – сказал Остерман, – стрелять из оставшихся».
Барклай внимательно следил за боем и через своих адъютантов – Сеславина и Левенштерна – был постоянно в курсе всего происходящего. Он понимал, что силы Остермана небеспредельны и настанет час, когда нужно будет отдать приказ об отходе: к этому выводу он пришел, узнав, сколько вражеских войск находится под Витебском.
Барклай выдвинул 3-ю дивизию Коновницына и несколько кавалерийских полков на дорогу к Островно в 11 километрах от Витебска, чтобы создать прикрытие для войск Остермана, когда те начнут отход.
Отряд Коновницына занял очень хорошую позицию за глубоким оврагом. Слева находилось болото, а правый фланг упирался в берег Двины.
На рассвете 14 июля Остерман снялся с позиции и встал за спиною Коновницына.
В восемь часов утра Мюрат двинулся на Витебск, но наткнулся на позицию Коновницына. До пяти часов дня пытались французы прорваться через боевые порядки 3-й дивизии Коновницына, но тщетно.
В этом бою особенно отличились полки Перновский, Кексгольмский и Черниговский, предпринявшие успешную контратаку и отбившие не только орудия, попавшие перед тем в руки неприятеля.
Выдающуюся стойкость проявили солдаты и офицеры Ревельского пехотного полка. Много раз превосходящие силы противника пытались сбить его с позиции, но ревельцы, переходя в штыки, сумели не пропустить французов. После того как сражение окончилось, на поле боя, где дрались ревельцы, осталось более трех тысяч неприятельских солдат.








