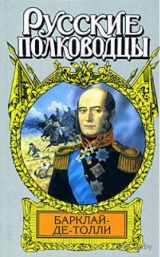
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
Конечно же и бумаги и офицеры прежде всего оказывались у полковника, потом некоторые попадали к его адъютанту. Однако, как правило, были это бумаги второго сорта, не очень уж важные, а визитеры появлялись перед Барклаем, когда приезжали в полк и уезжали из него. Лишь иногда, если офицер приезжал впервые или же имел высокий чин, Барклай водил его по полку, отвечая на вопросы, но никогда не вступал в разговор сам. Визитерам это нравилось, и вскоре в дивизии за адъютантом Кнорринга укрепилась репутация человека серьезного, сдержанного, не склонного к искательству и строго понимающего субординацию.
Прослышал об этом и начальник Лифляндской дивизии генерал-майор Людвиг Рейнгольд Паткуль и потому, когда приехал к псковским карабинерам сам, внимательно стал присматриваться к полковому адъютанту и всякий раз, посещая полк, открывал в молодом офицере все новые качества, весьма ему импонировавшие.
Но однажды, когда Барклай служил уже четвертый год, Паткуль, приехав, не обнаружил его в штабе и спросил о нем Кнорринга.
Кнорринг ответил сухо и коротко:
– В отпуску по домашним делам, господин генерал.
– Что-нибудь случилось? – спросил Паткуль.
– Поехал принимать наследство по смерти отца своего, – так же сухо ответил Кнорринг, и генерал понял, что полковник почему-то недоволен своим адъютантом, и тут же вспомнил, что вот уже четыре года Барклай остается корнетом, хотя мог бы уже быть представлен и к следующему званию. Однако же Кноррингу ничего не сказал, решив выяснить, какая черная кошка пробежала меж полковником и его адъютантом.
* * *
Готтард Барклай умер внезапно среди ночи от сердечного приступа в пятьдесят шесть лет. После смерти жены жил он анахоретом, и была возле него только одна старуха служанка. Она-то и обнаружила, что хозяин помер, и бросилась к соседям-арендаторам и небогатым помещикам, что жили в ближней округе. Старика наспех схоронили, а потом уж известили братьев, живущих в Риге, сыновей же покойного о том не уведомили только потому, что не знали, где они живут.
Братья всегда были далеки и чужды покойному, и потому сыновья Готтарда узнали о смерти отца уже после прошествия сорокового дня. Написал им о случившемся их двоюродный брат – Август Вильгельм, человек молодой и более сердечный, чем его отец и дядя.
Сыновья Готтарда списались между собой и договорились о дне приезда на мызу Лайксаар, чтобы побывать на могиле отца и распорядиться его имуществом.
Михаил, его старший брат Иоганн и младший Генрих – все трое офицеры – собрались в бедной опустевшей мызе, помянули по русскому обычаю покойного и решили, что делить имущество отца они не станут, а отдадут все, что было им нажито, младшей сестре Кристине, чтоб не осталась она бесприданницей, ибо было ей семнадцать лет и вступала она в тот возраст, когда девочки-отроковицы становятся невестами. Да и Вермелейнам было бы то изрядным подспорьем, ибо невесту отдать замуж было не дешевле, чем отправить офицера на службу.
Братья решили попросить любезного кузена Августа, сообщившего им о смерти отца, взять на себя заботы о продаже Лайксаара. У кузена это должно было получиться гораздо лучше, чем у кого-либо из них, – он шел по стопам деда Вильгельма, и ему уже сейчас прочили хорошее будущее в торговле. Так оно и вышло.
С тем братья и разъехались, крепко обнявшись на прощание.
А пока проходил у Барклая печальный отпуск, начальник дивизии произвел его в секунд-поручики, отдавая должное безупречной службе молодого офицера и желая хоть чем-то утешить в постигшем его горе. Однако, сколь ни пытался Паткуль понять, почему Кнорринг совершенно очевидно недолюбливает своего адъютанта и вместе с тем не желает расставаться с ним, каких-либо видимых причин обнаружить не смог.
И тогда Паткуль – человек умный и многоопытный, к тому же изрядный сердцевед – уразумел, что ежели какой зримой причины нет, то, стало быть, есть причина потаенная, которая всегда бывает намного опаснее видимой. Размышляя же над сим предметом, Паткуль пришел к выводу, что все дело здесь в одном из качеств характера Кнорринга, которое он хотя и пытался от окружающих тщательно скрыть, но все же до конца утаить не мог. И этим качеством было одно из самых низких чувств, к тому же и самых опасных для окружающих и более, чем многие прочие, разъедающих душу, великий смертный грех, вечная досада на чужое счастье – зависть.
В чем же мог высокообразованный тридцативосьмилетний полковник позавидовать двадцатидвухлетнему корнету, еще не видевшему ничего, кроме домашнего школярства да забытого Богом Феллина?
И тут Паткуль подсознательно, скорее чутьем, чем разумом, понял – Кнорринг увидел в Барклае того, кем он сам хотел быть, но не стал, даже получив все, что получил: и чин, и орден, и связи, и образование, и богатство. И этим отличием, которым обладал Барклай, был его непостижимый характер, выражавшийся во всем – в холодном, неколебимом взоре, в гипертрофированном чувстве достоинства и, наконец, в том, что внушал Барклай всем сталкивавшимся с ним, внушал, сам того не желая, – в ощущении, что предстоит ему особая судьба, что его ожидают великие дела.
Кнорринг понимал, что не может избавиться от Барклая, не почувствовав собственного унижения, ибо, кроме того, что был Богдан Федорович завистлив, еще более был он самолюбив и горд.
И потому продолжали они сосуществовать, не испытывая друг к другу никаких чувств, кроме скрытой от других настороженности.
Паткуль, глубже узнавая и того и другого, все больше и больше убеждался в правильности своего умозаключения и, когда в 1784 году вышел в отставку, продолжал следить и за Кноррингом, и за Барклаем из Петербурга.
В Петербурге был Паткуль вхож в самые высшие круги, был принят и ко двору. Однако, попав в среду аристократов и сановников, окруженных и немалым числом случайных людей – нередко интриганов и авантюристов, ищущих лишь удовлетворения собственного честолюбия и более всего стремившихся «попасть в случай», отставной генерал теснее, чем с кем-либо, сошелся с удивительным человеком, графом Фридрихом Ангальтом, шефом Финляндского егерского корпуса.
И однажды рассказал графу об интересном, подающем большие надежды секунд-поручике, обретающемся в Феллине. Граф Фридрих, более любивший, чтоб его называли Федором Евстафьевичем, не пропустил слова своего друга мимо ушей и 1 января 1786 года перевел секунд-поручика Михаила Барклая-де-Толли на должность своего адъютанта, выхлопотав ему одновременно и новое звание – поручик.
Так через восемь лет Барклай вновь оказался в Петербурге, но это был уже абсолютно другой человек, который совсем не был похож на наивного шестнадцатилетнего корнета, отправившегося невесть куда и невесть зачем в далекие края.
Глава четвертаяЕгерский капитан
Михаил взглянул на свой прежний дом с замиранием сердца. Флигелек показался ему совсем маленьким, почти игрушечным. Приближалась ночь, только в гостиной горела одинокая свеча, отбрасывая тусклый желтый круг на замерзшее окно и чуть подсвечивая лежащий у окна сугроб. Михаил поднялся на невысокое крылечко и перед тем, как постучать, сторожко прислушался.
Во дворике стояла полуночная деревенская тишина, и лишь из-за ворот доносились еле слышные шумы заснувшей столицы: под чьими-то шагами хрустел снег, где-то далеко запоздалые гуляки неуверенно пытались спеть песню, еще дальше выли и перебрехивались собаки, и если бы Барклай не знал, что он вернулся в Петербург, то мог бы подумать, что стоит в Феллине и утром снова услышит высокий и звонкий крик полковой трубы.
Барклай сошел с крыльца и приник лицом к освещенному окну. У стола, перед свечою, сидела его покойная матушка – только совсем-совсем молодая – и, подперев щеку рукой, задумчиво глядела в окно.
И здесь всплыла в памяти у него другая картина – живая, четкая, ясная, будто видел он ее не далее чем вчера.
…Вот так же стоит на столе горящая свеча, только Кристхен сидит на диване вместе с тетушкой и то мечтательно, а то бездумно, как сейчас, глядит в окно. А Миша и дядя Георг за столом. Миша сидит выпрямив спину и расправив плечи – так всегда требует дядюшка, внимательно слушает то, что всем им читает Вермелейн.
На столе свежая белая скатерть, в начищенном до блеска серебряном подсвечнике толстая новая свеча, и дядюшка, чуть-чуть напоминая пастора, читает им книгу о жизни Лютера, с его изречениями, содержащими бездну премудрости.
Миша слушает, уставя взор на край подсвечника, по которому вьется черная готическая вязь, и в сотый раз читает: «Господь – наша крепость» – еще одно великое изречение учителя всех немецких протестантов…
Боясь напугать сестру, Михаил снова взошел на крыльцо и тихонечко постучал в дверь.
Желтый свет переместился из одного окна в другое, ближе к двери. Сухо щелкнула деревянная щеколда, и Кристина спросила:
– Кто здесь?
У Михаила снова замерло сердце, и он тихо-тихо сказал только два слова:
– Кристхен, маленькая.
– Боже мой, – услышал он прерывающийся шепот, – Боже мой, не может быть!
О, сколько радости выплеснулось на него этой ночью! Кристина и сама не пошла спать, и позвала дядю и тетю в гостиную. И они, нарушая добрые старые обычаи благонравной немецкой семьи, где всему свое время, вышли из спальни в шлафроках, тетушка в папильотках, а дядюшка в спальном колпаке, и, затормошив Михаила, затискав и зацеловав, не уставали повторять:
– Каков молодец! Нет, скажите на милость, каков молодец, право!
И, вконец презрев правила добропорядочности, решили сесть за стол, чтобы, не дожидаясь утра, расспросить племянника, как он оказался в Петербурге и зачем приехал. Дядюшка после первых же вопросов залихватски махнул рукой и достал из буфета пузатую зеленую бутылочку, к которой позволял себе прикладываться лишь по большим праздникам, да и то придя из кирхи. И тут Михаил понял, как сильно любят его здесь, ибо приезд его стал для Вермелейнов подобен Пасхе или Рождеству…
На следующий день поручик Барклай приехал с визитом к генерал-майору и кавалеру Паткулю.
На Барклае был праздничный мундир с белым колетом, сабля с серебряным эфесом, серебряный же эполет на левом плече и ниспадающий из-под него серебряный аксельбант – знак адъютантской службы, – на конце которого, как бы подтверждая это, был прикреплен карандаш для записей распоряжений начальника. Новый парик и сверкающие ботфорты дополняли парадный портрет высокого, стройного, молодого адъютанта командира Финляндского егерского корпуса его высокографского сиятельства Фридриха Ангальта.
Паткуль был одет по-домашнему: в старом камзоле, в поношенных форменных шароварах, мягких сапожках. Парика на нем не было, и оттого лоб генерала казался непомерно высоким, а лысая голова – большой и блестящей.
Выслушав сделанное по всей форме обращение, Паткуль улыбнулся и крепко пожал гостю руку. Затем, взяв его под руку, провел в кабинет и, учтиво усадив, задал сначала обычные в таких случаях вопросы. Однако же вскоре перешел к делу и стал вводить своего протеже в существо ожидающих его задач. И прежде прочего стал рассказывать о его новом начальнике графе Ангальте.
– Граф Фридрих – человек особенный и для знатного иноземца даже неправдоподобный, – начал генерал. – Начну с его происхождения, тем более что это потому весьма важно, что состоит он хотя и в дальнем, но все же в признаваемом родстве с самою государыней. Это, как понимаете, сюжет особый, поскольку связан он с династией. Однако как своему говорю вам, Барклай, и об этом: во-первых, сие может оказаться полезным, а во-вторых, слухи о том все равно дойдут до вас, да могут оказаться несообразными истине.
Барклай ничуть не удивился такой откровенности генерала, ибо были они с Паткулем из одного лукошка – остзейцы, протестанты, офицеры, но более всего – члены столь же могущественного ордена, каким был в России, к примеру, орден братьев-каменщиков, сиречь масонов. В отличие от последних, остзейские дворяне, занявшие в последние восемьдесят лет многие важные посты и в государственном аппарате, и в армии, не образовывали секретных лож, не давали друг другу торжественных и страшных клятв, не учиняли окутанных тайной средневековых обрядов, но их негласное содружество было не слабее масонства, ибо зиждилось на таких кирпичах общественного мироздания, как единая кровь, единая вера и единое дело. Служившие России протестанты крепко держались друг за друга. И из их среды – немцев и шведов, датчан и швейцарцев, шотландцев и англичан – вышли фельдмаршалы Миних, Ласи и Брюс, генералы Гордон и Боур, Лефорт и Вейде, адмиралы Крюйс и Грейг, государственные деятели Остерман и Бирон, президенты Академии наук Блюментрост и Кайзерлинг, Корф и Бреверн.
Однако полная правда состояла еще и в том, что очень многие иностранцы – офицеры и администраторы, ученые и инженеры, архитекторы и врачи и многие-многие другие мастера и знатоки своего дела и своих ремесел – служили России не за страх, а за совесть, и их собратство было отчасти вынужденным, ибо должны они были отвоевывать себе место под солнцем, конкурируя с сильными, не менее их предприимчивыми и тоже сплоченными российскими дворянами – русскими, малороссами, татарами, которые еще задолго до их появления в России уже составляли стародавние чиновничьи и военные корпорации.
А меж тем Паткуль продолжал:
– Один ученый канцелярист из герольдии, ведающей иноземными родами, говорил мне совершенно определенно, что граф Фридрих и государыня Екатерина Алексеевна имеют общего предка, жившего два века назад. Это был обладатель земли Ангальт князь Иоахим Эрнст. В землю Ангальт входили и Цербст, где родилась государыня, и Дессау, где родился граф Фридрих.
– Извините, господин генерал, – почтительно перебил рассказчика Барклай, – я что-то не возьму в толк, отчего владетельная особа, какой является Фридрих Ангальт, не носит титул принца, как полагается столь могущественному потентату, а именуется всего лишь графом?
– Браво, Барклай, браво! – не без удовольствия воскликнул Паткуль. – Вы внимательны, и это делает вам честь. Действительно, вельможа такого градуса не может иметь титул ниже княжеского, а вместе с тем Фридрих Ангальт всего лишь граф.
Тут Паткуль лукаво улыбнулся и, понизив голос, словно по секрету, сказал:
– Виною тому романтическая история, приключившаяся с его отцом – наследным принцем Вильгельмом-Густавом Ангальт-Дессауским. Принц сокрушительно влюбился, совершенно потеряв голову, в очаровательную купеческую дочь Иоганну Софию Герре. Об открытом венчании не могло быть и речи, и принц, чтобы не потерять права на престол, стал двоеженцем, вступив с купчихой в тайный брак. Иоганна София родила принцу пятерых сыновей, и четвертым из них был ваш командир – граф Фридрих.
При последних словах Паткуля Барклай снова вопросительно взглянул на него, и генерал, перехватив его взгляд, тотчас же пояснил:
– Принц Вильгельм умер в сорок восьмом году, и после этого австрийский император Франц дал вдове покойного и всем его сыновьям фамилию Ангальт и достоинство графов Священной Римской империи[23]23
Священная Римская империя, основанная германским королем Оттоном I в 962 г., кроме Германии, занимавшей господствующее положение, включала в себя Северную и Среднюю Италию, Чехию, Бургундию, Нидерланды, швейцарские и другие земли. Постепенно утрачивая свое значение и распадаясь, она просуществовала до 1806 г. Иметь титул Священной Римской империи было почетно, недаром Петр I долго его добивался от Венского двора для своего фаворита А. Д. Меншикова.
[Закрыть]. Поэтому, когда Фридрих три года назад приехал в Россию, он стал известен здесь как граф Ангальт.
Граф был принят на русскую службу с чинами генерал-поручика и генерал-адъютанта, получив под команду Финляндский егерский полк.
И вот здесь-то Ангальт проявил себя со стороны самой неожиданной – он вдруг попросил государыню позволить отлучиться от дел, ему порученных, и поездить по России, где, как он сказал, ему предстоит жить и умереть. Когда же государыня спросила, как мыслит он этот несколько экстравагантный для генерала вояж, Ангальт попросил считать его поездку служебной командировкой для инспекции войск и осмотра укреплений. А так как и войск у нас довольно, и укреплений предостаточно, к тому же найти их можно в любом районе империи, то и уехал наш граф куда глаза глядят и странствовал, где хотел, целых три года. Возвратившись же в Петербург, он поднес государыне целую стопу путевых заметок, целый портфель донесений и немалую папку ландкарт.
И оказалось, что ездил граф по России не пустым ротозеем, не искателем приключений и не бездельником, отлынивающим от службы, а человеком пытливым и всем интересующимся, желающим постичь страну, в которой предстояло ему, как сказал он государыне, жить и умереть.
Государыня, прочитав все, что поднес ей граф Фридрих, пожаловала ему за труды сразу два ордена – Владимира и Александра Невского.
Прежде чем рекомендовать вас к нему в адъютанты, я многократно беседовал с графом и скажу вам, Барклай, редко доводилось мне говорить с человеком столь умным, столь образованным и по-настоящему глубоким. Он, кажется, правильно понял Россию, хотя мало кто, даже родившись здесь и прожив в ней всю жизнь, может сказать, что понимает эту в общем-то странную и необыкновенную страну.
Паткуль задумался и замолчал, а потом вдруг сказал:
– Уму всегда противополагается чувство, как и грубой материи противополагается душа. И иногда там, где бессилен ум, значительно более состоятельными оказываются чувства, а где бессильно познание опытное, от ума идущее, там победу одерживает духовное проникновение, исходящее из сердца.
Так, наверное, и Россия. И граф Фридрих, скорее всего, понял ее сердцем, душою почувствовав сокровенный смысл этого великого сфинкса. Во всяком случае, он вник в ее земледелие, в ее промыслы и мануфактуры, попытался разобраться в нравах и обычаях огромного множества встреченных им разноплеменных аборигенов. И, связывая все воедино, пришел граф к генеральной мысли, что ждет столь обширную и богатую страну великое будущее, если только не пожалеть сил на то, чтобы улучшить ее состояние, а более всего сделать ее народ просвещенным.
Паткуль вновь помолчал немного, а потом, завершая рассказ, сказал:
– А ведь государыне ничто не могло показаться столь приятным, как эти размышления графа Фридриха, ибо нет большей российской патриотки, чем императрица. – И вдруг засмеялся: – Наверное, земля такая – Ангальт, что, подобно питомнику, выращивает таких отчизнолюбцев и ревнителей к процветанию России, каковы и граф Фридрих и матушка-государыня!
Ангальт встретил своего нового адъютанта сердечно и просто. Казалось, что эта бесхитростность присуща ему от младых ногтей, как и сквозящая во взгляде доброта и всяческое отсутствие чванства.
«Видно, ангальтский питомник выращивает не только российских отчизнолюбцев, но и подлинных мудрецов, ибо простодушие всегда сопутствует великому уму», – подумал Барклай, только познакомившись со своим начальником.
Говорили, что и бывшая ангальтская принцесса София-Фредерика-Амалия, а ныне российская императрица Екатерина Вторая тоже весьма проста в обращении, а между тем столь мудра, что прозвание ее поэтами Северною Минервой уже не воспринимается как некое стихотворное преувеличение.
Между тем не успел Барклай как следует вникнуть в дела, познакомиться со всеми офицерами и побывать во всех батальонах, как совершенно неожиданно графа Ангальта назначили еще и генерал-директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.
И тут оказалось, что новое поприще увлекло графа гораздо сильнее, чем служба в войсках. По целым неделям, а потом и по месяцу не появлялся в штабе егерей Федор Евстафьевич, как теперь уже постоянно называли его все.
А для Барклая это означало, что почти вся переписка, которую вел командир корпуса, теперь становилась его делом. Это было трудно и ответственно, а нередко довольно мудрено, но в то же время и полезно, потому что заставляло вникать в такие проблемы и постигать такие истины, до которых он дошел бы еще через много лет, да и то если бы стал генералом.
Но бумаги бумагами, а кроме того и прежде всего нужно было понять новую службу, новый род войск – егерей.
Егеря оказались во многом сродни карабинерам – во многом, да не во всем.
Сходство было в том, что и карабинеры и егеря появились в одно и то же время – в начале 60-х годов. Первый егерский батальон был сформирован по приказу Румянцева за шесть месяцев до рождения Барклая. Правда, этот батальон долго оставался единственным, но в полках появлялись одна за другой егерские команды силой от полуроты до роты. И лишь с 1770 года стали формироваться отдельные егерские батальоны, а еще через пятнадцать лет – и егерские корпуса четырехбатальонного состава.
Егерские корпуса были созданы по инициативе новоиспеченного фельдмаршала и президента Военной коллегии Григория Александровича Потемкина – самого влиятельного вельможи в России, оказывавшего сильнейшее воздействие на императрицу даже и после того, как перестал быть ее фаворитом. Любое дело, за которое брался Потемкин, он вершил с государственным размахом, с умом и предусмотрительностью, с четким пониманием перспективы, всегда добиваясь безукоризненного его выполнения.
Создание егерских корпусов было давней его мечтой, и, как всегда, начал он с того, что изложил на бумаге основные положения, оформленные им самим в виде инструкции. Претворение в жизнь нового своего почина президент Военной коллегии считал особенно важным.
По инструкции егерские части должны были состоять «из людей самого лучшего, здорового и проворного состояния». Под стать удальцам егерям должны были подбираться и молодцы офицеры. Им подобало отличаться «особою расторопностью и искусным примечанием различностей всяких военных ситуаций и полезных, по состоянию положений военных, на них построенных». Инструкция – а значит, и сам ее автор, господин президент Военной коллегии и генерал-фельдмаршал – требовала, чтобы егеря мастерски владели оружием, отлично стреляли, ибо само слово «егерь» означало «стрелок-охотник». Стало быть, должны были они так же мастерски, как заядлые охотники, часами не шелохнувшись сидеть в засаде, не хуже охотничьей гончей брать след и в бою, надеясь на товарищей, все же более всего рассчитывать на себя. Последнее обстоятельство было особенно важным, так как егеря чаще всего действовали в новом тогда «рассыпном строю», когда каждый стрелок был независимой боевой единицей. Новшество это, как узнал Барклай, пришло в Россию от североамериканских инсургентов – отличных вольных стрелков-партизан, успешно сражавшихся с полками англичан, которые вели бой старым линейным строем.
Однако сообщение это почему-то вызвало у него несогласие. И сначала он не мог понять почему, пока вдруг не вспомнил, что Вермелейн рассказывал ему, как такой рассыпной строй еще в Семилетнюю войну[24]24
Семилетняя война – война 1756–1763 гг. между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией – с другой. Причиной ее было обострение англо-французской борьбы за колонии, а кроме того, столкновение агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Выиграла Великобритания, победив Францию и обретя торговое первенство.
[Закрыть], то есть за двадцать лет до американцев, применил Румянцев.
«И в самом деле, – подумал Михаил, – ведь первый-то егерский батальон именно тогда и был создан». С тех пор он всякий раз перепроверял все, что слышал, и ко многому вроде бы очевидному и бесспорному относился критически, особенно если речь шла о приоритетах военных или технических.
Егеря находились на особом положении, и потому у них было гораздо меньше строевых занятий, той самой экзерциции, которой в основном обучали в линейных полках. Учебные же занятия, или «шуль-маневры», как их называли, были заполнены стрельбой, штыковым боем, метанием гранат, маршами и походами, ибо создавались эти корпуса не для разводов и вахт-парадов, а для боя. И потому они одни во всей армии не носили париков, а стриглись по-казацки – «в кружок». Егеря носили не тесно облегающие мундиры и обтягивающие ноги лосины, а удобные зеленые куртки и свободные шаровары. Их оружием были не тяжелые длинноствольные мушкеты, а легкие нарезные обрезы – «штуцера», к которым вместо штыка прикреплялся длинный нож, и кроме того, у всех егерей, а не только у офицеров, имелись и пистолеты.
И все было бы хорошо, если бы не весьма малая опытность офицеров-егерей, часто столь же зеленых, как и Барклай. Набирали в корпус «людей самого лучшего, здорового и проворного состояния», способных стрелять и драться врукопашную лучше своих солдат, таких же молодцеватых здоровяков, а значит, среди егерей совсем не было пожилых офицеров и, стало быть, не было и опыта.
Сам граф Фридрих в этом смысле был не в счет. Да от генерала ни в одном роде войск не требовалось быть образцом на плацу и в манеже, довольно было вальяжной осанки, седых усов да в нужных случаях – грозно насупленных бровей. А если еще наделил Господь зычным голосом, то и вовсе ничего более не было нужно, и слыл такой отец-командир «орлом и хватом».
И все же те обер-офицеры, что были посерьезнее, понимали, что сделать из каждого солдата удальца-ухореза, который был бы и отважен, и расторопен, и толков, и силен, – ох какая непростая задача! Но еще многократ труднее создать из нескольких тысяч удальцов четкий, безотказный, послушный командирскому слову организм, который мгновенно и точно исполнял бы все, что потребовал бы от него его бог – командир.
Граф Федор Евстафьевич во многом был самобытен. Он чем-то напоминал Барклаю дедушку Лео, чем-то дядюшку Георга.
Был граф холост, никто не знал, водились ли за ним в прошлом какие-либо амуры, да и не в том дело – сейчас жил командир корпуса подлинным анахоретом, а каждому из офицеров-егерей был завсегда родным отцом – и совета попросить было у него можно, и денег, – ни в чем Федор Евстафьевич молодым людям не отказывал.
Завел он на квартире у себя офицерские посиделки, куда на огонек сходились и прапорщики и капитаны. Общество собиралось немалое, люди во многом разные, но единые в том, что все они были товарищи, а предметом их интереса была общая служба.
За длинным, не очень-то хлебосольным столом командира – попробуй-ка накорми всякий раз десятки здоровых молодых мужчин, собиравшихся после стрельб или экзерциций, – ничего, кроме чая, не пили, а оттого и беседы шли серьезные, трезвые, вдумчивые, и не просто о житье-бытье. Многое узнавалось здесь из того, что не смогли узнать они в Сухопутном кадетском корпусе – правда, бывших кадетов было среди них по пальцам перечесть, – и еще более – чего нельзя было узнать дома, тем более что большинство учились у себя в поместьях – в селах, а то и деревеньках, часто у кого придется. Такие застолья – прообраз будущих полковых офицерских собраний – давали господам офицерам необычайно много.
Федор Евстафьевич, человек книжный, великий любитель чтения и разумной беседы, вскоре взял за правило поручать господам офицерам делать «рефлекцы», то есть небольшие сообщения, в которых речь шла о предметах, представляющих для всех собравшихся насущный интерес.
Слушали рефлекцы и по военной истории, и по фортификации, и по тому, как следует вести артельное ротное хозяйство. Даже сей предмет оказался весьма пользителен, ибо за работами строевой походной жизни как-то недосуг было уследить за делом, более привычным военному чиновнику из кригс-комиссариата. И потому не без интереса слушали гости и о том, сколько на содержание солдата отпускается, и в какие сроки получают вещи мундирные и амуничные, и как солдатам и унтер-офицерам надобно жалованье выдавать, и какие при том учинять вычеты.
Но все эти рефлекцы, затрагивая многие различные стороны военной службы, были как бы маленькими разрозненными смальтами огромной мозаичной картины, какою и была военная служба в целом. А вот систематического, цельного и последовательного изложения всего до нее относящегося не было. Не было и главного ее элемента – собственно егерской службы и как ей обучать надлежит.
И вот однажды граф преподнес такой сюрприз, что все ахнули. После прослушанного рефлекца и уже после чая он, как-то по-особенному, по-заговорщически взглянув на молодежь, приподнял над столом довольно объемистую тетрадку и, помахав ею, сказал:
– А вот, господа, квинтэссенция всего, что нам надобно, тот самый тяжелый элемент мироздания, что и составлял, по мысли древних, самую сокровенную сущность вещей. У нас, немцев, называется это «мозгом зерна», то есть глубинной сутью того, над чем человек размышляет.
Секунд-майор Петров, человек незамысловатый, приходивший в собрание не столько за полезными умствованиями, сколько для того, чтоб понравиться начальству, проговорил с нетерпением:
– Да не томите, ваше превосходительство, откройте, Какой такой философский камень отыскать вы изволили?
– А вот, господа, и не философский камень вовсе, а сочинение, нашим же братом, егерским офицером, написанное, кое и называется по-военному просто, безо всяческих затей: «Примечания о пехотной службе вообще и о егерской особенно».
– Кто же сочинил сие? – спросил еще раз Петров.
– Генерал-майор Кутузов, Михайла Ларионыч, командир Бугского егерского корпуса, – ответил Ангальт. – Приятель мой, что дал мне эти «Примечания», весьма похвально об авторе их отзывался – и умен-де, и службу егерскую отлично знает, толково, по делу, без ненужных для сего предмета псевдоученых умствований. Прочитав сочинение господина Кутузова, пришел я с автором его в полное согласие и даже скажу – единомыслие и почитаю работу его для нас, егерей, весьма полезною. А теперь позвольте, кто из вас господа, пожелает из «Примечаний» генерала Кутузова к следующему собранию нашему рефлекц составить?
Трое офицеров тут же подняли руки. Ангальт посмотрел на них с улыбкой и протянул тетрадь Барклаю: может быть, оттого, что сидел он к нему ближе других, а может быть, и вовсе не потому.
Тетрадь толщиною в сто листов была, судя по многому, копией с «Примечаний». Снимал копию не писарь – почерк был нехорош, отсутствовали непременные канцелярские завитушки, а главное – стояли на полях тетради пометы, из коих явствовало, что переписчик был егерским офицером, живо обсуждавшим с автором «Примечаний» многие перипетии пехотной службы вообще и егерской в частности.
Сев, вскоре же после собрания у Ангальта, за сочинение рефлекца, Барклай и на самом деле обнаружил в авторе человека глубокого, основательно знавшего сей предмет.
«Первейшей причиной доброты и прочности всякого воинского корпуса, – писал Кутузов, – является содержание солдата, и следует сей предмет считать наиважнейшим. Только учредив благосостояние солдата, следует помышлять о приготовлении к воинской должности…»
Говоря о назначении егеря, Кутузов писал, что прежде всего состоит оно «в верной стрельбе, совершаемой и в тесных проходах, и в гористых и лесных, где он, часто и поодиночке действуя, себя оборонять и неприятеля вредить должен».
А для того чтобы эффективно «вредить неприятеля», надобно было егеря как следует верной стрельбе учить. Кутузов обучал своих солдат так: сначала, еще до стрельбы, они насыпали земляной вал в сажень высоты, и столь длинный, чтоб могли перед ним стоять мишени, изображающие фигуру высокого человека в два аршина и десять вершков[25]25
Сажень – 2 м 13 см, два аршина и десять вершков – 187 см.
[Закрыть]. Вал следовало делать и выше и шире цели, чтобы после окончания стрельбы можно было отыскать в нем большую часть выпущенных по мишеням пуль.








