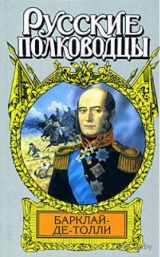
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
К сим обстоятельствам прибавить еще должно недостаточную защиту обширных пределов наших, скудость в запасах нужнейших к продовольствию предметов, недостаток в крепостных орудиях, снарядах, порохе и прочем и, наконец, истощенные источники денег в казне.
Сообразив все сие, ваше сиятельство, без сомнения, согласитесь со мною в необходимости прекратить в наискорейшем времени настоящую с Портою Оттоманскою войну.
Неминуемый сей жребий предусмотреть можно из настоящего положения раздробленных и рассеянных военных и политических наших сил.
Я не осмелился бы ваше сиятельство сим беспокоить, если бы не предвидел неизбежную войну, следствие коей тем может быть для нас пагубнее, что в настоящее положение наших финансов не в силах содействовать пожертвованием достаточной суммы, дабы быстрыми и решительными мерами привести в устройство стесненные недостатками военные силы и тем утвердить безопасность нашей империи.
Примите, милостивый государь, при сем уверение чувствования совершенного моего к вам почтения».
Окончив письмо и положив его в бювар, где отлеживались некоторое время наиболее важные бумаги, пока не принимал он окончательного по ним решения, Барклай спросил, здесь ли начальник медицинской экспедиции Военного департамента и начальник Инспекторского департамента.
Было уже семь часов, и именно в это время Барклай начинал прием докладов от начальников департаментов своего министерства и других крупных военных чиновников.
Оба генерала были здесь, и Михаил Богданович начал беседу с ними с выяснения того, как быть с набором рекрутов, что сделать, чтоб избежать изъянов при освидетельствовании новобранцев.
Дело было в том, что совсем недавно Александр, зайдя в рекрутское депо, обнаружил в партии молодых солдат старого и слабого мужичонку Осипа Смолина, которого прислал из Ямполя майор 32-го егерского полка Рихтер. Государь удивился, что столь непрочный к службе воитель оказался не где-нибудь, а в егерской команде, и велел подвергнуть Рихтера за столь нерадивое отношение к службе штрафу.
Барклай был государем поставлен о том в известность и не ограничился взысканием с Рихтера проторей, а поставил это дело должным образом и представил Государственному совету доклад, после чего последовал царский указ о наказании гражданских, военных и медицинских чиновников штрафом в пятьсот рублей за прием на службу непригодных к строю рекрутов.
Однако же, как оказалось, проявил Михаил Богданович излишнее рвение, потому что чиновники, испугавшись штрафа, стали усердствовать сверх меры, признавая годными лишь каждого второго рекрута.
Тогда пришлось впервые в истории русской армии составить строгий перечень болезней, при обнаружении коих новобранец признавался непригодным. Здесь, правда, господа офицеры из Инспекторского департамента, производившие рекрутские наборы, и из медицинской экспедиции, обследовавшей отбираемых, ударились в другую крайность, снизив требования до предела.
Барклаю показывали предварительные разработки «Положения о назначении нижних воинских чинов в неспособные», и он велел еще над ними поработать, разделив рекрутов на «совершенно неспособных, сиречь негодных ни к какой службе» и на «полунеспособных», то есть пригодных к службе в тыловых гарнизонах, инвалидных ротах, в обозах и лазаретах.
Теперь вот начальник Медицинского департамента, маленький, сухонький генерал Шмидт, молча положил перед министром новый вариант Положения, ожидая вопросов и возражений. Совершенно неспособными признавались рекруты, страдающие одной из сорока четырех болезней – от дряхлости и совершеннейшей глупости, паралича и эпилепсии до совершеннейшего недержания мочи и запущенного сифилиса.
Непригодными считались тяжелые астматики, чахоточные, слепые и горбатые.
А вот полунеспособными, но пригодными к нестроевой службе признавались недужные по списку из сорока болезней. И здесь были и страдающие частными параличами – век, губы, горла; имеющие «невеликий зоб» и «невеликий горб», и обладатели «заячьей губы», и те, у кого не хватало сряду пяти передних зубов на одной челюсти, и хромые, и беспалые – правда, нужно было иметь не менее трех пальцев на руке, и те, кто от природы «совершенно лишен был детородного уда».
И, читая этот длиннейший перечень скорбей и хворей, вспоминал Барклай и лазарет под Очаковом, и госпитали по всем градам и весям, в коих спасались из последних сил от смерти вчерашние чудо-богатыри, превращенные молохом войны в ослепших, оглохших, безногих и безруких калек, ставших в одночасье увечными и убогими, чьим уделом отныне становилась либо богадельня, либо церковная паперть.
Читая с карандашом в руках список недугов, Барклай не всегда понимал, о какой именно болезни вдет речь, и, помечая неясные ему сочетания слов, тут же спрашивал о том начальника медицинской экспедиции. Старичок бойко отвечал на латыни, иногда помогая министру и немецким истолкованием ученых терминов.
Закончив чтение, Михаил Богданович попросил доктора проставить повсюду, где в том выявилась необходимость, латинские аналоги, чтобы у врачей в приемных комиссиях не было неясностей, приводящих к разночтениям и непониманию.
Доктор взял проект готовящегося документа и быстро стал вписывать на полях латинские фразы, а Барклай стал выяснять с другим генералом положение дел по последнему рекрутскому набору.
Генерал – начальник Инспекторского департамента – сразу же сказал, что наибольшие трудности возникают не с рекрутами, а с теми помещиками, кои обязаны рекрутов сдавать. И виною тому многие юридические лазейки, оставленные в одиннадцати предшествующих указах о рекрутских наборах с 1715 по 1799 год.
И хотя последний указ запрещает засчитывать рекрутов, сданных на службу ранее, и обязывает сдавать по три души из каждых пятисот, крючкотворцы находят увертки, чтоб оставить мужиков в своих хозяйствах либо на оброке.
– Да и того, что имеем ныне, Михаил Богданович, крайне мало, хотя и пошли на службу сто пятнадцать тысяч человек. И мнится мне, не избежать нам еще одного, а то и двух наборов в самое ближайшее время.
Затем генерал-инспектор стал докладывать, как создаются новые рекрутские депо – учебные пункты, где новобранцы проводят первые полгода службы, привыкая к новой для них жизни, совсем не похожей на ту, что осталась в деревне. Депо, в которых готовились пехотинцы, было уже более тридцати, да кроме того, в каждом полку один из батальонов состоял из рекрутов. Были депо и для артиллеристов, и для кавалеристов.
– Как думаете, князь, – спросил Барклай генерал-инспектора, – что, если сформируем мы из этих рот, эскадронов и батарей резервные дивизии и бригады?
– Сразу не отвечу, Михаил Богданович, но идея, кажется, неплоха. Позвольте подумать и затем доложить, как будем сие осуществлять и в какие сроки.
К этому времени главный военный доктор кончил писать свою латынь и не без гордости протянул исписанные листы министру. Еще бы! Настрочить десятки латинских фраз, не заглянув в словарь, было немалым искусством!
Барклай, посмотрев на доктора, понял, какие чувства обуревают его, и одобрительно улыбнулся, отправив Положение в бювар, где уже лежало письмо Румянцеву.
Достав из кармана старый верный хронометр, доставшийся ему в наследство от принца Ангальта, Михаил Богданович взглянул на циферблат, и оба генерала поняли, что время их истекло, – к тому приучены были все подчиненные нового министра, знающие, что Барклай пунктуален, не терпит суесловия и когда смотрит на часы, то сие означает, что на очереди у него другой посетитель.
Этим другим посетителем стал генерал-лейтенант граф Апраксин, возглавлявший в министерстве комитет, которому надлежало изыскивать способы к искоренению лишней писанины и всемерному упрощению делопроизводства во всех отделах, экспедициях, комитетах и прочих подразделениях Министерства военно-сухопутных сил.
Военное министерство было одним из самых громоздких центральных учреждений России, где служило и наибольшее количество чиновников. Попадая сюда, офицеры и генералы из боевых командиров превращались в заурядных чиновников, тех же столоначальников и канцелярских служителей, секретарей и протоколистов, архивариусов и экзекуторов, только при погонах и эполетах, в аксельбантах и ботфортах.
Что же касается волокиты и бюрократизма, рутины и казнокрадства, то военные ни в чем не уступали своим статским коллегам.
На сей раз Барклая интересовало положение дел в двух самых жульнических экспедициях – провиантской и комиссариатской.
Он уже трижды делал строгие выговоры возглавлявшим их генералам – барону Меллер-Закомельскому и Татищеву, но дело с места не сдвигалось.
Выслушав невнятные объяснения Апраксина и в душе признав, что нет в России Геракла, способного вычистить авгиевы конюшни отечественной бюрократии, он не стал распекать графа, решив сначала как следует обдумать ход дальнейших действий, посоветовавшись прежде с Зевсом российской бюрократии – Михаилом Михайловичем Сперанским.
Барклай холодно попрощался с Апраксиным, и, едва тот вышел, адъютант доложил, что на аудиенцию прибыл князь Волконский.
* * *
Барклай тут же пошел навстречу ему, а князь уже неспешно входил в кабинет как свой человек, коему приглашения не требуется.
Волконский был любимцем государя, но Барклай встречал его столь дружелюбно не только поэтому, а прежде всего питая к Петру Михайловичу искреннюю симпатию за его необыкновенное трудолюбие, огромные познания в военном деле и незаурядный ум.
Барклай знал, что этот тридцатитрехлетний генерал-адъютант, Рюрикович по крови, сделал карьеру не только благодаря своему аристократическому происхождению. Князя записали в Преображенский полк в тот самый день, когда и крестили, и, как обычно, дали увольнительный паспорт до окончания курса наук, но уже с четырех лет засадили за книги, и он с удовольствием стал учиться, что случалось не так уж часто.
Обучали его лучшие петербургские учителя, был он умен, прилежен и на шестнадцатом году начал действительную службу, а на восемнадцатом был произведен в подпоручики гвардии. Князь Петр тогда же поехал со своим дядей, генерал-майором Волконским, в Берлин с поздравлением к прусскому королю по случаю очередной свадьбы в его семье.
С тех пор по ведомствам дворцовому и дипломатическому служил он не менее, чем по ведомству военному, что принесло князю массу полезных навыков.
С Павлом, Александром и Аракчеевым познакомился Волконский в тот день, когда приехали они в Зимний дворец, узнав о смерти Екатерины. Павел назначил Волконского полковым адъютантом в Семеновский полк, а шефом полка был цесаревич Александр, и это-то и сблизило их на всю жизнь. А уже с ноября 1797 года, когда шел Петру Михайловичу двадцать второй год, стал он адъютантом цесаревича, закончив павловское царствование полковником и кавалером двух орденов.
В день коронации Александра был князь произведен в генерал-адъютанты и с того дня стал неразлучен с молодым императором, сопровождая его во всех поездках.
Барклай знал, что князь был совершеннейшим антиподом Аракчеева, ненавидел и презирал его, никогда не скрывая своего к нему отношения, и уже за одно это был почитаем многими и при дворе и в армии.
Волконский был одним из шести царедворцев, сопровождавших царя во время его первой поездки за границу – в Мемель, и одним из четверых, с кем Александр уехал осенью 1805 года на театр военных действий в Австрию.
Барклай, как и многие другие, знал, что, оказавшись в деле при Аустерлице, князь Петр показал себя так, как мало кому из строевых офицеров довелось проявить себя в тот злополучный день. На глазах у Кутузова он собрал отступавшую русскую бригаду под знамя Фанагорийского полка, которое сам высоко держал в руках, и трижды водил бригаду в штыки против корпуса маршала Сульта.
Знал Барклай и то, что Кутузов, представляя царю Волконского к награждению Георгием 3-й степени, сказал: «В Аустерлицком сражении князь Волконский оказал такие достоинства, кои при несчастий более видны, нежели при счастливом сражении. И те достоинства суть благоразумие и хладнокровие».
В июне 1807 года Волконский сопровождал царя в Тильзит, а через год – в Эрфурт.
Однако далее ни Барклай, ни другие генералы ничего не знали о Волконском, ибо государь оставил его при Наполеоне, и, по слухам, французский император был очарован князем не менее, чем здесь, в России, был им пленен император всероссийский.
Петр Михайлович только что вернулся из долгой своей поездки, где он тщательнейшим образом изучал французскую армию и военную систему Наполеона в целом. Особенно же скрупулезно исследовал он структуру и взаимодействие военно-административных органов Франции, вспомогательные органы высшего военного управления и то, как действуют Генеральный штаб и Императорская квартира и в совокупности, и порознь.
По приезде в Петербург написал он обо всем подробнейший доклад государю, а теперь приехал к военному министру, чтобы о том же рассказать и ему, да только не столь официально.
После недавнего возвращения Волконского из Парижа Барклай встретился с ним лишь однажды. Случилось это на одном из балов, куда военный министр и генерал-адъютант обязаны были явиться по долгу службы, но на балу столь многозначительный разговор состояться не мог. И вот теперь Волконский, немного удивляя хозяина кабинета, отправился не к письменному столу, а к небольшому круглому столику, стоявшему в углу кабинета, и занял одно из двух удобных кресел, предназначенных для ведения беседы спокойной и длительной.
– Если позволите, Михаил Богданович, я стану говорить с вами о трех необычайно важных предметах, из которых каждый сам по себе представляет огромную по значимости проблему, а все они в совокупности, дополняя друг друга, являются не менее чем строками из Книги Судеб, начертанными Провидением для Франции и России.
«Недурное начало, – подумал Барклай, – во всяком случае, ко многому обязывающее». И, поудобнее устроившись в кресле, сказал:
– Буду весьма вам обязан, князь, за все, о чем сочтете необходимым поделиться со мною.
– С вашего позволения, рассказ будет достаточно долгим. Я позволю себе сначала открыть вам то, что я называю «феноменом Наполеона», ибо без этого нельзя понять и двух последующих проблем: Великой армии и того, что является связующим механизмом между нею и Наполеоном, – Главного штаба, деятельность которого я изучал особенно внимательно.
– Извольте, князь. – Барклай подчеркнуто вежливо наклонил голову.
– Итак, Наполеон, – сказал Волконский и добавил: – Скажу вам то, о чем не говорил и государю, потому что есть вещи, которые понимаем мы по-разному, а кое-что адъютанту одного государя не пристало говорить о другом государе, тем более когда этот другой – бог Марс.
Таким видят Наполеона его поклонники, обожествляющие своего идола, и, хотим мы этого или не хотим, император для всех солдат его армии и для большинства французов – это Август и Юлий Цезарь в одном лице.
«Э, да ты такой же совершеннейший его панегирист, как и те, коих только что поименовал идолопоклонниками», – подумал Барклай, оставаясь непроницаемым.
Но опытнейший царедворец Волконский тут же почувствовал это и сказал:
– Не скрою, Михаил Богданович, я двойственно отношусь к Наполеону. Как бывший санкюлот он мне ненавистен, но я не могу не признать, что Наполеон – величайший полководец во всей истории, и потому говорю: бог Марс. – Чуть помолчав, Волконский добавил: – Довольно с нас того легкомыслия и зазнайства, которые проявили мы к «Бонапартишке» и кои тут же обернулись для нас Аустерлицем и Фридландом.
«Прейсиш-Эйлау он пропустил, – подумал Барклай. – Интересно, случайно или умышленно, чтоб не напоминать мне о моем ранении?»
А Волконский, кажется поняв и это, сказал:
– Многие из нас знают о Наполеоне лишь кое-что – кто по слухам и рассказам о нем, кто – по собственным впечатлениям. Я же имел честь наблюдать его вблизи десятки раз, а кроме того, с любопытством и даже с ненасытностью собирал все, что только можно, чтобы понять его загадку, его, как я уже сказал, великий феномен. И потому даже сведения о его детстве и юности были предметом моего внимания.
– Охотно разделяю, князь, такой подход к изучению человека, ибо истоки и основы нашего характера находятся в детстве и даже во младенчестве, – ответил Барклай.
– Ну что ж, – улыбнулся Волконский, – коль так, то и позвольте мне начать со дня его рождения.
– Мне довелось слышать, – начал свой рассказ Волконский, – что 15 августа 1769 года мать Наполеона, Летиция Бонапарт, находясь накануне родов, пошла в церковь, но, почувствовав схватки, поспешила домой. Едва переступив порог, она упала на ковер и родила будущего императора Франции. Утверждают, что на этом ковре были изображены герои «Илиады» – Гектор и Ахилл, легендарные воины-полубоги, и мальчик появился на свет между ними, точнее, между их изображениями на ковре.
Отцом младенца был корсиканский стряпчий – Карло Буонапарте, которого, впрочем, теперь представляют потомком тосканских нобилей, бежавших еще в четырнадцатом столетии на Корсику из-за политических распрей.
Я спрашивал знающих людей, так ли это, и мне говорили, что отец Бонапарта действительно происходил из аристократического рода, занесенного в Золотую Тревизскую книгу, что гербы рода Бонапартов сохранились на стенах нескольких домов Флоренции, однако, когда спросили однажды о том самого Наполеона, он будто бы ответил: «Мне говорили разное, доказывали, что моими предками были и Юлий Цезарь, и императоры Византии, и несчастный брат-близнец Людовика XIV, известный под прозвищем Железная Маска, но я скажу вам, что моя родословная начинается с апреля девяносто шестого года, когда я впервые разбил австрийцев при Монтенотте».
– Для него это предпочтительнее, – заметил Барклай, – потому что с этого же дня ведут свою родословную и многие его комбатанты, которые еще и сегодня служат в его Старой гвардии, и в Молодой, и во многих полках Великой армии.
– Совершенно с вами согласен, Михаил Богданович, – тут же отозвался князь, – тем более что мать императора – простая корсиканская крестьянка, впрочем, как утверждают, необычайно волевая, трудолюбивая и чадолюбивая. И конечно же солдатам его армии такая мать их главнокомандующего куда больше по душе, чем, например, его жена – дочь австрийского императора и племянница казненной французской королевы.
– Не только солдатам, но и маршалам, князь, – продолжил мысль собеседника Барклай.
Оба они знали, о чем идет речь, ибо Ней был сыном бочара, Ланн – сыном конюха, Мюрат – трактирным половым, Лефевр – крестьянином-землепашцем, Бессьер – морским пехотинцем, а ведь все они были лучшими его командирами, за которыми солдаты шли в любое пекло без страха и сомнения.
Все они стали пэрами Франции, получив свои титулы за победы, одержанные над полководцами всех стран, с которыми сражались, именовались отныне князьями, герцогами и принцами Ауэрштедтскими, Экмюльскими, Данцигскими, Ваграмскими, Невшательскими и прочая, сочетая с титулами прозвища «огнедышащих» и «железных», «героических» и «храбрейших». Но выше их всех стоял «маленький капрал» – император Наполеон, идол солдат и мозг и душа Великой армии.
– И продолжением того, о чем говорил я только что, – сказал Волконский, – является его феномен императора-солдата, который в любой момент может появиться в мундире рядового и будет переправляться через реку в одной лодке с егерями и устанавливать на позиции орудия вместе с канонирами.
Для Наполеона рядовые, унтер-офицеры и офицеры, генералы и маршалы – родные дети и, стало быть, между собою – родные братья: старшие, средние и младшие, однако же, как большинство из них считает, совершенно равноправные в глазах своего отца – солдата и императора.
Я поражался тому, сколь неутомим Наполеон накануне сражения. Он встает раньше всех и не успокаивается до тех пор, пока не обойдет и не осмотрит все – ручьи и овражки, мосты и просеки, ложбины и болотца, дома и сараи, холмики и лощины, тропы и дорожки – словом, все, что называем мы позициями, будь то любимые его позиции – артиллерийские – или же исходные и запасные, промежуточные и отсечные, передовые и ложные.
И, переварив все это у себя в голове, намечает он план предстоящего сражения, любое из которых до сих пор он всегда доводил до победного конца.
Как сие ни прискорбно, однако же нет в мире полководца, способного одолеть его на поле брани, тем более что Великая армия воистину есть сильнейшая из всех.
– Почему же? – неожиданно резко спросил Барклай.
– Да потому хотя бы, Михаил Богданович, что нет пока иных примеров, – ответил Волконский.
– А Эйлау? – возразил Барклай.
– Мне неудобно оспаривать итоги боя при Эйлау, ибо я не был там, а вы – были и потому лучше меня можете судить о том, – уклончиво ответил Волконский.
– Ну а майская неудача Наполеона на Дунае, когда он едва не был разбит? – спросил Барклай, имея в виду совсем недавние события прошлого, 1809 года, во время которых австрийская армия выказала исключительное упорство и храбрость, когда в бою был убит маршал Ланн и французы оказались на волосок от поражения.
– И все же, Михаил Богданович, в конце концов австрийцы были побиты и сдали свою столицу, – настаивал князь.
– Да, в конце концов сдали столицу, – вынужден был согласиться Барклай, ибо тогда сдача столицы считалась неопровержимым аргументом в военном споре, тем более что вслед за тем была подписана и капитуляция, облаченная в форму мирного договора.
– И значит, Великая армия, как я и говорил, есть сильнейшая из всех, – поставил точку в затянувшемся споре Волконский.
Однако же его собеседник был не из тех, кто легко сдавал позиции даже в словесной баталии.
– Простите мне, князь, что вопреки логике и противно здравому смыслу, возражу вам, что это не так. Как военный министр России, я не имею права на то, чтоб соглашаться с подобным заключением. Я благодарю вас за то, о чем вы рассказали мне, но вижу свою задачу в том, чтобы практикой опровергнуть ваш вывод.
– Михаил Богданович, – проговорил Волконский, смутившись, – уверяю вас, что не будет в задуманном вами великом деле сокрушения нового Аттилы соратника более ревностного и преданного, чем я. И позвольте мне в следующий раз рассказать и о том, что представляет, по моим наблюдениям, их армия. – И здесь Барклай отметил, что князь впервые не сказал «Великая армия», назвав воинство Наполеона просто «их армия», – а также и о том, каковы механизмы управления ею императором и его главным штабом.
Они поднялись одновременно, и хотя Барклай внешне столь же любезно проводил князя до дверей, как и встретил его, все же оба они поняли, что совершеннейшего единомыслия и, паче того, единодушия между ними нет.
Две последующие встречи с Волконским были посвящены тем вопросам, которые они и условились обсудить: Великая армия и Главный штаб.
Когда Волконский приехал для того, чтобы высказать свои соображения о наполеоновской армии, все было вроде так же, как и накануне, – да не все. И хотя Барклай встретил его так же приветливо, как и в первый раз, но князь не стал входить в кабинет первым, а когда вошел, то сел не к столику у окна, за которым велись беседы дружеские и доверительные, а к огромному письменному столу министра, где Барклай выслушивал доклады своих генералов и соподчиненных ему чиновников из других ведомств.
Волконский начал беседу с того, что сразу же определил круг проблем, предлагаемых им на обсуждение, оговорившись, что не станет злоупотреблять цифрами, которые, как он знает, известны и ему и военному министру часто из одних и тех же источников, а выскажет главным образом свое мнение по вопросам концептуальным.
– Извольте, князь, – ответил Барклай, – для меня одинаково ценными будут любые ваши идеи и предложения.
– Не сочтите то, с чего я начну, трюизмом, но я все же осмелюсь повторить, что Великая армия является сегодня самым грозным и могучим войском из всех известных нам в истории.
Барклай понял, что эта фраза представляет собою тонический аккорд в партитуре того произведения, которое начал исполнять перед ним Волконский. И понял также, что генерал-адъютант государя намерен проводить далее ту же линию, что и прежде. Такую линию Барклай считал для себя совершенно неприемлемой и потому сразу же возразил:
– Я благодарю вас, князь, за то, что вы единомышленны со мною: и я считаю, что сегодня, – Барклай интонацией выделил слово «сегодня», – армия Наполеона, безусловно, самая сильная, и потому я вижу свою задачу в том, чтобы любыми способами и при любых затратах сил и средств создать равноценный, а может быть, и более мощный противовес ей.
– Так мыслю и я, ибо, обдумывая любую задачу, должно всегда иметь перед собою два вопроса: «Каким образом следует ее решать?» и «Какого результата хочу я добиться в конце концов?».
– Относительно второго вопроса ни у одного генерала на планете нет другого ответа, кроме как: «Для победы». А вот каким образом следует задачу решать, и представляет для нас существо проблемы.
– Я готов построить мой доклад именно таким образом, – миролюбиво проговорил Волконский и тут же добавил: – А если стану я обращать внимание на сильные стороны Великой армии, то для того только, чтобы могли мы кое-что перенять из этого для себя.
Барклай подумал: «Как Петр Великий перенимал опыт шведов, чтобы потом побить их». И мгновенно вспомнил, как проходил он по Петербургу со своим корпусом, когда шел против шведов в Финляндию, и как царь спросил его: «А что, Михаил Богданович, знаете ли, отчего встречаю я корпус ваш именно здесь, у Сампсония?»
«Где-то еще наш Храм победы над Наполеоном?» – подумал Барклай и сказал Волконскому:
– Ну что же, Петр Михайлович, начнем мостить дорогу победы. Итак, что же это такое – Великая армия?
…Миллион французов и их союзников – вольных и невольных – входили в состав Великой армии. Но была она велика не только числом, а более всего своим несокрушимым боевым духом и абсолютной уверенностью, что нет для нее достойного противника, как нет и равного соперника ее великому вождю – императору Наполеону I.
Великая армия была грандиозным воинским братством, где каждый солдат мог стать маршалом, и для этого не требовалось происхождения, воспитания и заслуг дедов и прадедов, а нужно было только одно качество – храбрость. И потому в этой армии не ощущалось недостатка в храбрецах, и, как правило, чем выше чин, тем храбрее был его носитель.
– Ну, храбрецов и у нас довольно, – сказал Барклай, прослушав первую сентенцию Волконского, – Здесь-то мы им не уступим. А вот в чем уступаем? – спросил он.
И тут же князь ответил:
– Более всего в организации войск.
…Самым крупным соединением войск в Великой армии были пехотные и кавалерийские корпуса. Причем пехотный корпус имел в своем составе и конницу, и артиллерию, и военных инженеров, представляя собою маленькую армию, но назывался пехотным только потому, что этот род войск был в нем доминирующим. В кавалерийском же корпусе основную массу войск составляли конные полки, а пехотные, артиллерийские и инженерные части были в меньшинстве.
Каждым из корпусов, как правило, командовал маршал, обладая всеми правами командующего отдельной армией.
Корпуса шли отдельно друг от друга, но сохраняли такое расстояние между собою, чтобы в случае необходимости оказаться вместе и сражаться не врозь, а сообща.
– А сие, князь, надобно будет проделать и у нас, – сказал Барклай, и Волконский с ним согласился.
Так камень за камнем перебрали они величественное сооружение, именуемое Великой армией, порою обнаруживая нестыковку камней, трещины и иные изъяны.
Однако этот же метод последовательного и всеобъемлющего анализа позволил им обнаружить многочисленные дефекты и в собственной пирамиде – и в основании, и в стенах ее, и на самой ее вершине.
Но, дойдя до вершины, решили они разговор о том, как следует руководить армией, отложить до следующего раза еще и потому, что как раз в это время Волконский начал работать над полной перестройкой структуры свиты его величества по квартирмейстерской части, управляющим канцелярией коей он и являлся.
А свита и была тем самым механизмом в системе военного управления, который во Франции назывался Главным штабом, в Пруссии – Генеральным, а в Австрии – Придворным военным советом.
И хотя и австрийский Гофкригстрат, и прусский Генеральсштаб, и российская свита его императорского величества по квартирмейстерской части много раз опровергали и ниспровергали французский Главный штаб, коим уже десять лет командовал маршал Луи-Александр Бертье, князь Невшательский, герцог Валанженский и князь Ваграмский – одно перечисление титулов свидетельствовало о его победах и заслугах перед империей, – все же Петр Михайлович Волконский превыше прочих ставил штаб Бертье. Но он также учитывал и положительный, полезный для дела опыт и всех других участников давнего кровавого спора – и русских, и австрийцев, и пруссаков.
С Бертье князь Петр Михайлович познакомился в Париже, и изучал его столь же придирчиво и внимательно, как и биографию Наполеона. Волконский знал и биографию начальника его Главного штаба. Бертье, прежде чем стал начальником штаба Наполеона, прошел путь, необычный даже для маршала Франции, где необыкновенных биографий было более чем достаточно.
Волконский знал, что Бертье семнадцати лет воевал на стороне Джорджа Вашингтона против колонизаторов-англичан, а возвратившись из Америки, стал начальником штаба Национальной гвардии Версаля. Можно ли было придумать более причудливое сочетание, чем «Версаль» и «Национальная гвардия»! И этот удивительный симбиоз породил и не менее экзотический плод – начальник штаба революционной Национальной гвардии помог бежать за границу теткам низложенного короля. Однако, когда в Вандее вспыхнуло контрреволюционное восстание, Бертье – бригадный генерал республики – утопил его в крови.
Вслед за тем стал он начальником штаба в Итальянской армии генерала Бонапарта, поразив своего нового командующего исключительной трудоспособностью, колоссальной памятью и необычайным педантизмом в штабной работе.
В 1807 году к его титулам прибавился еще один – Бертье стал имперским принцем, ибо женился на племяннице баварского короля.
Волконский обладал многими качествами Бертье – и неистощимым трудолюбием, и прекрасной памятью, и четкостью в исполнении приказов, в то же время отличаясь в выгодную сторону безусловной преданностью своему государю и стойкими политическими убеждениями, которые не позволяли князю Петру Михайловичу сегодня быть монархистом, а завтра – республиканцем.
Досконально изучив службу Главного штаба Франции, Волконский стал генерал-квартирмейстером свиты и прежде всего занялся подготовкой офицеров, способных служить в его ведомстве.








