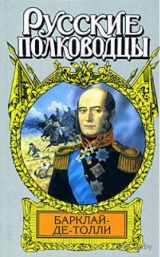
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
Так версия о древности рода на поверку оказалась необоснованной, и даже Миша понял, что полтора века конечно же немало, но до варягов-норманнов сильно не дотягивает. Сын Питера Барклая Иоганн в 1664 году перебрался в Ригу, где и стал основателем той ветви рода, от которой происходили Готтард и его сыновья. Батюшка сказал Мише, что Иоганн приходится ему самому дедом, а Мише прадедом. Старший сын Иоганна – Вильгельм, рижский бургомистр, и вовсе был рядом, доводясь Мише дедом, а Готтарду отцом. И выходило, что достоверных предков, известных батюшке, было всего четыре колена – не так уж много для дворянина, а для титулованной особы – тем более…
Под негромкий рассказ отца Миша заснул, и то ли от того, что услышал только что, то ли от чего другого, но явственно приснился ему сон, в котором все происходило точь-в-точь как рассказывал о том батюшка…
Мише снилось, будто в жаркий летний день стоит он у ворот рижского замка и видит, как едет к нему большая золоченая карета, запряженная шестериком белых лошадей сказочной красоты. Видит он за стеклом кареты толстого краснолицего вельможу в большом белом парике, с золоченым фельдмаршальским жезлом на коленях. «Шереметев, Шереметев», – говорят стоящие возле ворот люди, называя того, кто покорил Ригу и теперь приехал, чтобы ее жители принесли присягу на верность царю Петру.
Затем Миша видит, как Шереметев[17]17
Шереметев Борис Петрович (1652–1719) – генерал-фельдмаршал, граф, сподвижник Петра I, участник Крымских и Азовских походов; во время Северной войны командовал корпусом в Прибалтике и Померании.
[Закрыть] выходит из кареты и останавливается у распахнутых настежь ворот замка, а оттуда приближается к нему высокий, красивый старик с золотой цепью на груди. «Дедушка Вильгельм», – узнает старика Миша и радуется, когда русский фельдмаршал вдруг обнимает и крепко целует его, а дедушка опускается перед Шереметевым на одно колено и целует фельдмаршальский жезл, подобно тому как в церкви русские попы целуют крест. Фельдмаршал поднимает деда, и бургомистр говорит так громко, что слышат все люди на площади: «Клянусь верой и правдой служить России. Клянусь и от своего имени и от имени всего моего древнего и славного рода Барклаев-де-Толли!»
Тут Миша проснулся и увидел, как крепко и сладко спит батюшка, закинув голову и чуть посвистывая носом. А полусказочный сон все еще стоял перед глазами, не желая уходить, и Миша сквозь непроходящую дрему подумал: «Значит, и от моего имени поклялся дедушка служить верой и правдой: ведь я тоже – Барклай-де-Толли».
Глава третьяНачало пути
…Весной 1778 года шестнадцатилетний дворянский недоросль Михаил Богданович Барклай-де-Толли предстал перед экзаменационной комиссией и успешно сдал экзамен, став младшим кавалерийским офицером – корнетом. И тотчас же отправился в назначенный ему для службы Псковский карабинерный полк, стоявший в городе Феллине.
Барклай получил звание корнета 28 апреля 1778 года. С этого дня началась его служба в русской армии, продолжавшаяся ровно полвека…
Какой же была Россия в том самом 1778 году, когда корнет Барклай прибыл в Псковский карабинерный полк?
Большая часть его жизни прошла в годы царствования Екатерины II. Она вступила на престол, когда Мише было всего шесть месяцев, и жизнь Барклая, начавшись под ее скипетром, в значительной мере определялась этим обстоятельством тридцать три года.
В истории России было всего два монарха, заслуживших звание «Великий», Петр I и Екатерина II. Бедная немецкая принцесса, волею судьбы обрученная с наследником русского престола Петром III, занявшим трон после смерти своей тетки Елизаветы Петровны, через полгода свергла своего мужа и, захватив власть, повела Россию к величию и славе.
Она крепко держала бразды правления и стремилась к абсолютной власти. Она хотела видеть Россию могучей и процветающей.
Через несколько лет после захвата власти Екатерина сформулировала важнейшие принципы своей политики, назвав их «пятью предметами», таким образом:
«Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные последствия этого. Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? полезно ли?» И, перечисляя «пять предметов», указывала:
«1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
5. Нужно сделать государство грозным и в самом себе и внушающим уважение соседям. Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед Высшим Существом (так Екатерина вслед за французскими энциклопедистами называла Бога), перед собой, перед обществом, и нужно преподать ему некоторые искусства, без которых он не может обойтись в повседневной жизни».
Екатерина была величайшей русской патриоткой, подтверждая это и государственными делами, и словами, и всеми своими поступками. Порой она теряла чувство меры, и тогда из-под ее пера появлялись такие слова о простых русских людях: «Никогда еще мир не производил существа более мужественного, степенного, открытого, человечного, милосердного и услужливого, нежели скиф». Скифами в Европе нарекли русских, и Екатерина подвластный ей народ называла этим именем, не уничижая, а возвеличивая его, ибо скифы сыграли выдающуюся роль, оставив после себя удивительно богатую культуру и прославившись великими победами. «Ни один народ, – продолжала Екатерина, – не сравнится с ним в правильности и красоте черт лица, в яркости румянца, в осанке, сложении и росте, так как тело у него или очень дородное, или нервное и мускулистое, борода густая, волосы длинные и пушистые; он по природе своей далек от всяких хитростей и обмана: его прямота и честность гнушаются темных дел. Нет на свете наездника, пешехода, моряка, а также хозяина, равного ему. Ни у кого нет такой нежности к детям и близким. У него врожденное чувство почитания к родителям и начальникам. Он быстро, точно повинуется и верен».
Используя эти качества русских и неуклонно руководствуясь «пятью предметами», Екатерина укрепила государство изнутри, беспощадно подавив казацко-крестьянский бунт Пугачева и создав во всей стране новую административно-полицейскую систему, оформленную Учреждением для управления губерний Всероссийской империи. Она собрала вокруг себя выдающихся государственных деятелей и полководцев: Потемкина, Суворова, Румянцева, братьев Орловых, Безбородко, Панина, а потом и Кутузова, вошедших в историю под гордым именем екатерининских орлов. Уже в первые годы ее царствования русские войска овладели устьем Днепра и вошли в Крым, отодвинули южную границу России к Бугу и Кубани, а западную – за Полоцк, Витебск и Минск.
Михаил Барклай навсегда запомнил пылающее огнем праздничных фейерверков небо Петербурга и победный гром пушек с расцвеченных флагами кораблей, стоявших на Неве.
Армия и флот России, бывшие главными предметами неусыпных забот государыни, находились в зените могущества и славы. Принадлежность к ним считалась высочайшей честью и заветным стремлением лучших молодых людей страны. К числу этих лучших принадлежал и шестнадцатилетний корнет Псковского карабинерного полка Михаил Богданович Барклай-де-Толли.
Кто же такие карабинеры? Отборные стрелки, вооруженные легкими ружьями – карабинами. Были они и пехотинцами и кавалеристами, но всегда набирались из числа наиболее сильных, опытных и умелых людей, способных одинаково хорошо вести бой и в пешем и в конном строю.
Псковский карабинерный был сформирован одним из первых – 14 января 1763 года. Сформирован, но не создан, ибо и до того существовал более шестидесяти лет, называясь Псковским драгунским полком. Его история началась в 1700 году, когда в России появились новые кавалерийские полки – драгунские. Псковские драгуны под знаменами Петра сражались и в Северной войне со шведами, и ходили в Прутский поход[18]18
Во время русско-турецкой войны 1710–1713 гг. русская армия под командованием Петра I в союзе с молдавским господарем Д. Кантемиром в мае–июне 1711 г. вступила в Молдавию, но была окружена превосходящими силами турок у Н. Станилешти. Петр I заключил Прутский мир 12 июля 1711 г.
[Закрыть], и под водительством фельдмаршала Миниха[19]19
Миних Бурхард Кристоф (1683–1767) прибыл в Россию в 1721 г., передав Петру I свои сочинения по фортификации. При Анне Иоанновне был президентом Военной коллегии. В русско-турецкой войне 1735–1739 гг. командовал русской армией.
[Закрыть] четверть века спустя прорывали Перекоп и брали столицу крымских ханов – Бахчисарай.
А в 1763 году, также одними из первых, превратились из драгун в карабинеров и уже в этом новом своем качестве воевали под знаменами Румянцева, отличившись сначала при штурме Бендер, а потом еще раз в своей истории ворвавшись в Крым.
Бой за Бендеры был самым знаменитым подвигом полка, который ходил на приступ двадцать раз и все же захватил крепость. Полк понес тяжелые потери, и сам его командир – полковник князь Иван Александрович Багратион, племянник грузинского царя, возглавлявший все двадцать атак, был тяжело ранен. Он отбыл на длительное лечение и больше в Псковский карабинерный не вернулся, а полк принял новый командир – полковник Андрей Шток. Под его команду весной 1778 года и прибыл Барклай.
Карабинеры в те дни только что пришли на новые квартиры со слободской Украины, где целый год стояли в резерве, готовясь к очередной войне с турками. Ожидания оказались напрасными, и Псковскому карабинерному приказано было перейти в Лифляндию, в крепость Феллин.
Крепость, только называвшаяся так из-за того, что некогда была рыцарским замком, находилась сравнительно недалеко от Петербурга. Это обстоятельство и подвигло дядюшку Георга отослать Михаила в полк, ибо шел ему уже семнадцатый год – самое время вступать в службу. Сам Михаил уже два года как был готов к этому, но полк его часто переходил с места на место, был к тому же вблизи от театра военных действий, и Вермелейны не решались отправить юношу, почти еще ребенка, в далекое и опасное странствие.
А в феврале 1778 года бригадир узнал, что Псковский карабинерный переводится в Лифляндию и что в Военной коллегии намерены надолго оставить его там.
– А на чем же основана такая ваша уверенность, господин генерал? – спросил Вермелейн.
И собеседник его коротко ответил:
– Англия, бригадир.
Возвратившись домой после визита в Военную коллегию, Вермелейн прошел к Мише в комнату, чем несколько удивил его: обычно все разговоры проходили в гостиной, а ежели дядюшке нужно было сказать ему что-либо серьезное, особенно неприятное, или же побранить за что-то, хотя последнее случалось весьма редко, для таких случаев предназначен был бригадирский кабинет.
На сей раз дядюшка заговорщически улыбнулся и проговорил:
– Ну, Михаил, поговорим о серьезном с глазу на глаз, чтобы напрасно не волновать Августу. – Вермелейн зачем-то подошел к глобусу и, положив на него руку, сказал: – Был я в Военной коллегии и взял письмо к твоему командиру Андрею Штоку. Твой полк пришел ныне в Феллин и, как меня заверили, будет квартировать там долго: на случай высадки десанта английского. А чтоб знал ты, каковы мы нынче с Англией, и пришел я к тебе, ибо в беседе нашей без глобуса обойтись нельзя. Теперь Россия не только с соседями своими дела имеет, но и все, что где в мире ни происходит, непременно ее касается.
Вермелейн взглянул на Мишу и усомнился: «А нужно ли ему все это? Поймет ли? Молод ведь еще». Однако то, что волею обстоятельств его воспитанник оказался причастным к этому конфликту, требовало объяснений – ведь перед ним сидел не просто дворянский недоросль, но молодой офицер, которому надлежало знать и понимать маневр своего полка.
И тогда Вермелейн позвал Михаила к себе и стал читать рефлекц о том, что есть ныне Россия и отчего конфликтует она с Англией.
– Сколь ни покажется для тебя нежданным или же весьма далеким то, о чем скажу я, однако ж следует всегда помнить, что истинное знание есть только то, которое восходит к причинам. Причиною же нашего с Англией противустояния является то, что стала Россия, подобно ей, мировою державою.
Произошло это, когда Петр Великий вошел в Европу с нашей победоносной армией и пустил на просторы морей не виданный дотоле никем победоносный же российский флот. И все то означало, что великие европейские державы – Англия и Франция – должны были признать Россию равной себе и отныне именно так и воспринимать ее. Первое серьезное столкновение произошло у нас с Англией, когда начала она воевать с вечным своим врагом – Францией – за спорные заморские территории. Мы втянулись в эту войну на стороне Франции и семь лет сражались с союзной англичанам Пруссией. Чем эта война кончилась, ты знаешь.
Однако, окончившись в Европе, продолжалась она за океаном.
Вермелейн прервался на мгновение и подозвал Мишу к глобусу.
– Смотри, – сказал бригадир, показывая Мише Западное полушарие. – Вот здесь, – Вермелейн показал на зеленые пространства ниже Великих озер, где на Восточном побережье «означены были тремя точками всего три города – Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия, – и возникло это новое, независимое от Англии государство. А мы стали на его сторону – не столько потому, что оно нашей государыне понравилось, сколько потому, что Англия все еще остается нашею недоброжелательницею и, не побоюсь сказать, неприятелем. Потому-то и ждем мы со дня на день высадки ее десанта в Лифляндии или даже в Ингрии[20]20
Ингрия – одно из названий Ижорской земли.
[Закрыть], под самым Петербургом.
Выслушав это, Миша более всего остался доволен, что дядюшка его – бригадир, почти генерал! – счел возможным говорить с ним о столь великих проблемах, полагая, что он должен приобщиться к ним, и тем самым посвящал его в святая святых – большую политику, заниматься коей был удел немногих избранных. И в то же время Михаил понял, что жизнь любого человека, даже самого маленького, самого простого, всегда тесно связана с большой политикой, которая решает вопросы глобальные, и недаром слова «глобальный» и «глобус» имеют единый корень.
И как ни опасны были маневры Англии, как ни неприятна возможная высадка вражеского десанта вблизи от Петербурга, все же более удачного момента ждать не приходилось: бригадиру удалось получить от одного из сослуживцев Штока рекомендательное письмо для Михайла и, подкрепив приватное письмо официальными, казенными бумагами, где говорилось о сданных Михаилом экзаменах, дал на обзаведение двадцать рублей – сверх тех потрат, что ушли на покупку коня и экипировку.
Конечно, не все отправляли молодых людей на службу, справив им полный комплект амуниции и купив коня. Но если молодой офицер приходил в полк пешком и был, как говорится, и гол, и бос, и яко наг, тако благ, то сразу же красноречиво заявлял о себе и родителях своих как о людях скудных или же прижимистых, а и то и другое было молодцу в укор и сильно осложняло его жизнь в офицерской среде, сразу же ставя его на низшую ступеньку иерархии.
Правда, нередко случалось, что, если бедный офицер проявлял себя как добрый товарищ, удалец и ревностный служака, его статус менялся, но все равно однополчане не забывали, каким он явился на службу, и подчас не без оснований считали, что его служебное рвение объясняется лишь тем, что чем выше чин, тем больше жалованье. Особенно же справедливо было это по отношению к офицерам-кавалеристам, считавшим свой род войск аристократическим и наиболее Привилегированным. И потому шли в кавалерию дворяне побогаче, а те, что победнее, – во все другие рода войск.
А кроме того, появление в полку на собственном коне было и более практичным, потому что как знать, какого коня выдадут безусому новобранцу? За хорошими конями охотились все, и когда нужно было сменить своего постаревшего буцефала, то нового – молодого, сильного и выносливого коня – заполучить было не так-то легко.
Нет нужды говорить, что старый кавалерист Вермелейн выбрал Михаилу хорошего коня. И по дороге Барклая ни на минуту не оставляло теплое чувство благодарности к Вермелейнам, заменившим ему родителей.
Пять суток, щадя коня, неспешно добирался Барклай от Петербурга до Феллина. Он проехал Нарву и, достигнув Раквере, повернул на юг. Дорога шла болотами и перелесками, мимо полей, по обочинам которых тянулись сложенные из валунов длинные невысокие гряды. Бедные хижины, приземистые, покрытые потемневшей от времени соломой, жались друг к другу вдали от дороги, почти безлюдной. На дороге же редко встречались Михаилу телеги торговцев, еще реже – казенные экипажи. Чаще прочих попадали ему на глаза согбенные фигуры мужиков, шедших за плугами и боронами, в которые были впряжены маленькие упрямые местные лошади, называемые здесь клепперами. Миша знал этих лошадок, потому что на их мызе Энгр, где проводил он летние вакации, было таких три, а на одной из них – пегой, с белым ремнем вдоль спины, тихой и ласковой – учил его дядюшка верховой езде.
Вспомнив о своей любимице, Миша ласково похлопал по шее и статного красавца жеребца, которого тоже уже успел полюбить. Впрочем, любовь к лошадям, возникшая у него в детстве, не оставляла Барклая всю жизнь. И в каких бы чинах он ни был, он сам чистил коня, сам задавал ему корм, и только когда уж было ему совершенно недосуг, передоверял это ординарцам или кому-либо из адъютантов.
…Ясным апрельским днем въехал Барклай в маленький городок, уютный и чистенький, наполненный светом и воздухом, в котором господствовали два цвета: голубой и зеленый – от начинающих зеленеть садов и перелесков, лугов и полей и от большого озера и реки, по берегам которых и вытянулся Феллин. Два этих господствующих цвета перебивались тремя другими: желтым, серым и красным – домиками горожан и поселян, крытыми соломой и черепицей. Над домиками возвышались острый шпиль кирхи и башня рыцарского замка, сильно поврежденного прежними войнами и штурмами.
Спросив у первого встреченного им унтер-офицера, где найти командира полка, Барклай поскакал к замку.
Полковник Шток внимательно прочитал письмо, изредка быстро взглядывая на Михаила, так же внимательно просмотрел привезенные им казенные бумаги, после чего, расспросив о том, кто готовил его к экзаменам, остался, кажется, всем прочитанным и услышанным доволен.
– Пойдите, корнет, теперь в город и найдите себе квартиру. А завтра в семь часов утра извольте прийти ко мне. Тогда я скажу вам, к кому поступите вы в команду и в какую должность будете определены.
Барклай приложил руку к треуголке и четко повернулся, молодцевато звякнув шпорами. Но не успел он сделать и шага, как полковник сказал:
– Впрочем, постойте.
И тут же кликнул адъютанта.
– Возьми с собой корнета да помоги ему устроиться на квартиру.
И Барклай почувствовал, что попал он к хорошим людям, судя по всему, уже принявшим его в свое сообщество, которое и по рассказам бригадира, и по тому, что слышал он от других военных, представляло собой великое армейское братство, должное заменить для каждого состоявшего в нем строгую и добрую семью.
* * *
И начались военные будни, четко разделенные на подъемы и отбои, на походы и учения, смотры и парады. Впрочем, парадов было совсем немного, смотры тоже случались не часто, совпадая, как правило, с большими маневрами, которыми руководили генералы, а то и кто-нибудь из фельдмаршалов. Но было это редко, а вот учения занимали почти все время. Кавалеристы-карабинеры должны были и метко стрелять, и умело сражаться в конном строю. Они совершали многоверстовые переходы, изучали правила маскировки в засадах и в разведке, и премудрости скрытных дальних рейдов, и каноны сбережения коней под снегом и дождем, в бескормицу и холод. При всем этом необходимо было сохранять молодцеватый вид и не показную, а подлинную бодрость и идти на смотрах и парадах столь слаженно и красиво, чтобы у всех, кто видел их, дух захватывало от этой несказанной удали и великого мастерства.
Когда же оставался Михаил один в комнате, которую снимал он с полным пансионом, чаще всего время проводил за книгами. Правда, в первый год книги были редкими гостями в его доме – Шток не больно-то жаловал книгочеев, и, признаться, почти не было их среди офицеров. Не до книг было, да и командир полка предпочитал кабинету манеж и конюшню, а ведь известно, что подчиненные охотно увлекаются тем же, чем с горячностью занимаются начальники.
И забот Штоку по службе вполне хватало, ибо не только строй и фрунтовые занятия, не только экзерциции отнимали у него время: добрую половину дня тратил он на великие и многотрудные хозяйственные заботы – снабжение и людей и коней продовольствием, поддержание порядка в эскадронах и служебных помещениях – от штаба до лазарета и цейхгаузов, а кроме того, надо было и вовремя произвести выбраковку лошадей, посылать команды ремонтеров на закупку конского молодняка, содержать в порядке полковой обоз, а также следить за благонравием и господ офицеров и нижних чинов, которых было у него около тысячи человек. И нужно сказать, что был Андрей Шток служака неутомимый, всюду поспевавший и хорошо знавший, за что начальство может с него спросить, а чему значения не придаст. А среди того, за что оно спросит, книжных премудростей не числилось, и, стало быть, незачем было на них тратить время, которого и на службу едва хватало. И потому полковник Шток ни себе, ни подчиненным покоя не давал, требуя одного – тщательного исполнения всех артикулов и начальственных предписаний.
От генералитета рвение полковника не скрылось, и вскоре был Шток переведен в штаб Лифляндской дивизии в Ригу, а на его место прибыл полковник Богдан Федорович Кнорринг.
И случилось это через год после того, как Барклай появился в полку.
Незадолго перед тем, как Кнорринг появился в Феллине, всезнающие старослужащие уже разведали многое о новом командире.
По всему выходило, что был он во многом противоположен своему предшественнику. Ветераны полка вспоминали, что бывал Кнорринг и у них, когда стояли они на слободской Украине в местечке Валки, в полусотне верст от Харькова. Причем он даже встречал полк, когда пришли карабинеры из Литвы на зимние квартиры, и, будучи офицером по квартирмейстерской части, размещал их в Валках. Был Кнорринг прислан к ним командующим 1-й армией генерал-аншефом князем Голицыным, и, имея за спиной сиятельного главнокомандующего, вел себя Богдан Федорович совершенно независимо, почитая Штока своим подчиненным.
Кнорринг пробыл у карабинеров две недели, сумев разместить в небольшом местечке тысячу человек и больше тысячи лошадей. И хотя сделал он все это толково и хорошо, у всех, кто с ним сталкивался, создавалось о нем впечатление как о человеке заносчивом, высокомерном, к тому же сварливом и легко воспламеняющемся. К тому же имел Кнорринг за подвиги под Кагулом Георгия 4-й степени, и потому осадить его было трудно. Знали также, что был он в фаворе у братьев Орловых – и у фаворита государыни Григория, и у его брата – адмирала Орлова-Чесменского.
Из-за всего этого, а также и потому, что ехал он к ним после полугодичной учебы в Военной академии в Пруссии, ничего хорошего от нового командира полка не ждали.
И оказалось, что все, что знали о Кнорринге, и все, чего от него ждали, было сущей правдой, да только не всей правдой, а лишь частью ее, ибо был Богдан Федорович куда многостороннее и разнообразнее, чем казалось господам офицерам.
Кнорринг, несомненно, принадлежал к числу самых образованных офицеров русской армии. Еще в юности окончил он Сухопутный шляхетский корпус, первое высшее военное учебное заведение России, где готовились офицеры всех родов войск, потом долго служил в штабе армии, не только занимаясь размещением войск, но и составляя карты, изучая разведывательные данные о противнике, ведя топографическую съемку, вычерчивая и обсчитывая планы и сметы строительства новых крепостей.
Во время войны с турками был Богдан Федорович прикомандирован к князю Григорию Орлову, руководившему русской делегацией на мирном конгрессе в Фокшанах. Переговоры оказались долгими, шли нудно и потребовали того, чтобы Кнорринг поехал из этого валашского городка на Эгейское море, где крейсировала эскадра брата Григория Орлова – Алексея Орлова-Чесменского, удостоенного почетной второй фамилии за блистательную победу над турецким флотом в Чесменской бухте[21]21
Во время русско-турецкой войны 1768–1744 гг. русский флот блокировал турецкую флотилию в бухте Чесма на побережье Малой Азии 25–26 июня 1770 г. и уничтожил ее.
[Закрыть]. Кноррингу предстояло согласовать действия двух братьев, и хотя задача была не из легких, он не позволил себе по дороге к Алексею Орлову погрузиться в праздность и по своей собственной инициативе снял на кроки[22]22
Чертеж участка местности, выполненный при глазомерной съемке (от фр. croquis).
[Закрыть] всю местность, что открывалась ему из окна кареты – от Рущука до Константинополя.
Кажется, это и было самым большим достижением, связанным с работой фокшанского конгресса, так как он кончился ничем, война продолжалась, а карты, сделанные неутомимым Кноррингом, остались, и узнавшая о том императрица, охочая до всего нового и интересного, велела показать их ей. Екатерина по достоинству оценила работу, которую к тому же никто Кноррингу не поручал, и, поощряя столь полезный почин, пожаловала ему паче всякого его чаяния имение в Лифляндии.
После этого Кнорринг снова ушел на войну и показал себя не только штабным писарем, как называли офицеров по квартирмейстерской части их недоброжелатели из линейных частей, но и храбрым боевым командиром, отличившимся почти во всех славных баталиях кампании – и под Хотиным, и при взятии Бендер, и при реке Ларга, и особенно при Кагуле, получив за последнее дело боевой офицерский орден – Георгий.
А потом снова вернулся он в штаб, но уже никто не смел причислять его к «штабным писарям», ибо кавалеры ордена Георгия были, как на подбор, отчаянные смельчаки, а за штабную службу Георгия не давали.
Позже уехал он в Пруссию постигать военную науку тех, кого его командиры в годы своей молодости не раз жестоко били, опровергая их умозрительные штудии, несогласные с варварской практикой победителей. И потому пробыл Богдан Федорович у высокоумных прусских теоретиков всего полгода и вернулся в Россию, где и был направлен командиром в Псковский карабинерный полк.
* * *
Офицеры полка встретили Кнорринга настороженно. И он ответил им тем же. С утра и до вечера сидел он в своем кабинете, читая, а еще более скрипя пером и исписывая кучу бумаги. Но когда он выходил из штаба, подчиненные знали, что глаз у него на всякий беспорядок будет поострее, чем у Штока, и обмануть нового командира весьма трудно.
Между тем время шло, и Кнорринг потихоньку стал отделять овец от козлищ, воздавая по заслугам и тем и другим.
Постепенно он присмотрелся и к Барклаю, отметив в нем педантичность, сугубую аккуратность и молчаливость. А однажды, заметив, с каким любопытством смотрит молодой корнет на корешки книг, стоящих в шкафу его кабинета, спросил:
– А что, корнет, изволите увлекаться книжною премудростью? – и цепко взглянул на Михаила, будто от ответа его зависело нечто важное.
– Один мой дальний родственник, господин полковник, любил повторять слова математика господина Лейбница: «Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа», а кто же сможет отказаться от сокровищ?
– Вот оно что, корнет! – произнес Кнорринг, не скрывая удивления. – Кто ж, если не секрет, этот ваш родственник?
– Очень дальний родственник, господин полковник, – поправил его Барклай, давая понять, что не желает купаться в лучах чужой славы или кичиться родством.
– Хорошо, – сказал Кнорринг, чуть улыбнувшись, – очень дальний родственник.
– Это Леонард Эйлер, – ответил Барклай, – И ему я обязан любовью к чтению, как и его воспитаннику, а моему дядюшке – бригадиру Вермелейну.
– Вот оно что, корнет! – снова воскликнул Кнорринг. – Неплохие у вас родственники, клянусь честью, очень неплохие.
Правда, Кнорринг не сказал, что имя Эйлера ему известно. Не признался и в том, что бригадир Вермелейн не раз встречался ему на театре минувшей войны – не в его правилах было раскрывать карты раньше времени, – но разговор этот он запомнил и, заключая его, предложил корнету взять для прочтения какую-нибудь книгу.
Барклай, учтиво поблагодарив, подошел к шкафу и, поразмыслив, снял с полки сочинение маршала Франции маркиза де Вобана «О строительстве крепостей». Кнорринг сделал вид, что не обратил внимания, какую именно книгу взял корнет, но выбором Барклая остался доволен – великий фортификатор был и его любимым автором.
Так началась новая страница в жизни Барклая, отличавшаяся от прежней тем, что теперь он стал более осмысленно подходить к военной службе. С низшей ступеньки познания ее поднялся он на следующую, чувствуя, что идет верным путем и в зависимости от того, как высоко он поднимется, будут расширяться перед ним горизонты великого, многотрудного и многосложного дела, которому решил он посвятить всю свою жизнь.
Через год стал Барклай полковым адъютантом и погрузился в штабные бумаги, постигая военно-канцелярскую премудрость, так пригодившуюся ему впоследствии.
Адъютантская служба оказалась едва ли не тяжелей строевой: во всяком случае, вставал он точно так же, как и раньше, вместе с полком – по сигналу трубы, возвещавшей в шесть часов утра: «Слушай! Повестка!» А затем весь день среди многих прочих забот прислушивался к сигналам, означавшим переходы от одного дела к другому, и, не выглядывая в окно, знал, когда звала труба на молитву, когда на развод караулов, когда на общий сбор, а когда на экзекуцию. Пулей выскакивал за порог, если слышал сигнал тревоги, и, напротив, вздыхал облегченно, услышав вечернюю зорю, по которой полк отправлялся на покой. А меж этими сигналами был его день заполнен массой дел, до которых не доходили руки у полковника, и надобно было помогать ему. Кроме того, обязан был Барклай следить и за тем, как старослужащих солдат обучали, чтобы сделать из них унтер-офицеров.
И постепенно Барклай стал понимать взаимосвязь полковых служб и уяснил, что строевая служба, сколь она ни важна, есть только одна сторона военного дела. А еще через год осознал и то, что их полк – лишь малая частица огромного и мощного механизма, называемого армией. И что сама армия тысячью нитей неразрывно связана с государством, и что насколько сильна армия, настоль же сильно и государство. Правда, во всей этой структуре пока он мог видеть лишь следующее звено – дивизию, но уже и ее организация была достаточно сложна, ибо входили в нее все войска, расположенные в Лифляндии: и они, кавалеристы, и инфантерия – на российский манер пехота, – и артиллерия, и пионеры, сиречь военные инженеры, и великое множество всяких служб. К примеру, кригс-комиссариат, снабжающий дивизию, а стало быть, и их полк, и следивший за состоянием финансов; инспектора, наблюдающие за личным составом и за продвижением офицеров по службе и всегда знающие, сколько в полку больных и сколько беглых; и военные судьи – аудиторы; и военная полиция; и лекари; и фельдъегери, снующие с казенными бумагами, и еще целый рой всяких военных чиновников, без которых, как ни крути, не обойтись.
А далее в почти недосягаемых и не земных уже, а горних высотах, где-то возле самих небожителей в имперской столице Санкт-Петербурге обитала державная Военная коллегия, до которой было так же далеко, как и до царского престола. Из Военной коллегии бумаги приходили не часто, офицеры приезжали и того реже, а вот из Риги, из штаба Лифляндской дивизии, было и тех и других предостаточно.








