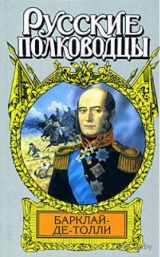
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
«Едет Кутузов бить французов»
Отступление из-под Смоленска окончательно испортило взаимоотношения Барклая со многими начальниками, и особенно сильно с Багратионом. С этого момента и до Бородинского сражения князь Петр Иванович считал тактику Барклая гибельной для России, а его самого – главным виновником всего произошедшего.
В письмах к царю, к Аракчееву, ко всем сановникам и военачальникам Багратион требовал поставить над армиями другого полководца, который пользовался бы всеобщим доверием и наконец прекратил бы отступление.
Глас Багратиона был гласом подавляющего большинства солдат, офицеров и генералов всех русских армий. Царь не мог к нему не прислушаться.
Да и не только Багратион требовал этого.
Еще 27 июля о необходимости поставить одного главнокомандующего над армиями писал царю Ермолов. В этом же письме он предлагал Багратиона, давая ему весьма высокую оценку: «усерднее к пользам Отечества, великодушнее в поступках, наклоннее к приятию предложений быть невозможно достойного князя Багратиона».
Однако у Александра было на сей счет свое мнение. Наиболее откровенно он высказал его 18 сентября 1812 года в письме к своей любимой сестре – великой княгине Екатерине Павловне, с которой был он особенно близок и доверителен:
«Когда человек поступает по своему искреннему убеждению, можно ли требовать от него большего? Этим убеждением я только и руководствовался. Оно побудило меня назначить главнокомандующим 1-й армией Барклая ввиду славы, им приобретенной во время войн с французами и шведами. Глубокое убеждение заставило меня думать, что по познаниям он стоит выше Багратиона. Когда же крупные ошибки, сделанные последним в эту кампанию, бывшие отчасти причиною наших поражений, поддержали во мне это убеждение, я больше чем когда-либо считал Багратиона не способным командовать соединенными армиями под Смоленском.
Хотя я не был особенно доволен действиями Барклая, однако я считал его лучшим стратегом по сравнению с тем, кто в стратегии ничего не понимает. Наконец, в силу этого убеждения я не мог назначить на это место никого иного».
А в письме царя Барклаю от 24 декабря 1812 года, когда Михаил Богданович оказался в кратковременной отставке, Александр высказал ему несколько иные претензии.
«Потеря Смоленска, – писал царь, – произвела огромное впечатление во всей империи. К общему неодобрению нашего плана кампании присоединились еще и упреки, говорили: «Опыт покажет, насколько гибелен этот план, империя находится в неминуемой опасности», и так как ваши ошибки, о которых я выше упомянул, были у всех на устах, то меня обвиняли в том, что благо Отечества я принес в жертву своему самолюбию, желая поддержать сделанный в вашем лице выбор.
Москва и Петербург единодушно указывали на князя Кутузова как на единственного человека, могущего, по их словам, спасти Отечество. В подтверждение этих доводов говорили, что по старшинству вы были сравнительно моложе Тормасова, Багратиона и Чичагова; что это обстоятельство вредило успеху военных действий и что это неудобство высокой важности будет вполне устранено с назначением князя Кутузова. Обстоятельства были слишком критические. Впервые столица государства находилась в опасном положении, и мне не оставалось ничего другого, как уступить всеобщему мнению, заставив все-таки предварительно обсудить вопрос «за» и «против» в Совете, составленном из важнейших сановников империи. Уступив их мнению, я должен был заглушить мое личное чувство».
И все же все было не столь просто и не так однозначно, как писал Александр I. Он действительно не любил Кутузова, но политик всегда брал в нем верх над человеком. И потому, не любя Кутузова, он все же 29 июля направил в Сенат указ: «Во изъявление особливого нашего благоволения к усердной службе и ревностным трудам нашего генерала от инфантерии графа Голенищева-Кутузова, способствовавшего к окончанию с Оттоманскою Портою войны и к заключению полезного мира, пределы нашей империи распространившею, возводим мы его с потомством его в княжеское Российской империи достоинство, присвоил к оному титул Светлости».
Затем Михаил Илларионович был введен царем и в Государственный совет.
Это, несомненно, были предварительные меры для подготовки более важной акции.
5 августа Александр поручил решить вопрос о главнокомандующем специально созданному для этого Чрезвычайному комитету. В него вошли шесть человек: фельдмаршал Салтыков – председатель Государственного совета и председатель Комитета министров; Аракчеев – директор Департамента военных дел, генерал-лейтенант Вязьмитинов, генерал-адъютант Балашов, князь Лопухин, генерал-прокурор Сената и граф Кочубей – дипломат и советник царя. Состав Комитета определялся как должностями его членов, так и личной близостью к Александру. От старика Салтыкова – в прошлом Главного воспитателя Александра и его брата Константина – до сравнительно молодых – Лопухина и Кочубея – все члены Комитета были друзьями царя. Они обсудили пять кандидатур: Беннигсена, Багратиона, Тормасова и 67-летнего графа Палена – организатора убийства императора Павла, вот уже одиннадцать лет находившегося в отставке и проживавшего в своем курляндском имении. Пятым был назван Кутузов, и его кандидатура была тотчас же признана единственно достойной этого назначения.
Чрезвычайный комитет немедленно представил свою рекомендацию императору.
Однако Александр принял окончательное решение лишь через три дня – 8 августа.
В этот день Кутузов был принят императором и получил рескрипт о назначении главнокомандующим.
К командующим русскими армиями – Тормасову, Багратиону, Барклаю и Чичагову – тотчас же были направлены императорские рескрипты одинакового содержания: «Разные важные неудобства, происшедшие после соединения двух армий, возлагают на меня необходимую обязанность назначить одного над всеми оными главного начальника. Я избрал для сего генерала от инфантерии князя Кутузова, которому и подчиняю все четыре армии. Вследствие чего предписываю вам со вверенною вам армиею состоять в точной его команде. Я уверен, что любовь ваша к Отечеству и усердие к службе откроют вам и при сем случае путь к новым заслугам, которые мне весьма приятно будет отличить надлежащими наградами».
Получив назначение, Кутузов написал письмо Барклаю и от себя лично. В этом письме он уведомлял Михаила Богдановича о своем скором приезде в армию и выражал надежду на успех их совместной службы. Барклай получил письмо 15 августа и ответил Кутузову следующим образом: «В такой жестокой и необыкновенной войне, от которой зависит сама участь нашего Отечества, все должно содействовать одной только цели и все должно получить направление свое от одного источника соединенных сил. Ныне под руководством Вашей Светлости будем мы стремиться с соединенным усердием к достижению общей цели, и да будет спасено Отечество».
Левенштерн, описывая события этих дней, рассказывал обо всем случившемся так: «Народ и армия давно уже были недовольны нашим отступлением. Толпа, которая не может и не должна быть посвящена в тайны серьезных военных операций, видела в этом отступлении невежество или трусость. Армия разделяла отчасти это мнение; надобно было иметь всю твердость характера Барклая, чтобы выдержать до конца, не колеблясь, этот план кампании. Его поддерживал, правда, в это трудное время император, видевший в осуществлении этого плана спасение России. Но толпа судит только по результатам и не умеет ожидать.
Император также волновался в начале войны по поводу того, что пришлось предоставить в руки неприятеля столько провинций. Генералу Барклаю приходилось успокаивать государя, и он не раз поручал мне писать его величеству, что потеря нескольких провинций будет вскоре вознаграждена совершенным истреблением французской армии: во время сильнейших жаров Барклай рассчитывал уже на морозы и предсказывал страшную участь, которая должна была постигнуть неприятеля, если бы он имел смелость и неосторожность проникнуть далее в глубь империи.
Барклай умолял его величество потерпеть до ноября и ручался головою (в июне месяце! – В.Б.), что к ноябрю французские войска будут вынуждены покинуть Россию более поспешно, нежели вступили туда.
Я припоминаю, что еще до оставления нами Смоленска Барклай, говоря о Москве и о возможности занятия ее неприятелем, сказал, что он, конечно, даст сражение для того, чтобы спасти столицу, но что, в сущности, он смотрит на Москву не более как на одну из точек на географической карте Европы и не совершит для этого города точно так же, как и для всякого другого, никакого движения, способного подвергнуть армию опасности, так как надобно спасать Россию и Европу, а не Москву.
Эти слова дошли до Петербурга и Москвы, и жители этих городов пустили в ход все свое старание к тому, чтобы сменить главнокомандующего, для которого все города были безразличны…»
Тому, что слова Барклая о Москве дошли до обеих столиц, находятся подтверждения во многих воспоминаниях и письмах. Одно из них – письмо московского главнокомандующего Ростопчина к Багратиону написано 12 августа, когда обе армии находились у Дорогобужа.
«Когда бы Вы отступили к Вязьме, – писал Ростопчин, – тогда я примусь за отправление всех государственных вещей и дам на волю убираться, а народ здешний… следуя русскому праву: не доставайся злодею, обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица. О сем недурно и ему дать знать, чтоб он не считал миллионы и магазейны хлеба, ибо он найдет пепел и золу».
Вот она – правда о московском пожаре, о его организации и исполнителях!
Не следует думать, что назначение Кутузова было воспринято с восторгом всеми. Для подавляющего большинства народа и армии Михаил Илларионович был «идолом северных дружин», но среди высших военачальников существовало и иное мнение.
Свидетельством тому письмо Багратиона Ростопчину от 16 августа 1812 года, накануне приезда М. И. Кутузова в армию.
Багратион, получив рескрипт Александра I от 8 августа, оценил его следующим образом: «Слава Богу, довольно приятно меня тешат за службу мою и единодушие: из попов да в дьяконы подался. Хорош и сей гусь, который назван и князем и вождем! Если особенного он повеления не имеет, чтобы наступать, я вас уверяю, что тоже приведет к вам, как и Барклай.
…Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги. Я думаю, что и к миру он весьма близкий человек, для того его и послали сюда».
И в тот же день, 16 августа, Барклай писал жене: «Что касается назначения князя Кутузова, то оно было необходимо, так как император лично не командует всеми армиями; но счастливый ли это выбор, только Господу Богу известно. Что касается меня, то патриотизм исключает всякое чувство оскорбления».
По получении известия о назначении Кутузова главнокомандующим, Барклай писал императору: «Я хотел бы пожертвованием жизни доказать мою готовность служить Отечеству».
Эти слова менее чем через неделю беспредельною стойкостью, бесконечной верностью, героическими делами своими он подтвердил на Бородинском поле.
В те времена гигантская семья Михаила Илларионовича только самых близких, кровных родственников насчитывала около трех десятков. У пяти его дочерей было пятеро мужей, у них – девятнадцать сыновей и дочерей. Мужья же, кроме того, имели братьев и сестер, племянников и племянниц, у некоторых живы были еще родители, и если бы мы уподобили большую кутузовскую семью некоей планетной системе, то, несомненно, той звездой, тем солнцем ее, вокруг которого все планеты вращались, был самый любимый, самый почитаемый из всех – Михаила Илларионович Голенищев-Кутузов.
Старшей дочерью его была статс-дама двора Прасковья Михайловна, бывшая замужем за сенатором Матвеем Федоровичем Толстым. Только Прасковья Михайловна осчастливила деда десятью внуками и внучками, и, к слову сказать, род Толстых был необычайно многолюден. Под стать ему среди русской элиты были, пожалуй, лишь фамилии Оболенских, Голицыных, Долгоруковых да Плещеевых.
Все родственники глубоко чтили и даже восторженно преклонялись перед седовласым главою семьи. Однако был среди них родственник Кутузова по двум линиям – и со стороны его троюродного брата Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова, и со стороны мужа дочери Прасковьи Матвея Федоровича Толстого, – скромный, почтительный, тихий нравом и во всем безотказный, девятнадцатилетний слушатель Академии художеств Федор Петрович Толстой[59]59
Толстой Федор Петрович (1783–1873) – живописец, скульптор, медальер, создатель 21 медальона в память Отечественной войны 1812 года.
[Закрыть].
Сколь был он тих и добронравен, столь же сильно почитал он своего великого дядюшку и, пожалуй, столь же сильно был он трудолюбив и талантлив. С одиннадцати лет Толстой учился живописи и ваянию в Петербургской академии художеств и за восемь лет стал уже признанным мастером в своем деле.
Когда Кутузов узнал о назначении его главнокомандующим, с утра до вечера находился он в военном министерстве со своими помощниками, полковниками Резвым, Кайсаровым и зятем своим князем Николаем Дмитриевичем Кудашевым, недавно женившимся на младшей его дочери Катеньке.
Они составляли предписания о посылке резервов из Москвы, из Тулы, из Калуги, из восточных областей Украины, и фельдъегери мчались туда один за другим.
А поздно вечером обычно ехал он к любимому своему Логгину Ивановичу и к милой жене его Надежде Никитичне и до полуночи отдыхал у них, потому что атмосфера в их доме была самой подходящей для совершенного отдыха.
Михайле Илларионычу был по сердцу его кузен, с давних пор нравилась его жена, да и сам дом был тих, покоен, уютен, и, казалось, тихие ангелы добра и покоя бесшумно витают под его высокими лепными потолками.
А через час с небольшим после его прихода появлялся деликатный юноша – Феденька Толстой – и, сидя при свече возле камина, тихо и выразительно читал Державина, Жуковского и Батюшкова.
В последний вечер перед отъездом в армию хозяйка дома с женской непосредственностью спросила Кутузова:
– И все же, Михайла Ларионыч, надеетесь побить Наполеона?
– Побить, может, и не побью, а вот обману – обязательно.
Федор Толстой на всю жизнь запомнил эти слова, а потом написал о том в своих «Воспоминаниях», и благодаря ему и мы знаем о них.
За день до отъезда Кутузова к армии Александр уехал в Або для свидания с наследным шведским принцем Карлом Юханом. Наследник шведского престола был фигурой более чем неординарной.
До сорока семи лет он служил во французской армии и получил маршальский жезл из рук Наполеона. Тогда его звали Жаном-Батистом Бернадотом. В 1810 году он был уволен в отставку и в августе того же года приглашен шведским риксдагом на открытую вакансию наследника шведского трона, так как бездетный король Карл XIII был стар и болен.
Выбор риксдага пал на Бернадота потому, что он за несколько лет до отставки, воюя в Голландии, отпустил на свободу взятых в плен шведов – тогдашних союзников голландцев.
21 августа 1810 года шведский риксдаг, рассчитывавший при помощи Наполеона вернуть Финляндию в состав Шведского королевства, избрал Бернадота наследником престола.
Получив из Стокгольма официальное извещение о том, что он вступит в права кронпринца, если примет лютеранство, Бернадот поспешил к Наполеону, чтобы просить его дать соизволение принять предложение риксдага.
Наполеон давно не любил Бернадота, но этот поступок показался ему особенно мерзким.
«Я испытывал тогда, – говорил впоследствии император, – такой приступ отвращения, какой возникает, когда перед тобою внезапно появляется змея. Бернадот действительно был змеей, которую я пригрел на своей груди».
Но политический расчет взял верх, и «змее» было разрешено отправиться в Швецию.
Приехав в Стокгольм, бывший маршал Франции католик Жан-Батист принял крещение по лютеранскому обряду и переменил имя на Карла Юхана, после чего 5 ноября 1810 года был усыновлен Карлом XIII и стал фактическим правителем государства.
Беем был хорош новый кронпринц, да вот только удивлял и царедворцев и слуг тем, что был весьма неприхотлив, застенчив и прост в обращении. Особенно же дивно было то, что Карл Юхан почти обходился без слуг. Если печники, кучера и брадобрей были возле него, то, например, постельничих или камердинеров он и близко не подпускал к своей особе. Не пользовался он и услугами банщиков.
Сначала объясняли это тем, что отец Карла Юхана был скромным провинциальным адвокатом, а сам он начинал службу волонтером в морской пехоте – тут уж не до политеса и пиетета!
«Да, – говорили другие, – все это так, но когда это было? После того, став генералом революции, был Жан-Батист Бернадот и посланником в Вене, и военным министром, и наместником Ганновера, и маршалом Франции, а сорока трех лет, в 1805 году, и князем Понтекорво, а ведь, изменяя свой общественный статус, должен был изменить он и свои привычки».
Однако ж не переменил.
И только через два года узнали его тайну – якобинец и санкюлот Бернадот совсем молодым человеком, как и многие его товарищи, вытатуировал у себя на груди символ мятежа – фригийский колпак, окруженный надписью: «Смерть королям и тиранам!»
Можно ли было дозволить кому-либо из его подданных увидеть на груди у обожаемого ими монарха такую кощунственную надпись?
На первых порах Бернадот избегал осложнений в отношениях с Наполеоном, но после того как в начале 1812 года французы заняли шведскую Померанию, Бернадот заключил мир с Англией и, решив более не ставить на повестку дня вопрос о возвращении Финляндии, стал искать сближения с Россией.
Александр пошел ему навстречу и 10 августа уехал в Або, куда был приглашен им Карл Юхан.
Дипломатические вопросы были улажены быстро, ибо были хорошо проработаны Министерством иностранных дел еще весной 1812 года.
Во время переговоров Александр скрепил своей подписью союзный договор России со Швецией, подписанный полномочным представителем России 24 марта 1812 года.
Бернадот обратился к Александру с просьбой вернуть Швеции Аландские острова, однако царь весьма вежливо, но твердо отказал ему в этом. Зато он согласился содействовать Бернадоту в присоединении к Швеции Норвегии, а тот, в свою очередь, обязался признать присоединение восточной части Польши, если таковое произойдет в ходе войны против Наполеона.
Но в Або встретились не только монархи, но и военачальники – и вопросы стратегии и тактики войны никак не могли остаться в стороне.
– Ваше величество, – сказал Бернадот в разговоре с царем, – я знаю сильные стороны Великой армии, но я знаю и все ее слабости. Для того чтобы выйти победителем из войны с нею, надо избегать решительных сражений, разрушать ее фланги, заставлять Наполеона дробить силы, отвлекая противника на много направлений, изнурять маршами и производить неожиданные контрмарши и партизанские нападения – последние наиболее страшны для французского солдата, о чем свидетельствует Испания. Пусть казаки и партизаны будут везде! – вдруг с откровенной ненавистью к французам воскликнул бывший маршал Франции, и Александру, как и Наполеону за два года перед тем, вдруг пришло в голову, что перед ним внезапно появилась змея…
* * *
11 августа Кутузов выехал из Петербурга к армии. Толпы народа стояли на пути его следования, провожая полководца цветами и сердечными пожеланиями успеха.
На первой станции – в Ижоре – Кутузов встретил курьера из армии и распечатал письмо. В нем сообщалось о взятии французами Смоленска.
– Ключ от Москвы взят! – воскликнул Кутузов и с тяжелым предчувствием неудач, грозящих армии из-за сдачи Смоленска, велел ехать дальше.
По дороге в армию Кутузов подбирал генералов, удаленных Барклаем, но, по его собственному мнению, вполне пригодных к службе.
В Вышнем Волочке 15 августа он посадил в карету к себе отстраненного за интриги Беннигсена, затем – Платова, отставленного за непонятную робость, совершенно прежде ему несвойственную, – за то, что «сближается с армиею от одного лишь авангарда малого неприятельского», и из-за сильного своего пристрастия к чарке.
… 17 августа в третьем часу дня Кутузов приехал в Царево Займище, куда уже пришли обе армии. Еще не сойдя на землю из возка, а только увидев солдат, Кутузов тут же похвалил их:
– Ну как с этакими молодцами и не побить французов?
И тотчас получил ответ:
– Барклай-де-Толли не нужен боле! Едет Кутузов бить французов!
И Барклай вспомнил слова Руссо, прочитанные им в доме дядюшки Вермелейна: «Ничто не влечет за собою так неизбежно неблагодарности, как то, за что никакая благодарность не может быть достаточно велика».
И тут же отбросил ненужные сантименты: «При чем здесь судьба! Упорное благоразумие – вот судьба настоящего человека!»
А счастливый его соперник Кутузов застал войска готовящимися к сражению – вовсю шло строительство укреплений, подходили резервы, полки занимали боевые позиции.
Барклай сдал командование внешне спокойно. Однако самолюбие его конечно же было уязвлено.
У Барклая не могла не вызвать чувства ревности и встреча Кутузова с войсками. Он видел, какой необычайный энтузиазм и сколь сильная и искренняя радость охватили солдат и офицеров при известии о приезде Кутузова, какое всеобщее ликование наступило, когда они его увидели.
Восторг дошел до того, что тут же родилась легенда, что будто бы когда Кутузов ехал по позиции, то над его головой появился большой орел и все время летел над ним, пока он ехал вдоль фронта. Легенда тут же выплеснулась за пределы армии, и вскоре уже петербургские газеты стали писать об этом, и сам Державин сочинил по сему поводу торжественную оду:
Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!
Коль над тобой был зрим орел,
Ты верно победишь французов…
Сдавая дела, Барклай представил Кутузову и строевой рапорт. По списочному составу в обеих армиях числилось 100 453 человека при 605 орудиях.
Барклай не ограничился перечнем того, сколько людей и лошадей находится в его армии, сколько пушек и ружей, пистолетов и сабель, пороха и бомб имеют они на вооружении, каков сопровождающий их обоз и чем заполнены их магазины.
Он сказал Кутузову, что сдает ему боеспособную стотысячную армию, прекрасно вооруженную, отлично экипированную и рвущуюся в бой.
– Ваша светлость! – сказал Барклай. – Наше отступление происходило по воле монарха для того, чтобы вывести войска от ударов превосходящих сил противника, чтобы, выиграв время и получив идущие на помощь нам резервы, встречать неприятеля на выгодных рубежах, сдерживая его и нанося ему существеннейшие удары. Благодаря сей ретираде, во время которой мы не потеряли ни одной пушки и ни одной обозной фуры, мы сумели уменьшить армию неприятеля по крайней мере вдвое, что же касается кавалерии, то в оном роде войск потери еще более велики. По предположениям моим и моего штаба, теперь против нас стоит не более 160 тысяч человек при 550 орудиях. Все сие, ваша светлость, позволяет мне рассчитывать на успех задуманного мною предприятия.
Кутузов слушал вроде бы внимательно, но видно было, о чем-то думал и часто смотрел в глаза то одному из стоявших вокруг Барклая генералов, то другому.
Дослушав рапорт, он ласково и широко улыбнулся, пожал Барклаю руку, поблагодарив вежливым полупоклоном, и сразу же попросил всех господ генералов, не расходясь, остаться на Военный совет.
Пользуясь правом главнокомандующего, по которому старший в Совете выступает последним, Кутузов, так же как и при докладе Барклая, внимательно слушал, молчал, лишь изредка задавая короткие вопросы, дав выступить всем.
Ликующие, взбодрившиеся военачальники, восклицая: «Наконец-то, Господи!», «Ну держись, супостат!», тесной толпой почти уже вышли из горницы Совета, как тихо сидевший Кутузов окликнул их:
– Господа генералы! Приказываю вам все услышанное и сказанное здесь хранить в тайне до поры до времени во избежание ненужных кривотолков, пока не отдам о сражении официального приказа по армии и пока все вы не увидите утвержденный мною «кор де баталь»[60]60
План сражения (фр.).
[Закрыть]. Теперь же – все свободны, окромя полковника Толя.
И когда все вышли и дверь затворилась, Кутузов совсем по-домашнему, как было это в Кадетском корпусе, где Толь был одним из его любимцев, сказал:
– Поди-ка, Карлуша, сядь, попьем чаю с булочками да, как говорят малороссы, погутарим.
Карлуша с удовольствием сел за стол: он очень любил булочки, которыми директор Сухопутного шляхетского корпуса, генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов по воскресеньям потчевал у себя дома лучших своих учеников.
А Карлуша был – самый лучший.
– Вот что, Карлуша, – тихо проговорил Кутузов, с особою, семейною доверительностью глядя в глаза ему. – Ты не Беннигсен и не Барклай, не Дохтуров и не Ермолов, не Сен-При и не Вистицкий, перед коими, сам понимаешь, всего, что думаю, сказать не смогу. И хотя перед Раевским, Коновницыным, Неверовским, Орловым-Денисовым, Уваровым и Багговутом и мог бы быть пооткровеннее, но и им истинное мнение мое высказывать поостерегся бы.
«Всех до единого членов Совета перечислил, – быстро смекнул Толь. – Одного меня не упомянул».
Будто прочитав его мысль, Кутузов сказал:
– Помнится, Александр Васильевич любил говаривать: «Если бы даже только одна моя шляпа знала о том, что я задумываю, то я бы и ее съел».
– Что ж, ваша светлость, выходит, я и есть ваша шляпа?
– Может быть, Карлуша, не только шляпа, но и часть головы моей, молодая ее часть, – рассмеялся Кутузов, и, хотя Толь понимал, что это не более чем учтивость и тонкий комплимент, в чем Кутузов был непревзойденным искусником, молодой полковник зарделся и всем своим видом постарался показать патрону, что готов сделать для него все, что тот прикажет.
– Видишь ли, Карлуша, все, что сказали господа генералы, было правдой, да жаль, не всей правдой. А вся-то она такова, что никакой «второй стены» из восьмидесяти тысяч московского ополчения, обещанного к этим дням Ростопчиным, – нет. И из ста тысяч солдат по строевому рапорту числящихся, каждый шестой – рекрут. Да и на подходе к армии регулярных частей тоже нет, а идут одни только рекруты. Так что начинать мне с конфузии – непригоже. Готовь приказ к дальнейшей ретираде, а офицеров-квартирмейстеров под строжайшим секретом пошли на отыскание новых, более пригодных для генеральной баталии позиций. Россия велика – найдем место и получше этого.
Следующим вечером был зачитан приказ об оставлении позиций и дальнейшем отходе на восток.
Приказ этот, хотя и вызвал недоумение, разочарование и обман надежд, все же не произвел того впечатления и не вызвал таких чувств, которые, несомненно, появились бы, издай такой приказ Барклай.
Пожалуй, было даже нечто утешительное для Барклая, что и Кутузов продолжает ретираду: любой мало-мальски непредвзятый человек мог теперь воочию убедиться, что дело вовсе не в том, кто командует армией, а в том, что в борьбе против Наполеона пригодна лишь одна тактика, которую и будут употреблять, пока вконец не истощат его, а потом, ослабив и измотав, нанесут решительный, смертоносный удар.
Многие поняли это, как только Кутузов этот приказ об отступлении отдал. Одним из этих немногих оказался служивший рядом с Кутузовым полковник Маевский – близкий ему человек, начальник его канцелярии, чьи симпатии к Михаилу Илларионовичу несомненны. О дне приезда Кутузова в Царево Займище и о том, что в этот день произошло, Маевский оставил любопытные записки.
Прежде всего, он попытался объективно оценить роль Барклая и трудности того положения, в каком он находился все время с начала кампании.
«Несчастная ретирада наша до Смоленска делает честь твердости и уму бессмертного Барклая. В современном понятии смотрят в настоящее, не относясь в будущее, и каждый указывает на Суворова, забывая, что Наполеон не сераскир и не Костюшко».
И затем Маевский сообщает: «С приездом Кутузова в Царево Займище все умы воспрянули и полагали видеть на другой день Наполеона совершенно разбитым, опрокинутым, уничтоженным. В опасной болезни надежда на лекаря весьма спасительна. Кутузов имел всегда у себя верное оружие – ласкать общим надеждам. Между тем посреди ожиданий к упорной защите мы слышим, что армия трогается назад.
Никто не ропщет, никто не упрекает Кутузова, и пламенный Багратион принимает это как необходимость, как благоразумие, за которое Барклая назвал бы изменником…
Успев в умах армии, ему нужно было успеть в уме публики и царя, ибо казалось неестественно – Кутузов ретируется без бою назад.
Вот его оборот: «Когда Смоленск, ключ Москвы, в руках неприятеля, то у нас для отпора нет другого места, кроме Москвы».
Так он писал в своем донесении царю, прибавляя еще другое и более сильное – что армия Барклая превратилась в мародеров и что он половину ее употребляет на то, чтобы караулить другую.
В столь горестном положении и половины этой картины было бы достаточно, чтобы поразить царя.
Сам Барклай понимал, что Кутузов во многом находится под влиянием окружающих его людей.
«Вскоре по прибытии князя окружила его толпа праздных людей, – писал Барклай, – в том числе находились многие из высланных мною из армии».
Далее он называет двух адъютантов Кутузова: полковника князя Кудашева и полковника Кайсарова, обвиняя их в интригах, направленных против него лично. Теряя спокойствие и присущую ему объективность, Барклай утверждал, что «оба условились заметить престарелому и слабому князю, что по разбитии неприятеля в позиции при Царевом Займище слава сего подвига не ему припишется, но избравшим позицию». Вот редчайший образец того, как истина и справедливость уступили перед горячностью и несдержанным раздражением.
С последним утверждением Барклая никак нельзя согласиться, ибо Кутузов был выше того, чтобы из-за личного самолюбия снимать армию с сильной позиции и уходить дальше к Москве. Следовательно, не столь уж безосновательными были упреки Барклаю в пристрастном отношении к главнокомандующему и в том, что не столь уж безболезненно передал он Кутузову свой высокий пост.
Уходя из Царева Займища, русская армия шла уже далеко не столь быстро, как от Смоленска. Но как жестоко ни огрызалась она, французы ни на версту не отпускали арьергард Коновницына и Платова, не давая им ни минуты отдыха.
Кавалерия Мюрата шла за русским арьергардом, как кровожадная волчья стая за огрызающейся сворой окровавленных, озлобленных борзых. Девять дней – с 17 до 26 августа, когда армия ушла из Царева Займища и подошла к Бородино, – она пребывала в состоянии непрерывного боя, который навязывал ей Наполеон.
Положение дел напоминало «львиный марш» 27-й дивизии Неверовского, отступавшей 2 августа к Смоленску. Но тогда это была одна дивизия – теперь же по меньшей мере две. Причем марш Неверовского длился полдня, а Коновницын и Платов не выходили из-под огня девять суток, пройдя за это время всего 75 верст – по восемь с половиной верст в сутки. Бои шли и днем и ночью.








