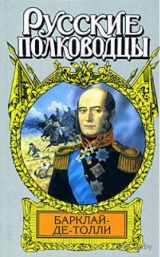
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
То шел тяжелый дормез, запряженный одной, выбивающейся из сил клячей, а то легкую двуколку резво тащили шесть прекрасных рысаков.
Продумав на обратном пути организацию потоков движения жителей и войск через Москву и сверив свои впечатления с большой картой у него на столе, он, еще раз досконально продумав порядок «Великого Исхода», известил об отходе армии Ростопчина.
В письме на его имя Барклай извещал графа Федора:
«1 сентября 1812 года. Под Москвой. Армии выступают сего числа ночью двумя колоннами, из коих одна пойдет через Калужскую заставу и выйдет на Рязанскую дорогу, по коей будет следовать, а другая колонна пойдет через Смоленскую заставу и выйдет на Владимирскую, отколь должна повернуть на Рязанскую дорогу, которою будет продолжать свой марш.
…Прощу вас приказать принять все нужные меры для сохранения спокойствия и тишины, расставляя по всем улицам полицейские команды.
Для армии же необходимо иметь сколь можно больше число проводников, которым все большие и проселочные дороги были б известны…»
Однако Ростопчин-отец уже услал из Москвы полицейских офицеров. И охрану порядка, а также организацию маршрута войск через Москву от Дорогомиловской заставы до выхода на Рязанскую дорогу осуществлял Санглен со своей военной полицией.
Немалая заслуга в организации прохода армии через большой, густо населенный, мало знакомый солдатам город, к тому же забитый десятками тысяч беженцев, огромными обозами и тысячами повозок, принадлежала и самому Барклаю.
Левенштерн так вспоминал об этом: «Дисциплина, введенная в армии генералом Барклаем, соблюдалась столь строго, что по улицам Москвы не бродило ни одного солдата, несмотря на то что мы находились всего в двух верстах от города.
На следующее утро, 2 сентября, все узнали, что армия быстро оставляет Москву.
Генерал Барклай лично следил за всем. Он пробыл в седле 18 часов, не сходя с лошади, и разъезжал по улицам Москвы, наблюдая, как мимо него проходили батальоны, артиллерия, парки и экипажи. Для наблюдения за порядком он разослал своих адъютантов в разные части города.
Благодаря этим мерам войска… выступили из города в величайшем порядке…
В 9 часов вечера из Москвы выступил наш последний отряд…»
По-иному оценивал организацию перехода армии через Москву сам Барклай.
«Отступление, – признавался он, – совершилось не в величайшем порядке. Я утешаюсь мыслию, что, если бы я не употребил в сей день чрезмерных усилий, с пожертвованием самим собою и несмотря на свою болезнь, повсюду бы не присутствовал, армия с трудом вышла бы из Москвы.
Войска не имели проводников, никого не было из квартирмейстерских офицеров, и те, коих обязанность была исправлять дороги, мосты и наблюдать за порядком оных, часто сами заграждали пути».
В «черный понедельник» – 2 сентября – уходили последние москвичи, а «Великий Исход» начался уже 28 августа. Как только на окраинах Москвы появились первые тысячи телег, бричек, дормезов, заполненные окровавленными, стонущими, потерявшими сознание и уже близкими к смерти ранеными, которых везли вот уже более ста верст из-под Бородина, до тех пор на что-то надеявшиеся москвичи дрогнули.
Первыми, еще загодя, бежали помещики свои, подмосковные, с бесконечными обозами и ближней дворней.
Те, что поотчаянней, уверовав в «прелестные листы» графа Ростопчина[62]62
Обращения к жителям Москвы генерал-губернатора графа Ф. В. Ростопчина печатались в «Московских ведомостях» и вывешивались в людных местах города.
[Закрыть], в коих звал он всех православных стать на защиту первопрестольной, собрались с топорами, ружьями, пиками и встали на западе Москвы с восходом солнца, но, прождав «народного вождя» до темноты, так ни с чем и разошлись, ибо «вождь» не явился. А когда тронулась в ретирадный поход армия, вместе с ней ушли почти поголовно все москвичи: из 257 тысяч человек ушло 250!
Уход четверти миллиона детей и женщин, стариков и старух, мужчин, непригодных к службе, напоминал гигантское древнее кочевье, двигавшееся на телегах, бричках, верхом на лошадях и даже на быках и коровах. Вывозили кучи домашнего скарба – мебель, узлы, сундуки, корзины, бочонки и бочки, мелкую живность – коз, телят, овец, птиц в клетках. Все это двигалось вместе под неумолчный гул, рев скотины, собачий лай и рвущие сердце людские стоны и причитания.
Армия шла отдельно, зажатая плотными рядами кавалеристов с обнаженными палашами, которые по приказу Барклая должны были без предупреждения рубить любого, кто попытался бы выйти из рядов марширующей армии.
В два часа дня 2 сентября Наполеон в окружении блестящей свиты въехал на Поклонную гору и стал ждать парламентеров с ключами от ворот Кремля.
Он получил поздравления от маршалов, но более не дождался ничего и через час тронул коня к Дорогомиловской заставе.
Следом за ним двинулась армия, под звуки маршей, грохот барабанов, с распущенными знаменами. Солдаты шли со слезами на глазах и, хлопая в ладони, хором скандировали: «Москва! Москва!»
Но Москва была пуста, и, не встретив ни одного человека до самого Кремля, они вошли в его распахнутые ворота и оказались во дворе, где стояли белокаменные дворцы и златоглавые храмы, будто примерещившиеся в сказочном сне, ибо вокруг стояла такая мертвая тишина, какая только и бывает, когда снятся волшебные сказки.
А когда побрели они по Кремлю, то увидели во дворах и храмах столько вин и яств, такие сокровища, столько серебра и золота, парчи и драгоценных камней, что сказки тут же превратились в явь.
О, было от чего забиться сердцам и закружиться головам!
Но восторг был совершенно мимолетен: не успели они расседлать коней, как над Москвой поплыл густой и гулкий набат сотен колоколов, потому что в городе почти сразу возник невиданный дотоле пожар, вспыхнувший сразу в десятках мест.
Потом было установлено, что московский полицейский пристав Вороненко по приказу Ростопчина подготовил Москву к совершеннейшему сожжению, приказав вывезти из Москвы все пожарные насосы и все две тысячи пожарных.
И когда перед Кутузовым встал вопрос: вывозить ли из Москвы полтораста орудий, десятки тысяч снарядов и бомб, более ста тысяч ружей и сабель, то Светлейший предпочел все это оставить врагу, а вот все «огнегасительные снаряды» из Москвы вывезти.
Что и было сделано.
И русские войска еще не дошли до городских ворот, а первопрестольная уже закурилась синим жертвенным фимиамом, являя собою величайшую жертву, добровольно возложенную на Алтарь Отечества.
И потому трижды прав был Ермолов, заявивший: «Собственными нашими руками разнесен пожирающий ее пламень. Напрасно возлагать вину на неприятеля и оправдываться в том, что возвышает честь народа».
Расстрелы поджигателей русских ни к чему не привели, укротить океан огня не удалось, и французская армия осталась почти под открытым небом, почти без продовольствия, в преддверии осени, в затылок которой уже дышала страшная русская зима.
С полудня 2 сентября до утра 3-го между русскими и французами было заключено перемирие, по которому неприятель обязался не входить в Москву. Этого времени оказалось достаточно для того, чтобы все, кто мог и хотел покинуть Москву, оставили бы ее.
Пока Барклай пропускал через город армию и беженцев, Кутузов вместе с главными силами проехал на Рязанскую дорогу и к вечеру 2 сентября достиг деревни Панки, расположенной в 25 верстах от Москвы. Он ехал в карете с зашторенными окнами, опасаясь взрыва недовольства москвичей, многие из которых считали, что он их предал.
При выезде из оставленной Москвы, 2 сентября вечером, граф Ростопчин присоединился к свите Барклая. Как генерал-губернатор Москвы, он считал своею обязанностью быть при войсках, пока они будут находиться в пределах Московской губернии.
7 сентября пути их разошлись: Барклай с армией вышел на Рязанскую дорогу, а Ростопчин отправился в свое имение Вороново, расположенное на Старой Калужской дороге.
Крепостным он велел уйти из деревни, а свой роскошный особняк и все имение сжег.
Затем, через Владимир, он уехал в Тарутино, где остановилась русская армия, а оттуда – в Ярославль.
Барклай нагнал Кутузова к ночи 2 сентября в 25 верстах от Москвы в деревне Панки. Фельдмаршал спал в карете, в то время как вся армия с тревогой смотрела на северо-восток: 2 сентября вечером отступавшие войска и беженцы впервые увидели у себя за спиной зарево занимающегося московского пожара. И чем дальше уходила армия, тем сильнее он становился.
Арьергарды видели его шесть ночей, до самой последней – с 8 на 9 сентября.
Не дождавшись делегации «бояр», Наполеон уехал с Поклонной горы и остановился со свитой в большом барском особняке, брошенном уехавшими из города хозяевами. Там же решил он провести и свою первую ночь в Москве – со 2 на 3 сентября.
Перед сном к нему явились адъютанты, поселившиеся в разных частях Москвы, и все, как один, заявили: во всех районах города начались пожары. Сообщали, что в городе, кроме того, начались грабежи.
Наполеон связал два этих явления и решил, что и то и другое – дело рук его солдат.
Он тут же назначил герцога Тревизского, маршала Эдуарда Мортье военным губернатором Москвы и потребовал прекратить грабежи и пожары.
Ночью ему сообщили, что горит центр города, Гостиный двор и те районы Москвы, где французы не остановились на постой.
Сильный ветер способствовал тому, что пожар разгорался все сильнее. Утром 3 сентября Наполеон поехал в Кремль, намереваясь устроить там свою резиденцию. Он был поражен красотой и великолепием города и еще более удивлялся, что Москва совершенно безлюдна.
Однако вскоре эти впечатления отступили на второй план – город час от часу горел все сильнее и к вечеру 3 сентября превратился в пылающий костер. Горел Каретный ряд, казенные склады в Замоскворечье и сотни обывательских домов. Уже в пять часов утра полицейский пристав Вороненко с помощниками-полицейскими по приказу Ростопчина поджег Винный и Мытный дворы, а затем метался по всей Москве, поджигая все, что могло представлять интерес для французов.
Были сожжены почти все пороховые склады, почти все фабрики.
В ночь с 3 на 4 сентября Наполеон и его свита проснулись от яркого света, полагая, что наступил солнечный, необычайно ясный день, но это был апофеоз московского пожара – Москва превратилась в огненный океан.
В Кремле находился Арсенал, огромный пороховой склад и большой французский артиллерийский парк.
Наполеон забыл об опасности. Глядя на вихри огня, задыхаясь от дыма, он повторял: «Это они сами поджигают! Что за люди! Какая решимость! Какая свирепая решимость! Какой народ!»
Маршалы уговорили Наполеона оставить Кремль и перейти в загородный Петровский дворец.
Вот что писал об этом уходивший вместе с Наполеоном, его свитой и Старой гвардией граф Сегюр: «Нас осаждал океан пламени: пламя запирало перед нами все выходы из крепости и отбрасывало нас при первых попытках выйти. После нескольких нащупываний мы нашли между каменных стен тропинку, которая выходила на Москву-реку. Этим узким проходом Наполеону, его офицерам и его гвардии удалось ускользнуть из Кремля… Но как идти вперед, как броситься в волны этого огненного моря? С каждым мигом вокруг нас возрастал рев пламени. Единственная извилистая и кругом пылающая улица являлась скорее входом в этот ад, чем выходом из него. Император, не колеблясь, пеший, бросился в этот опасный проход. Он шел вперед, сквозь вспыхивающие костры, при шуме трескающихся сводов, при шуме от падения горящих бревен и раскаленных железных крыш, обрушивавшихся вокруг него… Мы шли по огненной земле, между двумя стенами из огня».
Наконец добрались они до Петровского замка и смотрели оттуда на продолжавшую гореть Москву, которая напоминала вулкан с сотнями пылающих кратеров.
Великий город был уничтожен пожаром на две трети. Из 9151 дома уцелело от пожара 2626 домов, но и они были начисто разграблены захватчиками. Были ограблены все монастыри и церкви, все кремлевские соборы, сожжены и уничтожены богатейшие библиотеки.
В огне московского пожара погиб подлинник великого литературного памятника – «Слова о полку Игореве», полотна выдающихся западных живописцев, уникальные произведения искусства, фарфор, бронза, мебель, скульптура.
Пожар уничтожил дома, имущество и продовольствие стоимостью примерно в 300 миллионов рублей. Остальное разграбили и уничтожили мародеры, в которых превратилась вся армия захватчиков – от генералов гвардии до армейских обозников. Через три недели после вступления оккупантов в Москву она была сожжена, разрушена и разграблена до основания.
Однако московский пожар стал и грозным предвестником того, что ожидало Великую армию на обратном пути из России, – она шла по выжженной и опустошенной земле, и зарево горящих деревень освещало ее путь к гибели.
Глава шестаяТарутинский маневр
А теперь возвратимся к тому дню, когда армия Кутузова вышла 2 сентября из Москвы и пошла по Рязанской дороге. Пройдя к ночи 25 верст, армия встала у деревни Панки, окончательно запутав противника, который искал ее на Владимирской и Старой Калужской дорогах.
На второй день отступления из Москвы армия дошла до деревни Кулаково. Барклай снова призвал де Санглена и вручил ему депеши, которые не удалось отправить из Можайска. На сей раз Барклай добавил к письмам царю еще и письма к князю Горчакову и к жене. «Я вскоре за вами последую», – сказал Барклай, прощаясь с Сангленом.
Еще через сутки армия подошла к Боровскому перевозу. Казалось, что и дальше она пойдет на юг – к Коломне, но вдруг войска получили приказ повернуть на запад: туда, где находились вторые эшелоны наступающих французских войск.
Письмо Кутузова императору было первым после того послания, что он отравил вечером, после окончания Бородинского сражения, уверяя Александра, что неприятель разбит и он завтра погонит его из пределов Отечества.
Прошло больше недели, но что это были за дни!
Лишь 7 сентября получил Александр от Ростопчина короткое письмо, из которого узнал и об отступлении от Бородина, и о десятках тысяч убитых и раненых, и о сдаче Москвы, и о начавшихся там пожарах.
Существует версия, что, прочитав письмо Ростопчина, Александр за одну ночь сделался совершенно седым.
Сам же он считал, что из-за этих апокалипсических несчастий мгновенно стал другим человеком, которому московский пожар осветил душу.
И вот еще через три дня после письма Ростопчина Александр получает рапорт своего главнокомандующего, в котором находит полное подтверждение тому, о чем написал ему московский генерал-губернатор. И из письма новоиспеченного фельдмаршала, опровергшего свою победоносную бородинскую реляцию, несчастный Александр узнал, что Кутузов потерял убитыми и ранеными более половины армии, что не Наполеон, а он, Кутузов, оставил позицию и два дня назад сдал Москву.
Александр узнал, что Наполеон в Кремле, что столица вторые сутки охвачена небывалым по силе пожаром.
Кутузов написал это письмо после того, как подошел к Боровскому перевозу и уже никак не мог молчать, а обязан был разъяснить смысл предпринятого им маневра.
4 сентября из деревни Жилино Кутузов написал императору:
«Осмеливаюсь всеподданнейше донести Вам, Всемилостивейший Государь, – писал Кутузов, – что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с войсками, которых успел я спасти, делаю я движение по Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние защищать город Тулу, где хранится важнейший оружейный завод, и Брянск, в котором столь же важный литейный двор, и прикрывает мне все ресурсы, в обильнейших наших губерниях заготовленные. Всякое другое направление пресекло бы мне оные, равно и связь с армиями Тормасова и Чичагова, если бы они показали большую деятельность на угрожение правого фланга неприятельского.
Хотя я не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым, отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию.
Генералу Винценгероде предписано от меня держаться самому на Клинской или Тверской дороге, имея между тем по Ярославской казачий полк для охранения жителей от набегов неприятельских партий.
Теперь, в недальнем расстоянии от Москвы, собрав мои войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия Вашего Императорского Величества цела и движима известною храбростию и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря Отечества».
И далее Кутузов добавил фразу, которая вскоре сыграла роковую роль и в судьбе Барклая, и в их взаимоотношениях. Более того, она заставила Михаила Богдановича потратить несколько месяцев на то, чтобы эту фразу – точнее, эту мысль Кутузова – опровергнуть. Вот она, эта фраза:
«Впрочем, Ваше Императорское Величество всемилостивейше согласиться изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерею Смоленска и с тем расстроенным совершенно состоянием войск, в котором я оные застал».
Прочитав письмо, царь не стал полемизировать со своим фельдмаршалом, почему, например, его «совершенно расстроенная армия» выиграла сражение при Бородине, не стал пенять Кутузову за то, что он упорно молчал целые десять напряженнейших дней: по-видимому, уже здесь проявился в нем тот новый человек, душа которого была освещена московским пожаром.
Вслед за тем Кутузов замолчал еще на тринадцать дней – с 4 по 17 сентября, послав, правда, к Александру полковника Мишо – француза на русской службе – и поручив устно изложить императору все, что произошло в Москве с тех пор, как его армия вошла в первопрестольную.
Мишо прибыл в Петербург 8 сентября, когда армия уже совершила свой великолепный маневр, перейдя у Боровского перевоза с Рязанской дороги на Старую Калужскую, но Мишо там не был, о маневре ничего не знал и потому рассказал императору только то, что велел ему Кутузов и чему он сам был свидетелем.
Узнав, что Москва сгорела и что французы вошли в город, Александр заплакал.
Затем царь спросил, каков дух армии, и услышал в ответ, что армия горит желанием сражаться до победы.
Завершая беседу, царь сказал Мишо:
– Возвратившись в армию, скажите нашим храбрецам, скажите моим верноподданным, везде, где вы проезжать будете, что если у меня не останется ни одного солдата, то я созову мое дорогое дворянство и добрых крестьян, что я буду предводительствовать ими и пожертвую всеми средствами моей империи. Россия представляет мне более способов, чем неприятели думают. Но ежели назначено судьбою и Промыслом Божиим династии моей более не царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу стыд моего Отечества и дорогих моих подданных, коих пожертвования умею ценить. Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать; я его узнал, он более не обманет меня!
Для того чтобы скрыть истинное направление отхода главных сил, оба русских арьергарда – на Рязанской дороге и у Боровского перевоза – продолжали вести бои с французами.
Противник был введен в заблуждение и на несколько дней потерял из виду семидесятитысячную русскую армию. Наполеон считал этот маневр вершиной воинского мастерства Кутузова и назвал его выдающимся.
Барклай дал исключительно высокую оценку этому маневру Кутузова, вошедшему в историю военного искусства под именем Тарутинского маневра, так как конечным его пунктом было намечено село Тарутино.
«От Дорогомилова, где мы переправились через Москву-реку, исполнили мы два фланговых перехода в Красную Пахру и нашли в оной Старую Калужскую дорогу, – писал Барклай. – Сие движение есть важнейшее, приличнейшее к обстоятельствам из всех, совершенных со времени прибытия князя. Сие действие доставило нам возможность довершить войну совершенным истреблением неприятеля. Удостоверение столь для меня успокоительное, что было в состоянии облегчить болезненное положение, изнурявшее меня с самого Бородина; невзирая на унижения, ежедневно меня угнетавшие, невзирая даже на обидную, ничего не значащую должность, исполняемую мною в армии, я единственно помышлял о непременном уничтожении неприятеля…
В это время, – писал Барклай, – вся 2-я армия, большая часть егерских полков 1-й армии, 1-й кавалерийский корпус составляли ариергард армии, расположенный частию на Московской дороге, под начальством генерала Милорадовича, а частию на Подольской, под командою генерала Раевского. Я напомнил, что надлежало выслать отряды в окрестности Можайска; тогда отряжен был генерал-майор Дорохов с некоторым числом войск в направлении к Вязьме». (А Вязьма находилась в полутораста верстах от Главной армии, и это был очень глубокий диверсионный партизанский рейд.)
Простояв два дня у Подольска, армия двинулась дальше – к Красной Пахре, где встала на привал, продолжавшийся целых пять дней.
Позиция у Красной Пахры показалась Барклаю не очень сильной, и он сначала посоветовал Кутузову укрепить ее фортификационными сооружениями, а потом предложил занять другую, находящуюся на правом берегу Пахры, чтобы река была перед фронтом.
Но Кутузов не принял совета Барклая. Он приказал армии сниматься с позиции и двигаться на юг по Старой Калужской дороге.
Его решение объяснялось тем, что Мюрат в эти дни наконец-то обнаружил главные силы русской армии, и Кутузов не исключал того, что вскоре к Красной Пахре может подойти и сам Наполеон со всеми своими войсками.
13 сентября Раевский сообщил о приближении неприятеля в тылу и на фланге армии. Это вызвало сильное замешательство и привело к серьезной передислокации русских войск. Барклай предложил атаковать французский авангард и ударить по его правому крылу, но Кутузов не согласился ни с одним из его предложений и не исполнил ни одного из представленных им маневров.
Утром 14 сентября Барклай встретил Беннигсена. Начальник Главного штаба был совершенно уверен в скором нападении противника и потому, подъехав к Барклаю, сказал:
– Боже мой! Шестой корпус еще не пришел. Я боюсь, чтобы неприятель не атаковал нас до его прихода.
– Успокойтесь, генерал, – ответил ему Барклай. – Неприятель не окажет вам сего удовольствия.
И действительно, 14-го весь день не было слышно ни одного пушечного выстрела.
Вечером Барклаю сообщили, что в пятнадцати верстах к югу, у деревни Мочинской, найдена удобная позиция и армия выступит туда завтра в пять часов утра.
Так оно и произошло, но во время этого перехода Барклай снова сильно заболел лихорадкой и опять не смог ехать верхом.
А 16 сентября ему донесли, что русский арьергард отступает под натиском французов и расстояние между ними сократилось до пяти верст. Михаил Богданович написал Коновницыну, чтобы он от его имени попросил Кутузова разрешить атаковать неприятеля и одновременно послать сильные отряды к окрестностям Можайска.
Кутузов согласился, и встречная атака была произведена силами 2-го корпуса и 1-й кавалерийской дивизии, но Беннигсен, лично руководивший этой операцией, по обыкновению, не уведомил об этом Барклая.
«Наконец помышляли о решительном нападении, – писал Барклай. – Три раза приказание было отдано, и три раза отменено; наконец, под вечер, Милорадович выступил вперед к Красной Пахре, атаковал сию деревню, занятую неприятелем, вытеснил его из оной, но отступил по наступлении темноты. Мы потеряли при сем случае четыреста человек гусар».
А еще через два дня, 18 сентября, обе стороны стали готовиться к решительным действиям. Русский арьергард примкнул к армии, которая выстроилась в боевой порядок, но нападения французов не произошло. Тогда в ночь с 18 на 19 сентября армия выступила в поход и 21-го прибыла в Тарутино, где и стала лагерем, завершив маневр, начатый полмесяца назад.
23-го французы в последний раз попытались оттеснить русский арьергард, но Милорадович нанес решительный ответный удар и отразил неприятеля на несколько верст.
Наступила тишина – необычная, настороженная, но боевые действия не возобновлялись…
Село Тарутино, расположенное в 80-ти верстах к юго-западу от Москвы, стало центром огромного лагеря, в котором остановилась 85-тысячная русская армия.
По фронту и с левого фланга лагерь прикрывали реки Истья и Нара. В тылу рос густой лес. Солдаты укрепили позиции, создав непроходимые засеки, выкопав рвы, насыпав валы и поставив рогатки.
Армия располагалась в четыре линии: первая – 2-й и 6-й пехотные корпуса; вторая – 3, 4, 5 и 7-й пехотные и 1-й кавалерийский корпус; третья – 8-й пехотный корпус и отдельные кавалерийские полки; и четвертая – две дивизии кирасир и артиллерия резерва. В авангарде стояли части 2-го и 4-го кавалерийских корпусов, а на флангах размещались семь полков егерей.
30 сентября 1812 года участник Тарутинского маневра Федор Глинка писал: «На месте, где было село Тарутино Анны Никитишны Нарышкиной, и в окрестностях оного явился новый город, которого граждане – солдаты, а дома – шалаши и землянки. В этом городе есть улицы, и площади, и рынки. На сих последних изобилие русских краев выставляет все дары свои. Здесь, сверх необходимых жизненных припасов, можно покупать арбузы, виноград и даже ананасы… тогда как французы едят одну пареную рожь и, как говорят, даже конское мясо! На площадях и рынках тарутинских солдаты продают отнятые у французов вещи… Казаки водят лошадей. Маркитанты торгуют винами, водкой. Здесь между покупщиками, между продающими и меняющими, в шумной толпе отдохнувших от трудов воинов, среди их песен и музыки забываешь на минуту и военное время, и обстоятельства, и то, что Россия уже за Нарою…»
В тот же день, когда Глинка написал приведенное выше письмо, в Главной квартире Кутузова вышли «Известия для армии» о пребывании русских войск в Тарутине:
«Главная квартира, деревня Леташевка. 30 сентября 1812 года.
Армия находится более недели близ села Тарутина на правом берегу Нары и, пребывая в совершенном спокойствии, получает от того новые силы. Полки укомплектовываются прибывающими из разных губерний формированными генералом от инфантерии князем Лобановым-Ростовским войсками. В лагере производится учение рекрутов, горящих рвением сразиться с неприятелем. Лошади нашей кавалерии, получая в довольном количестве фураж и стоя на здоровом водопое, приметным образом поправляются. Продовольствие устроено таким образом, что армия не терпит ни малейшей нужды, и большие, к армии ведущие дороги покрыты транспортами, идущими из самых хлебородных губерний, близ коих армия расположена. Ежедневно прибывают выздоровевшие офицеры и солдаты. Больные и раненные на поле чести, находясь среди России, между родных своих и сограждан, получают всякие пособия, какие только от матерей и жен, от братьев и детей ожидать можно.
Расстроенные силы неприятеля не позволяют делать ему против нас покушений. Удалением от пределов своих лишен он всех пособий; продовольствие его час от часу становится затруднительнее и пленные уверяют единодушно, что в их армии употребляют в пишу лошадиное мясо, несмотря на то что у них мяса более, нежели хлеба. Наипаче претерпевают лошади неприятельской артиллерии и конница их. Большая часть сей последней погибла в сражениях, особенно в знаменитый для российского оружия день 26 августа, а остальные кавалерийские полки терпят в фураже величайший недостаток, ибо неприятельская армия окружена со всех сторон нашими партиями, отрезывающими ей всякое сообщение. Неприятель столь стеснен в доставании себе фуража, что фуражиры его не отправляются иначе как под сильными прикрытиями, которые, однако ж, бывают всегда преодолеваемы нашими партиями. Сильные отряды наши находятся на Можайской, Санкт-Петербургской, Коломенской и Серпуховской дорогах, и редко проходит день, в который бы не приводили 300 человек и более пленных.
Самые крестьяне из прилегающих к театру войны деревень наносят неприятелю величайший вред. Россияне стремятся с неописанною ревностию на истребление врагов, нарушающих спокойствие Отечества. Крестьяне, горя любовию к родине, устраивают между собою ополчения. Случается, что несколько соседних селений ставят на возвышенных местах и колокольнях часовых, которые, завидя неприятеля, ударяют в набат. При сем знаке крестьяне собираются, нападают на неприятеля с отчаянием и не сходят с места битвы, не одержав конечной победы. Они во множестве убивают неприятелей, а взятых в плен доставляют к армии. Ежедневно приходят они в Главную квартиру, прося убедительно огнестрельного оружия и патронов для защиты от врагов. Просьбы сих почтенных крестьян, истинных сынов Отечества, удовлетворяются по мере возможности, и их снабжают ружьями, пистолетами и порохом. Во многих селениях соединяются они под присягою для общего своего защищения с тем, что положено жестокое наказание на случай, есть ли бы оказался кто из них трусом или бы выдал друг друга…»
По всему было видно, что чаша весов победы наконец-то решительно стронулась в сторону русских. Однако Барклаю не суждено было участвовать при этом. Он заболел сильнее прежнего, и 21 сентября подал Кутузову рапорт, «испрашивая позволения оставить армию для поправления своего здоровья. Получив оное, отправился из армии 22 сентября вечером».
Описывая прощание с Барклаем, Левенштерн вспоминал: «Все генералы явились проститься с ним и провожали его до экипажа. Все были растроганы. В эту минуту армия считала себя осиротевшею.
Генерал Ермолов имел весьма опечаленный вид. Он поцеловал Барклая несколько раз в плечо.
При прощании с Левенштерном Барклай сказал:
– Теперь все против меня, и я должен удалиться; но настанет время спокойного обсуждения прошедших событий, и тогда мне отдадут справедливость. Великое дело сделано, остается только пожать жатву. Фельдмаршал ни с кем не желает разделить славы изгнания неприятеля, а я бы охотно принял в этом участие хотя бы в звании командира моего прежнего Егерского полка. Мое присутствие вызывает раздоры, и потому я удаляюсь. Мой памятник остается: прекрасная, к бою готовая армия, а перед нею – потрясенный противник в безнадежном положении».
Наконец Барклай уехал… Фельдмаршал Кутузов был рад отделаться от него.
21 сентября, когда больной, не находящий себе достойного применения полководец, часто игнорируемый и казавшийся даже самому себе неприлично докучливым, взвесив все, подал рапорт об отставке по болезни, шел сотый день войны. Рапорт был Кутузовым немедленно удовлетворен. После этого никем не замеченного факта пройдет два с половиной года, и Наполеон после первой ссылки сбежит с острова Эльбы и высадится на юге Франции, начав свой последний героический марш, который, по иронии судьбы, продлится также ровно сто дней, с тою только разницей, что сразу же, как только это произойдет, сотни журналистов и историков, захлебываясь кто от ненависти, а кто – от неуемного восторга, опишут «Сто дней» Наполеона в десятках и сотнях статей. А о «ста днях» Барклая до сих пор написано до обидного мало. А ведь это были самые трудные и самые героические дни эпопеи Двенадцатого года.








