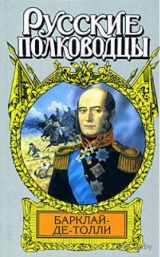
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Барклай коротко рассказал о прошедшем десятилетии, сказал о деле, по которому приехал в Петербург, упомянув и о визите к Палену. Последнее обстоятельство почему-то особенно заинтересовало Леонтия Леонтьевича, но когда он узнал, что больше Барклай с Паленом не встречался, интерес его как-то угас, и расстались они почему-то уже не столь сердечно, как встретились.
Вскоре после этой встречи, подгадав к Рождеству, Барклай уехал к себе в полк.
Там немного погодя узнал он с совершеннейшей достоверностью, что с Дона на восток ушли неизвестно куда и неизвестно зачем сорок тысяч казаков.
Говорили, что повел их в беспримерный зимний поход атаман Платов, о котором приходилось слышать Барклаю разное, даже и то, будто был он недавно посажен в секретный каземат Петропавловки.
А вслед за тем пришла и еще более нежданная, громоподобная весть – в ночь с 11 на 12 марта 1801 года скоропостижно, от апоплексического удара скончался император Павел Петрович. Так говорилось в присланном в полк Высочайшем Манифесте, который подписал новый император всероссийский – Александр.
По старому государственному регламенту, по получении такого Манифеста следовало учинить присягу на верность новому монарху, что и было незамедлительно совершено.
Сразу же дошли до Полангена и слухи о совсем иной причине смерти Павла Петровича – о заговоре. И среди тех, кто был среди зачинщиков и руководителей заговора и убийц государя, стали называть Палена и Беннигсена.
Однако же среди тех, кто сменил на вершинах власти любимцев покойного императора, их не было, зато появились новые имена – генерал-прокурора Беклешова, канцлера графа Панина, государственного казначея барона Васильева.
Через месяц после того узнали, что донцы Платова идут обратно и что их поход, целью которого, как стало известно, была Индия, благоразумно прекращен молодым государем.
А потом одна за другой посыпались еще более отрадные новости. Александр отказался от притязаний на Мальту и уже через три месяца утвердил конвенцию о дружбе с Англией.
Еще раньше были восстановлены дипломатические отношения с Австрией, и, подчеркивая незыблемость старой дружбы с домом Габсбургов, в Вену поехал прежний посол – граф Алексей Кириллович Разумовский.
Одновременно Александр протянул руку дружбы и Франции, прекратив все войны, доставшиеся в наследство ему от безумного отца.
А осенью 1801 года на посту канцлера вместо старика Панина появился и новый руководитель внешнеполитического ведомства – граф Виктор Павлович Кочубей, олицетворявший новую эпоху в иностранной политике России, ибо он призывал императора не заключать более никаких военных союзов, ограничившись лишь торговыми соглашениями.
Среди военных потомок легендарного Кочубея пользовался дурной славой якобинца и, что еще хуже, несгибаемого миролюбца. А что может быть для военных вреднее и гибельнее канцлера-миротворца?
Вступив в должность, Кочубей с согласия Александра разослал российским послам во всех странах такой меморандум: «Россия достаточно велика и могущественна пространством, населением и положением. Она безопасна со всех сторон, лишь бы сама оставляла других в покое. Она слишком часто и без малейшего повода вмешивалась в дела, прямо до нее не касавшиеся. Никакое событие не могло произойти в Европе без того, чтобы она не предъявляла притязания на участие в нем. Она вела войны бесполезные и дорого ей стоившие. Благодаря счастливому своему положению император может пребывать в дружбе с целым миром и заняться исключительно внутренними, преобразованиями, не опасаясь, чтобы кто-либо дерзнул потревожить его среди этих благородных и спасительных трудов. Внутри самой себя предстоит России совершить громадные завоевания, установив порядок, бережливость, справедливость во всех концах обширной империи, содействуя процветанию земледелия, торговли и промышленности.
Какое дело многочисленному населению России до дел Европы и до войн, из них проистекающих? Она не извлекла из них ни малейшей пользы».
Такой взгляд на важнейшие предметы для бытия России был близок молодому императору, в первые же дни своего царствования надевшему на себя мантию миротворца и предпочтившему мечу лавровую ветвь. Но все мирные намерения рухнули, не просуществовав и года.
20 мая 1802 года Александр отправился из Петербурга в первую свою заграничную поездку. Путь государя лежал в Мемель, к любезному его сердцу прусскому королю Фридриху Вильгельму III и его очаровательной супруге – Луизе, которую не только придворные льстецы называли «волшебницей и феей».
24 мая царь с небольшой свитой приехал в Ригу, побывал в театре и на балу, данном в его честь, а потом до трех часов ночи читал государственные бумаги. На следующее утро уже в семь часов видели его ездившим по городу верхом, в девять – на вахт-параде. К полудню был он в старом орденском замке, принимая офицеров рижского гарнизона, а после того – на обедне в соборе. В обед принял он в замке дворян, купцов и бюргеров Риги, получив в подарок серебряный кубок, из которого почти сто лет назад пил в этом же зале Петр Великий. После обеда осмотрел царь крепость, ратушу, приюты и богадельню, а потом посетил водяную мельницу, библиотеку и музей. Оказавшись на мельнице, пожаловал Александр и в дом к мельнику, а в библиотеке попросил позволения почитать собственноручные письма Лютера.
В восемь часов открыл император бал, на котором танцевало сто пятьдесят пар, и, расточая улыбки и комплименты, до полуночи танцевал и сам, а потом снова до трех часов ночи читал и писал и уже в семь утра был в церкви, где крестил сына генерал-майора Языкова, названного в честь крестного отца Александром.
Проведя смотр Таврического гренадерского полка, откушал государь чай в доме гражданского губернатора Рихтера и отправился дальше – в Митаву.
В Полангене ожидали визита Александра, но он проехал южной дорогой и уже 29 мая прибыл в Мемель.
А обо всем, что случилось в Риге, в Полангене тут же узнали и из писем родственников, и от приехавших из Курляндии факторов и искренне радовались тому, что наконец-то на российском престоле оказался столь добрый и трудолюбивый царь.
Приехал Александр в Мемель – город, соседний с Полангеном и отделенный от него границей более чем условной, через которую и торговцы, и иные партикулярные граждане ходили безо всякого стеснения, ибо Пруссия была державою дружественной и «контрабандный» товар был здесь большою редкостью. И приходили из Мемеля в Поланген новости о пребывании там их императорского и их королевских величеств столь же скоро, сколь скорой оказывалась фельдъегерская почта.
Однако, зная о чисто внешних событиях, которыми сопровождалась встреча, – о балах, парадах, прогулках, обедах, – почти никто, кроме двух-трех десятков ближайших к монархам придворных, не знал, что Александр буквально потерял голову из-за прусской волшебницы и феи.
С этих пор царь перестал рассматривать Пруссию как политическую единицу, как государство, у которого могут быть свои, отличные от России цели, задачи и интересы, и стал смотреть на нее сквозь магический кристалл своего восторженно-влюбленного отношения к Луизе.
Отсюда по отношению к Пруссии у Александра появились особые мерки, и все это в конце концов привело Россию к последствиям сколь непредвиденным, столь и трагическим, которые дали о себе знать не сразу, зато весьма основательно.
Вернувшись в Петербург, Александр, кроме массы дел по внутреннему переустройству империи, должен был разобрать и не меньшее количество дел внешнеполитических.
Здесь в центре вновь оказалась Франция.
2 августа 1802 года всенародным плебисцитом, при котором миллионы голосов были поданы за Бонапарта и лишь восемь тысяч – против, он был избран пожизненным консулом Франции.
Дальнейшее движение Бонапарта к укреплению единоличного господства над собственной страной и к установлению почти столь же авторитарной гегемонии над почти всеми другими государствами Европы оказалось стремительным и неотвратимым.
Превратившись в диктатора с неограниченными правами, Бонапарт оформил свою власть так, как уже многие столетия не удавалось никому в мире: 2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам он сам возложил себе на голову императорскую корону, приняв титул императора французов.
Новый император не был в глазах европейцев мудрым философом-миролюбцем, каким остался в анналах истории, например, Марк Аврелий: он явился перед ними в пурпурной тоге Юлия Цезаря, с мечом, обагренным кровью германцев, бриттов и склавинов. Остановить его могла только объединенная Европа. Она и сплотилась в Третью коалицию, состоявшую из России, Австрии, Англии и Швеции. 28 июля 1805 года подписанием союзного трактата Россией и Австрией создание Третьей коалиции было завершено.
И стало ясно, что новая большая война – не за горами.
Глава втораяОт Аустерлица до Эйлау
Об эту пору Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов жил в своем житомирском имении Горошки, подаренном ему покойной государыней Екатериной Алексеевной за последний Польский поход.
Приехал он сюда не по своей воле. Всему перед тем с ним случившемуся была своя история.
11 марта 1801 года, в последний день жизни и царствования Павла Петровича, был он зван к государеву столу. Велено было прийти и старшей его дочери Прасковье Толстой, кою император любил и даже двум ее сыновьям был крестным отцом. Из-за приязни государя, а также, разумеется, и из-за заслуг Михаила Ларионовича была Прасковья статс-дамой императрицы Марии Федоровны.
За ужином собралось вместе с сидевшей во главе стола августейшей четой девятнадцать человек. Были старшие сыновья государя с их женами, прелестными молодыми дамами – Елизаветой и Анной, была пятнадцатилетняя дочь государя Мария, а из молодых статс-дам, кроме Прасковьи, сидела среди гостей графиня Пален. Мужа ее не было, по-видимому, из-за великих забот, от которых не знал он покоя ни днем ни ночью. Было и еще с полдюжины других придворных.
Кутузову показалось, что, вопреки обыкновению, государь заметно пьян и более, чем всегда, сумрачен. Кутузов обратил внимание и на то, что столь же сумрачен и очень печален был цесаревич Александр.
Потом государь повеселел, стал шутить с дамами, особенно охотно с Прасковьей, и в разговорах с гостями не обошел и отчего-то загрустившего сына.
– Не болен ли ты? – спросил государь участливо.
– Благодарю вас, ваше величество, я чувствую себя хорошо, – как всегда, почтительно, но сильно побледнев, ответил Александр.
– А я сегодня видел неприятный сон, – сказал Павел. – Мне приснилось, что на меня натягивают тесный парчовый кафтан и мне больно в нем.
После этих слов Александр побледнел еще более.
Павел первым встал из-за стола и пошел к себе в спальню. Еще не дойдя до двери столовой, он остановился возле Кутузова и сказал, смеясь:
– Погляди, Михаила Ларионыч, в зеркало.
Кутузов взглянул, увидел в нем отражение государя и свое собственное и вопросительно посмотрел на Павла.
– Странное зеркало, я вижу в нем свою шею свернутой, – сказал Павел и загадочно усмехнулся.
И с тем, как-то театрально всем поклонившись, ушел.
На следующий день Кутузов узнал, что государь мертв.
Он конечно же не поверил ни одному слову Манифеста – слишком тесны были его связи с дворцом, слишком умен и многоопытен он был, чтобы принять за чистую монету сказанное в Манифесте. И все же то, что во главе заговора стоял Пален, а особенно то, что о заговоре знали и Александр и Константин, оказалось и для него неожиданностью, причем крайне неприятной, ибо здесь налицо было наряду с низким коварством и гнусным предательством еще и нечто худшее, такое, что Кутузов, солдат и христианин, оценил не просто как преступление, но и как величайший смертный грех, ибо было содеянное не только цареубийством, но и, что еще хуже, отцеубийством.
И все благородные поступки нового императора – амнистию, уничтожение Тайной канцелярии, пенсии вдовам, призрение сирот, возвращение в службу изгнанных Павлом офицеров и чиновников и многое другое – Кутузов воспринимал как стремление заглушить муки совести сына-отцеубийцы.
И летом того же года император отослал в курляндские имения Палена, лишив его поста петербургского военного губернатора, и назначил на него Кутузова.
Кроме основных обязанностей военного губернатора, пришлось Кутузову заниматься и множеством иных. Он встречал иноземных принцев, принимал меры по охране колодников, когда отправили их сплавлять лес для Петербурга, отдавал под суд изуверов-помещиков, посылал гусар и казаков ловить в уездах столичной губернии бродяг и беглых, искоренял азартную карточную игру, кою государь совершенно не терпел, считая ее «открытым грабительством, когда бесчестные хищники одним ударом исторгают у несчастных достояние предков, веками службы и трудов уготованное», а также следил и за тем, чтоб не было в полках дуэлей и иных нарушений порядка, спокойствия и благочиния.
И вот в сонме этих забот и непрерывных беспокойств не придал он особого значения тому, что у графини Салтыковой сбежал ее крепостной человек, тупейный художник, мастерством коего она очень дорожила. Ловкого парикмахера так и не нашли. Графиня пожаловалась на нерасторопность Кутузова государю, и тот бегство одного крепостного человека возвел в абсолют и всю деятельность петербургской полиции, которая Кутузову подчинялась, признал негодной.
Тот же час Кутузов был смещен, и на место его прибыл генерал-адъютант граф Комаровский, а через неделю он и вовсе был от службы отставлен.
Кутузов вспомнил, что случившееся поразило его: он не ждал от царя такой неблагодарности, не видел в допущенном проступка столь значительного, чтоб можно было за него карать так строго его, старого, израненного генерала, у которого было огромное семейство, о чем государь прекрасно знал.
Он уехал в Горошки и поселился там в своем доме, стоящем на холме неподалеку от церкви. Внизу протекала тихая, красивая речка Икша, а из окон видны были неохватные дали – луга и леса до самого окоема.
Здесь погрузился он в тот мир, который любил более всего: в мир нив и пажитей, на которых зрели хлеба и пасся скот; в мир ласковых восходов и тихих закатов; в мир трудолюбия, бесхитростности, составлявших в совокупности то, что зовут иногда деревенской идиллией, а порой и пастушеской пасторалью, но что на самом деле и представляет подлинную гармонию человеческого бытия, ибо человек и природа сливаются здесь в единое целое.
И когда бродил Кутузов по полям и лесам, или стоял в церкви, или предавался филозофическим раздумьям, то нередко приходила к нему мысль, что не военачальником надо было ему становиться, а быть простым, обыкновенным помещиком, какими были его многочисленные псковские родственники, ибо не знал он большей радости, чем семья – дочери, внуки, жена, зятья, и уж конечно огонь домашнего камина не променял бы он на бивачные костры, у которых собирались его мужественные комбатанты.
Порой признавался он себе, что, должно быть, становится старым, что все труднее ездить ему в седле, что болят суставы – обычная болезнь всех ветеранов, многие годы проведших под дождем и снегом. И все же в глубине души затаилась у него обида на государя – слишком бесцеремонно и безжалостно отлучил его от армии, которой сердце его принадлежало не менее, чем жене и детям.
Но чем дольше жил он в деревне, тем чаще новый образ жизни стал выявлять свои изъяны: эконом хотя и был в своем деле профессор, но против его ума и сноровки недоставало ему хотя бы наполовину честности, и мужики на поверку оказались не буколическими пейзанами, а нерадивцами да бражниками, не упускавшими к тому же случая непременно что-нибудь стянуть.
Управляющий другим его житомирским имением, Райгородком, был и вовсе мошенник, и оттого деревенская жизнь становилась для Кутузова и вовсе несносной.
А потом дела оказались и совсем дрянными – и выходило, что вести дипломатические дела при султанском дворе и даже командовать корпусом проще, нежели управлять хозяйством в простой сельской экономии.
Устроить винокурню на восемь котлов не мог он целый год, завести порядочную пивоварню тоже не удалось, стоял недостроенным и селитренный заводик, и пришлось продавать строевой лес на вырубку, а отходы от лесоповала, смешав с травой, пережигать на поташ[45]45
Щелочная соль.
[Закрыть]. Но все это денег почти не давало, а Екатерина Ильинична и дочери – статс-дамы и фрейлины – требовали все больших сумм, и от всего этого пришел Михаил Илларионович в состояние, близкое к отчаянию.
Невольно вспоминал он и Суворова в Кончанском, и многих иных, оказавшихся в свое время в отставке: Кнорринга, Буксгевдена, Беннигсена, даже Палена.
Ко всем бедам пал на него и Божий гнев. А как иначе следовало расценить то, что дважды за три года выгорало большое село его – Райгородок, где кроме тысячи домов сгорело сто лавок и сорок кабаков? Как отнестись к тому, что из тех же трех лет два года были неурожайными и он раздал мужикам даром и хлеб, что был приготовлен на продажу, и сено, и солому, не считая немалых денег на погорельцев? Как было понимать, что прямо из дома кто-то из слуг украл шкатулку с десятью тысячами рублей?
И вдруг примчался в Горошки фельдъегерь и вручил ему ордер – быть на государевом смотре.
Смотр обернулся маневрами, причем одною стороной командовал царь, а другою – он, Кутузов.
Было у каждой из сторон по двенадцать полков, и государь маневрами остался доволен, но заключительным смотром командовал уже не Кутузов, а Константин Павлович, и дело кончилось устною высочайшею благодарностью, после чего, окрыленный было надеждою, полководец вынужден был отъехать в свои деревни варить пиво и пережигать на поташ траву и деревья.
И уже казалось ему, что теперь пробудет он в Горошках этаким уездным Цинциннатом – скромным, доблестным гражданином, презревшим свет и удалившимся в деревню. Казалось, что и умрет он здесь, среди местных знатоков Священного Писания, отставных секунд-майоров, необычайно гордых знакомством с ним, и их жен – провинциальных львиц, перебрасывавшихся с его высокопревосходительством французскими любезностями.
А ему до чертиков надоели и побитые молью секунд-майоры, и захолустные жеманницы, и соседи-помещики, чья жизнь проходила на конских ярмарках, в спорах с прасолами и перекупщиками, в карточных играх, псовых охотах и истинно русской богатырской потехе – вечном борении с зеленым змием.
Конечно же он, как и за пять лет перед тем Суворов, неотрывно следил за всем, что происходило и в Петербурге, и в других столицах, читал газеты, но более всего узнавал из множества приходящих к нему писем.
Он знал, что Бонапарт, став императором, еще более укрепил и увеличил свою армию, собрав ее на берегах Ла-Манша, в Булони, чтобы в один далеко не прекрасный для англичан день перепрыгнуть из Франции на Британские острова и поставить гордый Альбион на колени. Он чувствовал, что гроза сгущается и молнии вот-вот сверкнут. И когда услышал он звон колокольчика фельдъегерской тройки, то знал уже наверное – это за ним.
И, все же порядочно волнуясь, сломал он печати на конверте и, напрягая зрение, прочел: «Михаил Ларионович! Избрав Вас к командованию Первою армиею, в австрийские пределы вступить долженствующую, были понуждены мы к сему испытанным благоразумием и усердием Вашим, искусством, соединенным с храбростию, и известною любовью Вашей к славе Отечества… Александр».
Он ехал к Могилеву, а уже фельдъегери государя и фельдъегери из его пятидесятитысячной 1-й армии, называвшейся также и Подольской, спешили ему наперерез с приказами, донесениями, письмами, сообщая, где теперь его колонны, которым 23 августа надлежало выйти к границе с Баварией. Кутузов читал депеши, которые посылали ему командиры колонн – Багратион, Витгенштейн, Дохтуров, Милорадович, обстрелянные боевые генералы, побывавшие и в Италии, и в Швейцарии, и в Польше, и в Швеции, дравшиеся под знаменами Румянцева, Потемкина и Суворова, бывавшие и его соратниками, и был уверен, что противнику несдобровать.
Почти столько же бумаг получал он и от военно-полевой службы пятидесятитысячной 2-й армии, называвшейся Волынской, командующим которой был соратник Суворова по подавлению пугачевского бунта Иван Иванович Михельсон, побывавший с тех пор во многих кампаниях.
31 августа Кутузов пересек русско-австрийскую границу и через девять дней в местечке Мысленице догнал армию.
Здесь получил он от австрийского императора строжайший приказ ускорить движение. Император требовал увеличить дневные переходы в два раза, обещая удвоить фуражный рацион лошадям, ибо пехоту везли на телегах, и артиллерия шла на конной тяге, и кавалерия, само собой, тоже шла на лошадях.
Михаил Илларионович чуть вздохнул, прочитав столь странную сентенцию, и в самых осторожных выражениях поделился с королем Францем своими предположениями, что резвость не всегда прибывает в той же пропорции, что и рационы.
На деле же и прежние, одинарные рационы в армию не поступали. Провиант для солдат шел и того хуже, пушки были неизвестно где – по-видимому, там же, где и бомбы к ним, ибо ни пороха, ни снарядов тоже не приходило.
Застряли где-то в пути лазареты, кажется, заблудились команды ремонтеров со сменой лошадей, исправно поступали только приказы Гофкригсрата, и из-за всего этого Кутузов поехал в Вену. Аудиенция у императора была короткой и практически бесплодной.
Кутузов быстро возвратился к армии, назначив местом сбора всех войск Браунау.
Самым же полезным в его визите было то, что он узнал, где находятся и куда идут корпуса Наполеона, ибо, как только Бонапарту стало известно о выступлении русских войск, его войска пришли в движение.
Булонский лагерь, создававшийся Наполеоном на берегах Ла-Манша два года и представлявший смертную угрозу Англии, прекратил свое существование в считанные дни. Стоило только Наполеону получить известие, что армии Кутузова и Михельсона отправились на помощь Австрии, как он тут же отдал приказ идти на Вену.
Большая армия, насчитывающая более двухсот тысяч солдат и офицеров, была построена в семь корпусов и отдельную когорту Старой гвардии.
Во главе корпусов шли лучшие военачальники Наполеона, получившие звания маршалов Франции накануне его коронации. Это были Жан-Батист Бернадот, Луи-Никола Даву, Никола-Жан Сульт, Жан Ланн, Мишель Ней, Пьер-Франсуа Ожеро и единственный среди них дивизионный генерал, но все же будущий маршал – Огюст Фредерик Мармон.
Почти всю кавалерию, сорок четыре тысячи всадников, вел маршал Иоахим Мюрат, зять императора, женатый на сестре его Каролине.
Корпуса двигались с точностью хорошо отлаженного часового механизма. Они шли разными дорогами, но график их движения был так отработан, что в один и тот же день они оказались почти в одной точке на берегу Дуная, вокруг крепости Ульм.
Кутузов ехал в Браунау, когда вдруг получил известие, что идти к Ульму его армии уже поздно – 20 октября, а по русскому юлианскому календарю – 8-го, Макк капитулировал, сдав всю свою армию.
Кутузов был поражен, когда в Браунау в его штабе появился и сам фельдмаршал Карл Макк фон Лайберих.
За обедом, устроенным в его честь, Макк рассказал, что Наполеон, получив из его рук шпагу и акт о капитуляции, долго и дружески беседовал с ним, после чего отпустил из плена под честное слово. Макк сказал всем сидящим за столом генералам, что превосходящие силы противника со дня на день могут оказаться у Браунау и окружить русскую армию.
Кутузов точно так же оценивал создавшуюся обстановку, и потому 1-я армия начала отход, ставя перед собою задачу соединиться со 2-й армией Михельсона.
Кутузов, назначив в арьергард Багратиона, стал отходить по южному берегу Дуная на восток, а князь Петр Иванович вскоре же столкнулся с авангардом наполеоновских войск и повел с ними упорные бои, давая главным силам спокойно и в порядке совершать ретираду.
Кроме двух армий, отправленных в Австрию, в Литве и Белоруссии стояла еще одна – армия Беннигсена. Она была почти обсервационной, то есть наблюдающей. Обсервационные армии чаще всего выдвигались на границу к соседнему государству, которое было ненадежным или колеблющимся, чтобы наблюдать за его армией и не дать противнику использовать территорию этого государства для нападения.
Таким государством на сей раз была Пруссия. Чтобы нейтрализовать ее, армия Беннигсена развернулась в Литве и Польше, а из Кронштадта в Штральзунд и к острову Рюген вышла эскадра с шестнадцатитысячным десантом под командой генерала графа Петра Александровича Толстого – друга императора Александра и командира Преображенского полка.
Барклаю в новой войне вновь досталась роль постороннего свидетеля, обреченного на то, чтобы следить за войной. Хотя его полк тоже считался в походе, но все еще стоял в Полангене, ожидая приказа к выступлению.
Егеря Барклая входили в тридцатитысячную Третью армию Беннигсена, но армия не могла двинуться с места, потому что Фридрих Вильгельм, до смерти боявшийся Наполеона, не разрешал русским, сокращая путь к Ульму, пройти по территории Пруссии.
И лишь когда на землю Пруссии вступил без всякого на то разрешения корпус маршала Бернадота и пошел к Дунаю, как по своей собственной территории, король разрешил и Беннигсену перейти прусскую границу. 3-я армия повернула на юг, направляясь через Пруссию и Польшу к единому пункту сбора с армиями Кутузова и Михельсона.
Александр, отслужив 9 сентября в Казанском соборе молебен, отправился в действующую армию, чтобы через сто лет после Петра Великого впервые стать во главе русских войск и повести их в бой.
Однако перед тем решил он заехать в Берлин к Фридриху Вильгельму, чтобы все же склонить его к участию в войне с Наполеоном.
Еще не склонив прусского короля к союзу, Александр переподчинил 2-ю армию генералу от инфантерии Буксгевдену, отправив Михельсона в Молдавию, где назревала новая война с турками.
Кутузов, узнав о произошедшей перестановке, остался доволен и ею. Фридрих Буксгевден, на русский лад писавшийся Федором Федоровичем, был тремя годами младше Кутузова и учился в одном с ним кадетском корпусе, потом пути их пересеклись под Бендерами и Браиловом, где был Федор Федорович тяжко ранен и награжден первым своим Георгием. После того воевал он со шведами, и за битву при Роченсальме снова стал Георгиевским кавалером. Отличился он и при штурме Праш, за что Суворов назначил его комендантом Варшавы.
В день коронации возвел его Павел в графское Российской империи достоинство, но вскоре оказался он в немилости и был отправлен в деревню.
На собственную свою погибель назначил государь на место Буксгевдена фон дер Палена, а верный Федор Федорович, ничего не подозревая, жил в своем имении, пока не произошла «коронная перемена», после чего был он возвращен в армию.
Теперь Буксгевден встал под команду Кутузова. Депеша о перемене в командовании 2-й армии пришла и в штаб Беннигсена, а оттуда узнал о том и Барклай. Он немало слышал о Буксгевдене, особенно о делах его при Роченсальме, но служить у него под началом Барклаю не пришлось, да и пока что лично его и 4-го егерского это не касалось, и Михаил Богданович просто принял к сведению известие о Буксгевдене, подумав только: «Если доведется быть с ним в деле, то и увижу, каков он и на что горазд».
А пока происходило все это, стало известно, что 13 октября Александр с триумфом въехал в Берлин, но на том победы его и кончились: Фридрих Вильгельм подписал секретную конвенцию о том, что Пруссия примыкает к Третьей коалиции, но воевать с французами пока не будет.
С тем и покинул Александр Берлин и помчался к императору Францу и своим армиям, что находились в австрийских владениях.
Обо всем этом Барклай узнавал вдали от театра военных действий и мог лишь переживать за государя, за Кутузова, за Буксгевдена.
С опозданием на две недели узнал он об арьергардных боях у Ламбиха, у Амштеттена, у Сен-Пельтена. Узнал он с тревожною радостью и о том, что 30 октября, у города Кремса, Кутузов одержал победу над маршалом Эдуардом Мортье, а вскоре же и о том, что Мюрат без боя занял Вену, откуда австрийский император бежал в Ольмюц, куда приехал Александр и где соединились обе русские армии.
У Барклая отлегло от сердца – по его подсчетам союзные войска превосходили противника чуть ли не в полтора раза. Как вдруг в конце ноября подобно грому среди ясного неба прогрохотало: Аустерлиц!
Весть об этом пришла в штаб Беннигсена, когда его армия подходила к Бреслау, преодолев уже две трети пути. А как только остановился штаб в самом городе, то стали приходить сначала слухи, потом письма с теми же вестями, наконец появились газеты. Правда, в них содержались известия, угодные правительству и потому с разговорами и слухами не во всем согласные.
Однако, сколь ни противоречивы были эти толки, вскоре стало ясно, что под Аустерлицем произошла катастрофа и что русская армия потерпела такой разгром, какого не знала она уже сто лет со времен Нарвы.
Говорили, что во всем виноваты австрийский генерал-квартирмейстер Вейротер, представивший двум императорам план предстоящего сражения, и сам государь, не послушавшийся Кутузова, который предлагал в сражение не вступать, пока не подойдут дополнительные силы.
Государь велел начинать, Кутузов возражать не осмелился, и бой начался.
Наполеон страшным и стремительным ударом на господствующие Праценские высоты захватил их, втащил туда свою артиллерию и буквально расстрелял армию союзников.
Потеряв только убитыми тридцать тысяч человек и почти все орудия, союзники побежали.
Говорили, что государь плакал, что он едва не попал в плен и перемирие с победителями заключал один Франц, чья столица была в ста верстах от Аустерлица.
Потом от людей, близких ко двору, довелось Барклаю узнать, что аустерлицкая катастрофа сильно изменила характер Александра: он стал подозрительным, строгим, не терпел возражений, не хотел знать правды, а из всех приближенных слушал одного лишь Аракчеева. Но поражение все же не образумило его до конца, и он решился продолжить борьбу с Наполеоном.
Тем более что Наполеон, поставивший Австрию на колени и находившийся на вершине могущества, заключил с Англией мир и перекроил карту Германии, создав из шестнадцати немецких государств так называемый Рейнский союз и объявив себя его протектором. Он посадил на престол Неаполитанского королевства своего брата Жозефа, на престол Нидерландов другого брата – Людовика, а союзным ему владетелям Баварии и Вюртемберга дал титулы королей.
В сентябре 1806 года для нового противостояния Наполеону возникла еще одна коалиция – Четвертая, – в которую вошли: Россия, Англия, Швеция и Пруссия.
Наполеон начал с Пруссии. 14 октября 1806 года в один день он сам и маршал Даву в двух сражениях, происходивших при Иене и Ауэрштедте, наголову разгромили прусскую армию.








