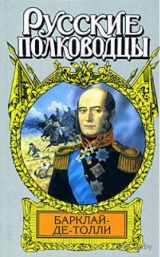
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц)
Книга первая
Исход
Глава перваяМладенчество
Пастор Мартин – настоятель протестантской церкви в Жемайтии[2]2
Жемайтия (или Жемайте) – историческая область на северо-западе современной Литвы. С XIII в. была самостоятельным княжеством, с XV в. объединилась с Литвой. Название употреблялось, до начала XX в.
[Закрыть] – был высокоученым теософом, но среди своих собратьев – священников-лютеран – слыл он человеком, не чурающимся греховного вольнодумства, а порой и чернокнижия – впрочем, самого невинного.
Тайною страстью отца Мартина была ведовская наука астрология, в кою верил он порою почти как в Евангелие.
И потому, узнав, что у супругов Барклай 13 декабря родился сын, стал он ждать крестин где-то сразу после Рождества Христова, а тем временем еще раз заглянул в старые, но надежные гороскопы, составленные великим Иоганном Кеплером, и прочел все, что говорилось о мальчиках, рожденных под знаком Каприкорна – сиречь Козерога. Под этим, десятым, знаком Зодиака, который Солнце проходит между 21 декабря и 19 января, когда Марс имеет возвышение, а Юпитер – падение, рождаются воины и государственные мужи, обладающие несгибаемой волей и выдающейся храбростью.
В первое воскресенье после Рождества мальчика принесли в церковь, и отец Мартин, еще не приступив к таинству крещения, сказал родителям, только взглянув на безмятежно спящего младенца:
– Будет он высок ростом и строен, худ лицом, скромен и тих, но усерден и серьезен и будет добиваться успеха неутомимой работой, все преодолевая терпением и волей.
Будет тверд в своих намерениях и в конце концов добьется видного положения и станет знаменит и могуществен. Будет он человеком практически даровитым и весьма уверенным в своих силах. Он свершит предначертанные ему дела лучше, чем кто-либо другой. Господь дарует ему характер гордый и независимый. Спокойный, холодный, собранный и отчаянно смелый, он не станет выставлять свои чувства напоказ, но будет очень искренним, верным и преданным в привязанностях. Эти качества станут проявляться не так уж часто, ибо судьба сделает его скрытным, прячущимся от любопытных взоров под броней немногословия и великой сдержанности.
Отец Мартин замолчал и, отринув крестным знамением от себя и от младенца все языческое, только что здесь прозвучавшее, велел матери распеленать его и после краткой молитвы окунул в купель.
Мальчик, на удивление всем, не издал ни звука.
Завершая крещение, пастор нарек младенца Михаилом Андреасом и подал маленькое розовое тельце матери, поздравляя ее и отца. Мать, быстро схватив сына, тут же отерла его чистым холщовым полотенцем и начала ловко пеленать.
Пастор же, отойдя к столу, на котором стояла чернильница, лежали пук гусиных перьев и толстая книга записей о рождениях, свадьбах и смертях прихожан, торжественно воссел на высокий стул с резной спинкой и, неспешно очинив перо, медленно вписал в приходскую книгу затейливой готической вязью первые казенные слова о новом гражданине и христианине: «Михаил Андреас, сын Барклая-де-Толли из Памушисе, крещен здесь в 1761 году, в воскресенье после Рождества».
Отец Мартин встал и, прочитав сделанную им запись, еще раз блеснул эрудицией.
– Всякое имя, – сказал он, – имеет свой сокровенный смысл. Так и эти два имени – Михаил и Андреас – отныне отдают его под покровительство двух небесных патронов. Сначала о первом из них – Михаиле. Уже в Ветхом Завете архангела Михаила – архистратига небесного воинства – зовут «великим князем, стоящим за сынов своего народа». А в Апокалипсисе предстает архангел Михаил победителем ужасного дракона и низвергателем с небес самого Сатаны. Он же повел богоизбранный народ по пустыне, когда шли евреи из Египта. И так как из трех архангелов только Михаилу повелел Бог-Отец быть архистратигом, то и князья-воины считают его своим покровителем, дарующим им победы и ратную славу.
А второе данное мальчику имя отдает его под покровительство святого апостола Андрея, коего Христос первым призвал к себе в ученики. Андрею был свойствен дар проповеди, и ему было суждено, так же как и Христу, принять страдальческую смерть на кресте. Однако же это «вовсе не означает, что тех, кому покровительствует апостол Андрей, ожидает мученическая кончина: при его покровительстве носящие имя Первозванного становятся первыми во всех начинаниях, которые они предпримут.
Здесь велеречивый теософ умолк, поняв, что, пожалуй, хватил через край, объявив явление миру чуть ли не нового Цезаря или Александра Македонского.
Заметил это и отец новообращенного Михаила Андреаса Барклая-де-Толли. И, зная за высокопросвещенным богословом эту слабость – любил поговорить о божественном и таинственном, – все же был поражен его необыкновенным красноречием и, оттого чуть смутившись, произнес:
– Спасибо, отец Мартин, за добрые слова о том, что ждет моего сына. Однако не кажется ли вам всё сказанное сильным преувеличением?
– Сын мой, – ответил пастор, – все, что сказал я, воистину написано в книгах судеб, и это не я говорил о новом рабе Божием Михаиле Андреасе, но пророки и провозвестники.
…Так как имя Готтард по-немецки означает «Богом данный», впоследствии Михаила Барклая-де-Толли в России стали по отчеству называть Богдановичем.
Почти никто не знал, что в глуши литовских лесов в середине декабря 1761 года родился младенец Михаил Андреас, но десятки, а потом и сотни тысяч людей тремя неделями позже, 5 января 1762 года, узнали, что умерла после долгих мучений российская императрица Елизавета Петровна.
Она была еще жива и то впадала в беспамятство, то ненадолго приходила в себя, когда на дверях церквей и на стенах домов были развешаны сообщения о победе под Кольбергом. Но как только императрица умерла, в тот же самый день ближайший друг Петра Федоровича его генерал-адъютант Андрей Гудович помчался в Берлин к Фридриху II с известием о восшествии на российский престол его прозелита[3]3
Прозелит – букв.: тот, кто принял новое вероисповедание.
[Закрыть] Петра III[4]4
Петр III Федорович (1728–1762) – российский император с 1761 г., был сыном герцога голштейн-готторпского Карла-Фридриха и Анны Петровны; и хотя он прибыл в Россию в 1742 г., но сохранял пропрусские симпатии.
[Закрыть]. В послании новый император сообщил и о своем желании установить вечную дружбу с прусским королем.
А к Бутурлину понеслись фельдъегери с приказами немедленно кончать войну. Однако же сия совершеннейшая в политических делах перемена коснулась лишь тех, кто в оных предприятиях участвовал или имел к ним какое-либо касательство. А так как, кроме военных да чиновных людей, мало кто был той войне сопричастен, то и к замирению с королем почти все остались безучастными, хотя в душе и порадовались: люди перестанут не из-за чего погибать да еще, даст Бог, поборы станут поменьше.
И Барклаю не до войны было и не до политики, ибо собственные его дела шли из рук вон плохо, и более всего следовало ему задуматься о дне сегодняшнем, который, вопреки евангельской мудрости, приходить-то приходил; да вот вместе с ним Господь пищи не приносил…
А меж тем минул волчий месяц декабрь, прошло морозное Крещение, зима надела медвежью шкуру и начала стучать по крышам, дыша студеными ветрами, рассыпая из рукавов иней и сковывая воду в реках на три аршина.
В такое время, когда светало близко к полудню, а темнело вскоре после обеда, шли Готтарду в голову невеселые мысли: не смог он вести свое хозяйство, хотя и надрывался на пашне с утра до вечера. Да и арендатором-то он лишь назывался, а на самом деле был самым заурядным вольным хлебопашцем, ибо не было у него ни одного работника. И оттого еле-еле сводила его семья концы с концами, а улучшения Готтард не предвидел, все более убеждаясь в справедливости пословицы: «От трудов праведных не наживешь палат каменных».
И однажды Готтарда вдруг осенило: «А ведь палаты-то каменные у меня совсем недавно были, правда, не Бог весть какие, но все же каменные – не чета нынешним, деревянным». И тут же вспомнил он другую пословицу: «От добра добра не ищут». И признался себе Готтард, что ушел и из каменных палат, и от добра на поиски лучшей жизни, а нашел бревенчатую избу, клочок земли, изнурительную работу от зари до зари и скудный достаток, не шедший ни в какое сравнение с прежнею жизнью.
И когда признался себе во всем этом, то с горечью сам же себя спросил: «А почему все это случилось и кто во всем том виноват?» И ответил: «Да я сам. Кто же еще?»
* * *
Вспоминая тридцать пять прожитых лет, Готтард делил их на несколько неравных долей: первую, несомненно самую счастливую, когда был он ребенком, заласканным маменькой последышем, самым любимым из трех ее сыновей; вторую, когда стал он отроком и не захотел признавать главенства над собою двух старших братьев, из-за чего возникло между ними взаимное отчуждение; третью, когда определился он в военную службу, столь же несомненно злосчастную; и четвертую, когда встретил он свою судьбу, Маргариту, осветившую его жизнь лучезарною любовью, которая скрашивала многие темные стороны их нелегкого совместного бытия и, несмотря на каждодневные трудности, делала его жизнь радостной, а главное – наполненной высоким смыслом – истинной полезностью.
Отец его, Вильгельм Барклай-де-Толли, был богатым, преуспевающим юристом и негоциантом, сначала муниципальным советником Большой гильдии Риги, а когда Готтард подрос, стал и бургомистром этого процветающего ганзейского[5]5
Город входил в Ганзу – в торговый и политический союз северных немецких городов в XIV–XVI вв. во главе с Любеком. Союз этот осуществлял посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой.
[Закрыть] города. Поднявшись на вершину власти, отец купил два больших и богатых имения, завещав их старшим сыновьям, один из которых готовился, как и отец, стать юристом, другой – служить в казначействе.
Поскольку Вильгельм Барклай был богат и, подобно местным помещикам, владел усадьбой и землей, да к тому же его часто видели в окружении благородных господ, одетого в кружева и бархат, в длинном белом парике и с золотою цепью на груди, то все в Риге стали считать его не простым богачом-толстосумом, а прирожденным знатным господином, в чьих жилах течет голубая кровь ливонских рыцарей.
Готтард помнил, как однажды необычайно торжественный отец, разряженный и надушенный, словно молодой дворянин из тех, коих именовали петиметрами[6]6
Щеголь (от фр. petit-maitre).
[Закрыть], повел матушку и его с братьями в церковь Святого Петра, где в полдень должны были освятить их родовой герб, который отец сумел поместить на одной из внутренних колонн храма.
В церкви Готтард долго изучал герб рода Барклаев и соседние гербы, с которых чванливо и высокомерно глядели на толпу горожан геральдические львы и орлы остзейских[7]7
То есть прибалтийскими, так как Балтийское море называлось Остзее (Ostsee).
[Закрыть] графов и баронов, вздымались мечи и копья, парили сказочные птицы и ангелы. Он внимательно читал гордые девизы благородных фамилий, чьи предки были тевтонскими рыцарями и чьи потомки сегодня стали остзейскими – и рижскими в том числе – нобилями и патрициями. И вдруг он понял, что отец хотя и добился права уравнять род Барклаев с известными во всей Европе фамилиями, но только по праву богатого, однако он не мог сравняться с ними в славе, ибо их лавры были добыты не купеческим золотом, а мечом, кровью и доблестью рыцарей.
И именно тогда решил Готтард стать офицером, чем немало удивил отца, ибо на его памяти в семье Барклаев военных не было, а все, кого он знал, шли по стезе негоции. Военные же если и были, то столь давно, что память о них уже утерялась.
Подумав, отец решил, что младшему сыну можно стать и офицером, ибо военные, именуемые «дворянством шпаги», имели преимущество перед «дворянством пера», то есть священниками. Так враз, совершенно неожиданно, решилась его судьба.
Вскоре Готтарда записали в полк и тут же отправили в домовый отпуск для подготовки к принятию офицерского звания.
Наслушавшись всяких побасенок подвыпивших ветеранов, которые квартировали в древней крепостной казарме, о боях и походах с Карлом XII и Августом Сильным, Готтард возвращался под отчий кров воодушевленным, будто это именно он подобно Августу гнул подковы и подобно Карлу никогда не кланялся пулям.
Занятиям воинской наукой уделял он не много времени, тогда как старшие братья, как муравьи, усердно трудились в своих бюро, вызывая у Готтарда презрение, смешанное с брезгливым состраданием. Может быть, сам того не сознавая, он не хотел ни в чем быть похожим на братьев и потому их рвению противопоставлял сибаритство, их практицизму – демонстративную романтическую неприспособленность к жизни.
Отец, вечно занятый делами, не обращал на сыновей никакого внимания, надеясь на их собственный ум и житейскую хватку. Занимался Готтард кое-как, и ответы его на экзаменах были ниже посредственных, отчего комиссия не смогла дать положительного заключения. И тогда, скорее спасая доброе имя Барклаев, нежели неудачливого сына, бургомистр уговорил председателя комиссии направить Готтарда в кригс-комиссариат, занимавшийся делами по снабжению армии. Интендантское ведомство всегда испытывало недостаток в офицерах, а кандидатура Готтарда Барклая была хороша еще и тем, что его отец – негоциант и бургомистр – мог оказать армии такие услуги в поставках, на какие не был бы способен и сам петербургский генерал-кригс-комиссар. И после недолгих проволочек экзаменаторы собрались еще раз и решили дать ему чин фендрика, соответствовавший чину подпрапорщика, и направить в интендантство. Там-то и началась в 1744 году его военная служба, оказавшаяся, правда, не очень продолжительной.
Рижское интендантство, кригс-комиссариат, осуществляло контроль за финансовыми делами и снабжением войск в Прибалтике всеми видами провианта, огнестрельным и холодным оружием и амуницией, а также за обеспечением гарнизонных аптек и лазаретов и заключением контрактов на поставку всего необходимого. Сколь ни серой, сколь ни рутинной была такая служба, она все же могла представлять интерес для военного чиновника хотя бы тем, что в ней имелся некий созидательный смысл и определенная польза. Однако то, к чему приставили фендрика Барклая, даже и такого значения не имело, ибо на первых порах ему поручили дело самое простое – контроль за порядком на складах военного имущества, или «воинских магазейнах», как назывались они официально. Дело это показалось ему совершенно неинтересным, и, даже и не пытаясь вникнуть в его суть, юноша очень тяготился этой казавшейся ему совершенно бессмысленной деятельностью. В характере его появились раздражительность и внезапная вспыльчивость, подчас переходившие в дерзость. И неизвестно, как долго шла бы его «магазейская служба», если б не приехал он по казенным делам в Ревель. В ту пору состоял там обер-комендантом единственный в русской армии эфиоп, бывший денщик Петра Великого, Абрам Петрович Ганнибал[8]8
Ганнибал Абрам Петрович (ок. 1697–1781) – сын эфиопского князя, камердинер и секретарь Петра I. Был прадедом A. С. Пушкина, который посвятил ему повесть «Арап Петра Великого».
[Закрыть].
Прибыв в Ревель, фендрик Барклай первым делом отправился представиться обер-коменданту, как того требовал артикул.
Кабинет Ганнибала находился в старой ревельской цитадели, как и несколько цейхгаузов, состоявших в ведомстве кригс-комиссариата. Когда Готтард вошел в приемную Ганнибала и попросил адъютанта доложить о нем обер-коменданту, тот как-то странно на него поглядел и медленно, явно нехотя, скрылся за дверью кабинета. Не прошло и минуты, как адъютант вновь оказался в приемной, но от былой его медлительности не осталось и следа.
– Входите, господин фендрик! – отчеканил он строго по артикулу, вытягиваясь в струну, чего сроду адъютанты не делали перед младшими по званию.
Чуть недоумевая, вошел Готтард в кабинет и увидел, что Ганнибал не один: в кресле у окна сидел толстый курносый генерал, который, не стесняясь тем, что в кабинете появился новый человек, продолжал говорить зло и раздражительно:
– Все это отговорки, милостивый государь. – Он недовольно поглядел на эфиопа, который тоже был взвинчен не меньше своего визави. И вдруг, повернувшись к Готтарду, с неким злорадством произнес: – А вот, кстати, заодно и посмотрим, кто во всех этих упущениях и непорядках виноват.
– Извольте, генерал, – вызывающе откликнулся эфиоп и, недобро взглянув на Готтарда, приказал: – Докладывайте, зачем пожаловали, господин фендрик.
Готтард доложил, что прибыл для ревизии цейхгаузов, расположенных в ревельской крепости.
– А по какому праву будете вы, господин фендрик, осматривать крепостные цейхгаузы, когда командированы вы не инженерным департаментом, коему крепость подвластна, а кригс-комиссариатом? – спросил эфиоп с явным злорадством.
И фендрик, не чуя никакого подвоха, откровенно, как и подобало младшему офицеру перед старшим его начальником, ответил:
– А потому, ваше высокоблагородие, что магазейны сии состоят под ведением кригс-комиссариата.
– Кто же сие кригс-комиссариату позволил? – спросил эфиоп с непонятной ласковостью в голосе и при этом даже улыбнулся.
И фендрик, уже знавший некоторые тонкости субординации и взаимных отношений его ведомства с другими ведомствами Военной коллегии, столь же откровенно, как и перед тем, ответил:
– По приказу его высокопревосходительства господина генерал-фельдцейхмейстера графа Шувалова!
Тут правдивый служака Барклай увидел, как совсем повеселел обер-комендант и сильно нахмурился толстый курносый генерал.
Оказалось, что он-то и был графом Петром Ивановичем Шуваловым, прибывшим из Петербурга с внезапной ревизией крепости.
Ну а далее во всем оказался виновным кригс-комиссариат, а в цейхгаузах нашли столько беспорядков, сколько нужно было, чтоб другие пункты ревизии показались не столь удручающими, как этот.
И уверовал тогда российской императорской армии офицер Вейнгольд Готтард Барклай в справедливость русской поговорки: «Была бы спина, будет, и вина». А спина-то оказалась его собственной. И когда Шувалов и Ганнибал окончили осмотр цейхгаузов, то сиятельный граф бросил в сердцах:
– Да вам, фендрик, не за порядком следить, а впору в старьевщиках ходить!
Все это, в том числе и заключительная сентенция господина генерал-фельдцейхмейстера, сиречь главнокомандующего артиллерией, тут же дошло до слуха рижского начальства. И тогда, чтобы оградить себя от неудовольствия сановных персон, было решено поступить с незадачливым фендриком буквально по сентенции сиятельного графа: Готтарда избавили от инспектирования цейхгаузов, доверив ему ту самую сферу, кою посчитал для него наиболее подходящею Петр Иванович Шувалов и где никакие, даже малые таланты нужны не были, а необходима была лишь мизерная прилежность: отныне стал он заниматься делом еще более рутинным и нудным – выбраковкой пришедшего в негодность военного имущества, составлением дефектных ведомостей на всяческое старье и рухлядь.
Он рассматривал, негодные ботфорты, побитые молью мундиры, помятые кивера и каски, прохудившиеся от времени одеяла, свалявшиеся, пролежанные матрацы и кучи разного другого хлама, некогда называвшегося воинской амуницией. Командиры старались списывать этой «кислой» амуниции как можно больше, чтобы получить взамен столько же новых вещей, а высшее кригс-комиссариатское начальство стремилось к обратному – и из-за всего этого никаких успехов по службе сделать Готтард не мог, а просить отца о протекции и перемене деятельности считал для себя невозможным.
И все же скрытыми от него стараниями отца за шесть лет поднялся он по лестнице офицерских чинов на две ступеньки и, получив в 1750 году чин поручика, вышел в отставку.
Было Готтарду тогда двадцать четыре года, все чертовски ему надоело, и отставной поручик, решив утвердиться в своих собственных глазах и конечно же в глазах всего благородного курляндского общества, вознамерился возвратить своему роду утерянный в прошлом веке баронский титул.
Дело это было посложнее выбраковки одеял и матрацев, да и к тому же за давностью лет и отсутствием надежных документов превращалось в предприятие малоперспективное.
Три года Готтард не занимался ничем иным, кроме рассылки запросов в разные города Европы с требованием подтверждения своего происхождения от шотландских баронов Тоуи. Дело продвигалось со скрипом: письма шли медленно, архивариусы и герольдмейстеры рылись в старинных фолиантах и отыскивали королевские грамоты еще медленнее. В конце концов, так и не добившись никакого успеха, личный дворянин Российской империи Вейнгольд Готтард Барклай-де-Толли, заслуживший дворянство шестилетней военной службой в обер-офицерских чинах, решил поиски документов в подтверждение утраченного своего баронства на время оставить, а подумать об укреплении и продлении собственного рода.
* * *
Отец-бургомистр с интересом следил за тем, как энергично его сын добивается титула, ибо и ему самому, и двум братьям Готтарда, окажись переписка младшего сына успешной, все это весьма и весьма пригодилось бы. Упорство, проявленное Готтардом, заинтересованность в делах семьи заставили отца по-другому смотреть на третьего сына, который поначалу, казалось, шел дорогой младшего брата из известных сказок, заставляя всех умных людей смеяться над собой, а собственную мать – плакать от досады.
Но время шло, и из Готтарда получился не дурачок из сказки, а побитый жизнью, но еще не сломленный до конца неудачник, не потерявший надежду все-таки поправить свои дела.
И как это бывало уже миллионы раз и до него и потом, решил несостоявшийся барон отобрать свое у сопротивляющейся ему фортуны делом выгодным и приятным – удачной и счастливой женитьбой.
Но для этого нужно было обзавестись каким-никаким домом, и отец далеко от Риги, на границе с Эстляндией[9]9
Эстляндия – историческое название Северной Эстонии.
[Закрыть], под городом Валга, купил последышу небольшое имение – не поместье, какие были у старших братьев, а усадьбу Лиел-Лугаши, которую соседи-немцы называли Луде-Гроссхоф, что означало «Мыза сутенера».
Нелегко было, получив усадьбу с таким названием, уверять окрестных невест в своих благородных намерениях. И все же невеста нашлась. Она жила в соседнем имении Бекгоф, и звали ее Маргарита Елизавета Смиттен.
Была Маргарита Елизавета тиха нравом, незлобива и, как показала жизнь, терпелива и тверда в житейских испытаниях.
Вопреки одиозному названию своей мызы, ее владелец женился по любви, и Маргарита была избранницей сердца горячего, исстрадавшегося и жаждущего счастья.
Имение Бекгоф было не чета Лиел-Лугаши, и потому молодые поселились под родительским кровом. Как ни странно, но причина прямо-таки невероятная не дала Готтарду сойтись с тестем – отставным майором шведской армии. Они сразу же невзлюбили друг друга из-за приверженности каждого славе той армии, под знаменами которой они когда-то служили. «Господин майор», как звал тестя Готтард – у него не поворачивался язык называть тестя «папенькой» или «батюшкой», – болезненно реагировал на все, о чем говорил зять, усматривая в каждом слове скрытый подвох и завуалированное ехидство. Готтард платил ему тем же, и мало-помалу жизнь их под одной крышей стала совершенно невозможной. Нельзя было и подумать, чтобы поселиться по соседству, в Лиел-Лугаши: жизнь там стала бы предметом пристального недоброжелательного внимания «господина майора», испытывавшего мстительное злорадство при малейшей неудаче нелюбимого зятя.
Вскоре после свадьбы супруги Барклай перешли на свой собственный кошт, А поскольку не хотел Готтард ударить лицом в грязь и показать себя безденежным приймаком, стал он жить не по средствам, все более и более влезая в долги. Одновременно, желая прослыть богачом, он раздавал соседям – даже самым несостоятельным – немалые деньги, принимая в заклад абсолютно ничтожные векселя.
Вскоре пошли дети. С их появлением начались большие радости и столь же большие горести, ибо из трех первых мальчиков двое умерли. Готтарду несчастная Маргарита стала еще милее и дороже, потому что от мук, которые она испытывала, рожая этих детей, и еще больших, – когда хоронила их, его сердце переполнялось бесконечным состраданием и любовью.
Наконец Готтард решился продать Лиел-Лугаши с аукциона и, забрав жену и единственного сына Эриха, перебрался на юг, в Жемайтию, где и купил хутор на берегу Муши, называвшийся Памушисе, что и означало – «на реке Муша», или «над Мушей».
Здесь-то и родился у Маргариты и Готтарда их второй сын – Михаил.
С приближением весны Готтард все чаще задумывался над тем, чтобы вновь переменить место обитания, ибо ничего хорошего в Памушисе он не ждал. И тогда еще раз решился на продажу дома и переезд на новое место. Таким новым местом оказалась мыза Лайксаар.
…Это было в 1762 году, когда Мишеньке Барклаю шел первый год. А еще через три года в его только начавшейся жизни произошла первая крупная перемена – мать повезла его из болотной эстляндской глуши в блистательную столицу Российской империи Санкт-Петербург, до которой было не так уж далеко – четыреста верст, всего неделя пути.








