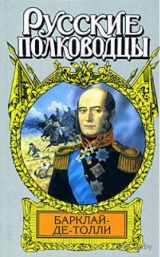
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Вскоре собравшиеся в саду гости увидели идущих к ним Александра с женою Беннигсена и самого хозяина Закрете, необычайно довольного, даже счастливого, и поняли, что бал сейчас грянет.
И он начался, этот бал, и длился до самой темноты, И мало кто обратил внимание на то, что уже ближе к концу бала, около часа ночи с 12 на 13 июня, к государю подошел Балашов и о чем-то стал шептаться с ним.
Лишь спустя несколько дней узнали, что Балашов передал Александру сообщение о только что полученной им депеше из Ковно, в которой тамошний городничий Бистом извещал государя о переправе неприятеля через Неман и о вступлении французов в Ковно.
Царь, узнав о том, велел Балашову никому не говорить ни слова и тут же пошел с мадам Беннигсен в новом танце. Последний танец закончился, и все его участники разъехались по домам, не зная, что вражеская армия уже вошла в Ковно, что там начинает размещаться Главная квартира Наполеона и что корпус Даву уже прошел через город на Виленскую дорогу, а кавалерия Мюрата тоже идет на восток, спеша схватиться с русскими, которых почему-то нет, и война, несомненно уже начавшаяся, вместе с тем как будто и не началась.
И эта непонятная тишина казалась страшной, потому что ни одна война не начиналась так, как эта, и наполеоновские солдаты, не боявшиеся ни ружейных, ни артиллерийских залпов, шли в постоянном все нарастающем напряжении, не понимая, что все это значит и чего следует ждать от этой таинственной, загадочной и грозно молчащей страны.
Книга третья
Страда
Глава перваяОт Вильно до Полоцка
Уходя с бала, Александр пригласил в свою большую карету, напоминающую спальный дормез, Аракчеева, Барклая и Шишкова – государственного секретаря, заместившего Сперанского.
– Итак, господа, Наполеон начал войну, которой мы не хотели и всячески избегали, но жребий брошен, и нам ничего не остается, как принять дерзкий вызов захватчика. – Александр замолчал. Молчали и все его спутники. – Моя августейшая бабка, – вдруг проговорил он, – Екатерина Великая, составила мне и брату моему Константину Павловичу азбуку, в которой собрала множество пословиц, поговорок и афоризмов, среди которых была и сентенция: «На зачинающего – Бог». Не я начал эту войну, но я окончу ее победою, чего бы это ни стоило мне и России. И потому, господа, – проговорил Александр с необычной для него жесткостью, – в каждом своем действии следуйте сообразно этому основополагающему принципу.
Вернувшись во дворец, Александр первым из всех вызвал к себе Александра Семеновича Шишкова.
Пятидесятивосьмилетний государственный секретарь, седой, всклокоченный, широконосый, справедливо почитался одним из лучших стилистов бюрократической России, заменив отправленного в ссылку Сперанского.
Шишков был воистину семи пядей во лбу – адмирал, переводчик, поэт, ученый-филолог, чьи сочинения в конце жизни составили два десятка томов, – и не случайно был призван царем в первые часы войны.
– Александр Семенович, – сказал царь, – война началась, и надобно теперь же, не дожидаясь утра, написать приказ нашим войскам. Сообщите также в Петербург фельдмаршалу Салтыкову о вступлении неприятеля в наши пределы и непременно скажите ему, что я не помирюсь, покуда хоть один неприятельский воин будет оставаться в нашей земле.
Отпустив Шишкова, Александр тут же вызвал Барклая, и они вместе обсудили и продумали первые шаги начавшейся кампании: надо было срочно разослать адъютантов во все корпуса четырех русских армий и особенно подробно объяснить предстоящие действия соседней, 2-й армии Багратиона, определив сроки и направление ее движения.
Багратиону велено было отходить к Вилейке, а 1-й армии начинать движение к Свенцянам, расположенным в семидесяти верстах к северо-востоку от Вильно, где стоял гвардейский корпус цесаревича Константина.
Через два часа Шишков принес и приказ по войскам, и письмо к Салтыкову.
Приказ, извещая армии о вторжении французов на территорию империи, кончался так: «Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь Славян.
Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, Свободу. Я с вами. На зачинающего – Бог».
Ловкий царедворец Шишков не преминул закончить приказ фразой, которая, судя по всему, понравилась государю.
Фельдмаршалу Салтыкову объявлялось о несокрушимой решимости царя бороться до победы. «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве Моем» – такими были последние слова письма к Салтыкову.
Александр, прочитав оба документа, подписал их, и только тогда, в пятом часу утра, лег спать, почти не раздеваясь, сняв лишь сапоги и сюртук.
Утром 13 июня в войсках был зачитан первый в Отечественной войне приказ Барклая-де-Толли.
«Воины! Наконец приспело время знаменам вашим развиться пред легионами врагов всеобщего спокойствия, приспело вам, предводимым самим монархом, твердо противостоять дерзости и насилиям, двадцать уже лет наводняющим землю ужасами и бедствиями войны!
Вас не нужно воззывать к храбрости; вам не нужно внушать о вере и о славе, о любви к государю и Отечеству своему: вы родились, вы возросли и вы умрете с сими блистательными чертами отличия вашего от всех народов!»
В конце того дня, когда в войсках зачитывали приказ военного министра, Александр сделал последнюю попытку примириться с Наполеоном.
В десять часов вечера 13 июня Александр пригласил к себе Балашова и, улыбаясь, сказал:
– Ты, верно, не ожидаешь, зачем я тебя призвал. Я намерен послать тебя к Наполеону. Поступаю я таким образом потому, что граф Нарбонн был у меня, а ответного визита мы не наносим. Поезжай, и пусть Европа узнает, что даже после того, как Наполеон открыл эту кампанию, мы готовы ее прекратить в самом начале.
Ступай, Александр Дмитриевич, к себе и готовься к отъезду, а я пока напишу письмо Наполеону. И как только будет оно готово, то тут же пришлю за тобою.
Во втором часу ночи за Балашовым был прислан фельдъегерь, и он снова отправился к Александру.
Царь сказал ему:
– Передай Наполеону, что если он готов к переговорам, то они могут начаться немедленно. Я ставлю перед ним одно-единственное условие: ни один вооруженный неприятель не должен находиться при начале переговоров на территории России.
Балашов откланялся и с первыми лучами солнца выехал из Вильно, сопровождаемый урядником, казаком и трубачом Лейб-казачьего полка.
Уже через час они увидели первый авангардный конный караул. Несмотря на то что их было всего двое, французы поскакали навстречу, и один из них, вплотную приблизившись к Балашову, приложил к его груди пистолет и потребовал, чтобы русские остановились.
Балашов сказал, что они – парламентеры, после чего француз-гусар пистолет опустил и приказал своему товарищу отправляться к их командиру. Вскоре тот вернулся вместе с полковником Юльнером, который расспросил Балашова более подробно и послал короткое донесение обо всем находившемуся неподалеку от места встречи Мюрату.
Мюрат, встретив Балашова, был изысканно любезен и подчеркнуто доброжелателен. Он велел одному из своих адъютантов сопровождать парламентеров до штаба маршала Даву, а сам поехал дальше.
Даву встретил Балашова без учтивости и потребовал отдать ему письмо, написанное Александром для Наполеона.
Балашов стал говорить, что должен вручить письмо сам, но Даву, рассердившись, сказал:
– Здесь вы у нас, сударь, и извольте делать то, что вам велят.
Балашов письмо отдал, и Даву, смягчившись, пригласил его позавтракать с ним. На следующий день, за обедом, Даву сообщил Александру Дмитриевичу, что получил указание Наполеона оставить его здесь, добавив, что вскоре поступят и другие распоряжения на его счет. Сам же приказал закладывать экипаж, чтобы выступить со своим корпусом вперед, чего не стал скрывать и от Балашова. Кроме того, он сообщил, что русские уже оставили Вильно и французы вошли в город. Это было чистейшей правдой: едва русский арьергард вышел из Вильно, как французы тут же вступили на улицы литовской столицы.
Однако прежде, чем это произошло, было и следующее…
Как только Балашов поехал с письмом Александра к Наполеону, император вызвал Барклая к себе и объяснил, для чего министр полиции отправлен им в неприятельскую ставку.
– Во-первых, я хочу, чтоб Европа еще раз узнала о моем стремлении к миру, – быстро проговорил он, внимательно следя за реакцией Барклая. – Во-вторых, это может дать нам два-три дня отсрочки начала активных военных действий, а за это время мы лучше узнаем численность неприятеля и то, по каким дирекциям начнет он свое движение. – Александр замолчал и после короткой паузы добавил: – Впрочем, Михаил Богданович, на миролюбие Наполеона нет у меня ни малейшей надежды, и пока Балашов там, мы должны делать все заведенным порядком, не придавая его миссии никакого значения. Я сегодня же уезжаю в Свенцяны, а вас попрошу определить пути отхода и своих корпусов, и армии Багратиона. Здесь остаетесь вы и моя Главная квартира. Оставляя вас здесь, я прошу вас незамедлительно отправить на восток наш ужасающе громоздкий обоз, прошу вас также распорядиться об истреблении всего, что мы не сможем увезти и что может пригодиться французам. Отправьте немедленно все госпитали и, отходя, уничтожайте все мосты. – Александр снова замолчал, по-видимому обдумывая, стоит ли говорить еще об одном, и, наконец решившись, сказал: – Обо всем только что сказанном говорил я и прежде, сразу по приезде моем в Вильну. Однако же вы не сделали того, о чем я вас просил, и, таким образом, совершили ошибки, в которых я могу сегодня вас упрекнуть.
– Простите, ваше величество, – вспыхнул Барклай, – я передавал каждый ваш приказ по команде…
Александр прервал его:
– Поймите, Михаил Богданович, отдать приказание и добиться его выполнения – это вещи совершенно различные, а чтобы пособить второму, есть только одно средство: деятельный надзор и проверка, которую производили бы люди, вполне вам известные.
Император не был резок, не был и раздражен, но Барклай редко когда, особенно по отношению к себе, слышал от Александра такой тон и понял, что царь дистанцируется от него и заранее наделяет его долей вины и ответственности за те неудачи и промахи, каких в этой войне будет ох как немало.
Тотчас после аудиенции государь сел в карету и в окружении небольшой свиты и сильного казачьего лейб-конвоя отправился в Свенцяны.
Барклай после отъезда императора оставался в Вильно еще три дня. Он ежечасно посылал в Свенцяны курьеров и адъютантов, ставя Александра в известность обо всем, что узнавала разведка, высказывал свои соображения и предположения, отчитывался в сделанном, постоянно помня последний их разговор. Прежде чем покинуть Вильно, Михаил Богданович намеревался оказать французам энергичное сопротивление и даже известил о том императора, но еще до получения от него ответа войскам было приказано стать лагерем в окрестностях города и произвести рекогносцировки. Барклая в эти дни видели, как всегда, спокойным, но он был более обычного суров и серьезен и менее, чем всегда, разговорчив и общителен.
По ночам он созывал свой штаб и рассылал фельдъегерей во все корпуса обеих Западных армий. Французы пока не предпринимали решительных действий, но в любой момент могли начать движение к Вильно. По здравом размышлении позиция русских не представляла никаких благоприятных шансов, и Барклай написал Александру, что он покидает город. Император одобрил его решение, хотя мысль отдать столицу Литвы в руки неприятеля была удручающей. Барклай был огорчен этим не меньше, но при его твердом характере у него хватило смелости доказать императору необходимость этой меры.
Вечером 15 июня Барклай отправил к Багратиону последнего курьера, сообщая, что он оставляет Вильно и приказывает 2-й армии отступать по дороге, ведущей к Минску. Армия Багратиона – маленькая и слабая по сравнению с преследовавшим ее корпусом Даву, в два раза более многочисленным, – с первых же часов войны стала его неусыпной заботой и непреходящей душевной болью.
Еще за несколько часов до переправы французов у Ковно Барклай уведомил Багратиона, что он ожидает форсирования Немана неприятелем. После этого он отдал приказ казачьему корпусу Платова нанести удар французам во фланг и тыл в районе Гродно. Он приказывал Багратиону обеспечить силами 2-й армии тыл корпуса Платова и сообщал также, что 1-я армия будет отступать к Свенцянам, а 2-й армии следует отходить от Вилейки на Борисов: изменения направлений в приказах Барклая объективно отражали изменения обстановки, на которые следовало немедленно реагировать.
16 июня, получив сообщение, что авангард противника подходит к Вильно, Барклай приказал войскам без боя оставить город, а сам не спеша вышел на крыльцо, медленно огляделся, достал из кармана любимый хронометр принца Ангальта и не торопясь пошел к карете.
16 июня, в час пополудни, Главная квартира покинула Вильно.
Мимо Барклая проскакала блестящая кавалькада генералов и офицеров Главной квартиры, он пропустил их вперед, а сам продолжал ехать в карете, намеренно неспешно, с арьергардом армии, подчеркивая тем самым, что отступление проходит спокойно и в полном порядке.
С этого дня он отделился от Главной квартиры и бывал там только тогда, когда без личного визита обойтись было нельзя, а в иных случаях отдавал предпочтение посылке адъютантов и порученцев. Виной тому было злобное недоброжелательство многих приближенных царя, которое уже в первые дни войны проявилось в полной мере.
К вечеру Барклай прибыл в Свенцяны и остановился в доме помещика Загорского. В городе к этому времени начала размещаться Главная квартира и императорская свита. С мая здесь была расквартирована гвардейская дивизия Ермолова. Сюда же через трое суток подошли и главные силы 1-й армии, которая отступала в полном порядке, умело ведя арьергардные бои, задерживая противника на переправах, нанося ему внезапные удары. Появились и первые герои войны. Одним из них стал Яков Петрович Кульнев – командир арьергарда 1-го корпуса, состоявшего из семи полков. В первые же дни его отряд взял около тысячи пленных, а в бою 16 июня у Вилькомира Кульнев со своими солдатами весь день сдерживал натиск целого корпуса маршала Удино.
Кульнева – рубаку-великана – знала вся армия. Добряк и бессребреник, он, уходя на военную службу, отпустил своих крепостных на волю, о чем знали и его солдаты, боготворившие своего генерала.
Знал Кульнева и Барклай, ибо шли они одними и теми же военными дорогами и на Дунае, и в Польше, дрались рядом под Эйлау, а при переходе Ботнического залива Кульневу досталась почти такая же слава, как Михаилу Богдановичу и Багратиону.
Знал Барклай, что, когда лежал он раненным в Мемеле, Кульневу довелось столкнуться с маршалом Удино в сражении при Фридланде. Тогда Удино, получивший в этом бою свою двадцать пятую рану, побил Кульнева вместе с другими русскими офицерами, а вот теперь судьба переменилась, и поражение потерпел герцог Реджио, Никола Шарль Удино.
Узнав о подвиге Кульнева и его солдат, Барклай издал приказ, воздававший должное первым героям войны.
А в это время в Свенцянах появился Балашов, привезший Александру ответ Наполеона…
Балашова привезли в Вильно, куда только что вошли французские войска, 18 июня. Его поместили в доме начальника Главного штаба маршала Александра Бертье, которого Наполеон наградил титулами герцога Валанженского, князя Невшательского и Ваграмского.
В доме Бертье Балашову оказали прием доброжелательный и уважительный, который больше бы приличествовал личному посланнику дружественного монарха, а не генералу вражеской армии.
Утром 19 июня за Александром Дмитриевичем была прислана карета, в которой приехал за ним камергер Наполеона, граф Тюренн. Наполеон, узнав о приезде Балашова, прервал завтрак и вошел в кабинет, из которого пять дней назад Александр отправил своего генерал-адъютанта ему навстречу. Произнеся несколько светских фраз, Наполеон попросил Балашова передать Александру все, что он услышит от него, совершенно точно. После того стали они спорить о том, кто виновен в начале этой войны. Сохраняя учтивость, диспутанты меж тем сильно разволновались, и оба стали ходить по комнате.
В это время под порывом ветра растворилась форточка, которая, по моде того времени, находилась не в верхней части окна, а в самой нижней – у подоконника. Наполеон с силой захлопнул ее, но через минуту она распахнулась снова, и тогда он, вконец разгорячившись, оторвал ее и выбросил за окно.
– Я знаю, что у вас 120 тысяч пехоты и около 70 тысяч кавалерии, у меня же – втрое больше! – вдруг, сорвавшись, закричал он. – У императора Александра очень дурные советники. Как ему не стыдно приближать к своей особе подлецов: Армфельдта, погрязшего в пороках, интригана, изверга и развратника. Беннигсен, как говорят, одарен отчасти военными талантами, которых я у него не признаю, но руки у него в крови императора Павла. Я не знаю Барклая-де-Толли, – сказал он далее, – но, судя по началу кампании, я полагаю, что у него не большое военное дарование. Никогда ни одна из ваших войн не начиналась подобными беспорядками. Доныне нет определенности. Сколько магазинов вы уже сожгли и для чего? Или их вовсе не нужно было устраивать, или воспользоваться ими согласно с их назначением… Неужели вам не стыдно: со времен Петра Первого никогда неприятель не вторгался в ваши пределы, а между тем я уже в Вильно. Я без боя овладел целой областью. Даже из уважения к вашему государю, который два месяца имел в ней свою императорскую квартиру, вы должны были защищать ее.
Затем Наполеон стал в самых мрачных тонах описывать ближайшую судьбу России, которая непременно будет разгромлена. Свои пророчества перемежал он горькими упреками Александру и театральными, наигранными сожалениями, что русский император собственными руками погубил великое дело, в то время как он мог бы стать владыкой половины мира, если бы оставался союзником Франции.
– Император Александр, – продолжал Наполеон, – человек честный, чувства которого отмечены благородством и возвышенностью, и я не могу понять, почему он окружил себя людьми, которые не имеют ни веры, ни нравов.
Я не могу понять также, как можно советом руководить военными действиями. Если посреди ночи хорошая мысль приходит мне в голову, в четверть часа я отдаю приказ, а уже через полчаса он приводится в исполнение. Между тем как у вас Армфельдт предлагает, Беннигсен рассматривает, Барклай-де-Толли обсуждает, а Фуль сопротивляется, и все вместе ничего не делают и теряют время.
Заканчивая беседу, Наполеон спросил у Балашова о Сперанском, о том, почему был он отправлен в ссылку.
– Император им не был доволен.
– Однако же не за измену?
– Я не полагаю, ваше величество, потому что подобные преступления были бы расследованы и опубликованы.
На этом аудиенция была закончена, а в семь вечера Балашов был приглашен на обед к Наполеону, где собрались всего пять человек, в то время как за другим столом, в соседнем зале, обедало еще около сорока генералов.
Вступив в разговор с Балашовым, Наполеон сразу же взял тон надменный и непререкаемый. Балашов отвечал почтительно, твердо, понимая разницу между собою и императором Франции.
И все же, если верить Александру Дмитриевичу, диалог закончился таким его ответом Наполеону:
– Какая дорога ведет к Москве? – спросил Бонапарт.
– Ваше величество, – ответил Балашов, – русские, подобно французам, говорят, что каждая дорога ведет к Риму. Дорогу на Москву избирают по вкусу. Карл Двенадцатый шел на нее через Полтаву.
Балашов перед самым отъездом из Вильно получил ответное письмо Наполеона Александру. Он не знал его содержания, но понимал, что письмо не может сильно отличаться от сказанного ему Наполеоном.
Так оно и было: когда Александр Дмитриевич передал его царю, тот пробежал глазами текст, и лицо его покрылось пятнами. Не сдержавшись, царь прочел конец письма вслух.
– Нет, послушай, Балашов, какой наглец! – воскликнул Александр. – Он смеет выговаривать мне и поучать меня! Вот слушай: «Если бы вы не переменились с 1810 года, если бы вы, пожелав внести изменения в Тильзитский договор, вступили бы в прямые, откровенные переговоры, вам принадлежало бы одно из самых прекрасных царствований в России. Вы же сами испортили свое будущее».
Балашов молчал – испуганно и почтительно.
– Нет, теперь Наполеон стал моим личным врагом, и нам двоим нет места на земле. Или я, или он, только так! – выкрикнул Александр, и Балашов, никогда прежде не видевший своего государя в подобном состоянии, понял, что он действительно скорее отпустит бороду и отступит на Камчатку, чем примирится с Буонапарте.
Войдя в Вильно, Наполеон мог бы радоваться своим успехам – за трое суток его войска прошли сто верст и заняли добрую половину Литвы. Однако не было достигнуто главного – русские ушли, не приняв сражения, на которое он так рассчитывал.
17 июня он послал в погоню за 1-й армией кавалерийские корпуса Нансути и Монбрюна, общее командование которыми осуществлял Мюрат, и пехотные корпуса Нея и Удино, подкрепив их двумя дивизиями Даву. Эти войска шли к Свенцянам. Армия Барклая, докинув Свенцяны, направилась к знаменитому лагерю на реке Дриссе, устроенному перед войной по плану Фуля.
Вторая группа французских войск, разделившись на две части, должна была взять в клеши армию Багратиона, отступающую к Минску. С севера на 2-ю армию шел Даву с тремя пехотными дивизиями и конным корпусом маршала Груши, а с юга – Жером Бонапарт, Король Ерема, как называли брата Наполеона русские солдаты и казаки. Жером вел «своих» вестфальцев, польский корпус князя Юзефа Понятовского и французские корпуса Ренье и Вандама.
А между тем армия Багратиона необычайно быстро уходила на юго-восток, все более и более увеличивая расстояние между собою и 1-й армией, которая, пройдя Свенцяны, двигалась на северо-восток со скоростью не меньшей, чем войска Багратиона.
Это было вовсе не просто – так наладить согласованное, четкое и быстрое движение огромных масс людей, лошадей, артиллерии, понтонов, обозов, которые, по суш своей, оставались такими же, как и во времена Потемкина и Румянцева. Тогда еще молодой капитан Барклай лишь со стороны наблюдал за передвижением дивизий и чудовищных вагенбургов, отвечая лишь за несколько сотен своих егерей.
Теперь его армия была побольше потемкинской, и не наступала она на неприятеля, а быстро уходила от противника, неся тяжелые потери.
Барклай работал день и ночь, рассылал приказы, донесения императору, письма гражданским чиновникам тех губерний, через которые шли его войска. Все эта канцелярские дела совершал он по ночам, ибо с самого раннего утра и до остановки войск на ночлег был он в седле. Он внимательно и придирчиво следил за неукоснительным и точным выполнением графика движения по маршруту, обучая, как следует поступать, чтобы избежать тесноты, путаницы и замешательства. Когда один из его адъютантов осторожно выразил сомнение, следует ли военному министру заниматься столь незначительными для его должности делами, Барклай ответил:
– Не думайте, Левенштерн, что мои труды мелочны. Порядок во время марша составляет самую существенную задачу главнокомандующего. Только при этом условии возможно наметить заранее движение войска. Вы видели вчера, какой беспорядок и смятение царствовали в лагере генерала Тучкова-первого. Предположите, что в этот момент показался бы неприятель. Какие это могло бы иметь последствия? Поражение раньше сражения!
Я отдал приказ выступить в пять часов утра, а в семь артиллерия и обоз еще оспаривали друг у друга, кому пройти вперед, пехота же не имела места пройти.
Предположите теперь, что я рассчитывал на этот отряд в известный час и что это промедление расстроило бы мою комбинацию, какой бы это могло иметь результат?
Быть может, непоправимое бедствие.
В настоящее время, когда я даю себе труд присутствовать при выступлении войск, начальники отдельных частей поневоле также должны быть при этом. Поняв мои указания, они воспользуются впоследствии его плодами.
Пусть люди доставляют себе всякие удобства, я ничего не имею против этого, но дело должно быть сделано. После пяти ли шести уроков, подобных сегодняшнему, вы увидите, что армия пойдет превосходно.
И армия день ото дня шла все организованнее. 25 июня, пройдя за неделю около двухсот верст, 1-я армия подошла к Дрисскому лагерю, а двумя днями раньше туда же прибыла и Главная квартира Александра…
Великий военный теоретик Фуль, полагавший умозрительные геометрические построения основой стратегии, без особого труда добился у Александра признания своей идеи – создать на пути противника укрепленный военный лагерь и, отступая, завести неприятеля под огонь его батарей, на его люнеты, бастионы, палисады и засеки. А когда неприятель окажется в этой заранее приготовленной для него ловушке, то в тыл ему и по обоим флангам ударят две русские армии, и супостат будет не просто разгромлен, но в полном составе пленен.
Укрепленный Дрисский лагерь имел фронт более четырех верст, а глубина по центру достигала трех верст. С тыла лагерь огибала река Дрисса, образуя труднопреодолимую водную преграду.
Как только императорская Главная квартира подошла к лагерю, Александр вызвал Беннигсена и попросил его осмотреть позиции и провести тщательную рекогносцировку.
Взяв с собою Вольцогена и двух родственников царя – принцев Георга и Августа Ольденбургских, Беннигсен и его спутники полтора дня осматривали «Второй Гибралтар», который полгода строили более двух тысяч человек. Автор проекта Фуль на строительстве лагеря не был. Он составил все чертежи в Санкт-Петербурге, получив лишь подробную ландкарту местности.
Фуль расположил укрепления в три линии. Первая линия была наиболее мощной. Она включала десять редутов и люнетов с батареями, палисадами и засеками. Во второй линии было шесть редутов, в третьей – один.
Тщательно и придирчиво осмотрев «Второй Гибралтар», Беннигсен и компания пришли к единодушному мнению, что их соотечественник Фуль сильно подвел государя, закопав в землю столько средств, и употреби он их на иные цели, то под ружьем мог бы стоять добрый пехотный корпус, снабженный всем необходимым.
Беннигсен, как старший по званию, должен был доложить их общие впечатления.
– Государь! – сказал Беннигсен. – Мы все изумлены увиденным нами. Мы нашли здесь самую плохую, самую невыгодную позицию для сражения, которое должно решить участь кампании и, может быть, судьбу государства. Укрепления возведены самым грубым образом и по большей части крайне неудачно. За насыпями легко может засесть неприятель, а редуты и батареи расположены так, что задние укрепления не защищают доступ в передние.
Одновременно с Беннигсеном осматривали лагерь полковник Мишо и генерал-майор Ермолов. Царь попросил их быть при докладе Беннигсена, и оба они согласились с тем, что он сказал. Когда очередь дошла до Ермолова, слывшего за одного из самых остроумных, а часто и злоязыких людей своего времени, Алексей Петрович сказал:
– Выбор самого места лагеря и организация укреплений не могли быть соображением здравого ума. Этот лагерь представляется мне образцом фортификационного невежества.
Когда же 1-я армия пришла в лагерь, Барклай сказал царю:
– Государь! Я не понимаю, что мы будем делать с целою нашей армией, оказавшись здесь. После столь торопливого отступления мы совершенно потеряли неприятеля из виду и, будучи заключены в этом лагере, будем принуждены ожидать его со всех сторон. Кроме того, государь, Багратион оттеснен войсками Даву от Минска и не сможет прийти сюда, без чего весь план Фуля превращается в ничто.
Тем временем русский арьергард остановился в одном переходе от Двины, внимательно следя за авангардами французских корпусов. Между реками Друя и Дисна мелькали казачьи и гусарские пикеты, в передовых цепях все было тихо, а в лагере установилась совершеннейшая идиллия, напоминавшая летний лагерь под Красным Селом после удачных маневров, завершившихся блистательным царским смотром. Нижним чинам выдавалась полная мясная и винная порция, лошадям рассыпался овес, солдаты построили себе удобные шалаши и отдыхали с утра до вечера, поднимаясь лишь на вечернюю зорю, проходившую парадно и с музыкой. В дополнение ко всему, дни стояли ясные, ночи были чуть прохладными, и эти несколько суток, проведенные в лагере на Дриссе, остались в памяти ветеранов как самые лучшие за весь двенадцатый год.
И еще одна большая радость произошла в эти дни: сюда, а Дриссу, подошло первое за войну пополнение – двадцать эскадронов кавалерии и девятнадцать батальонов пехоты.
Армия крепла, дух ее оставался сильным, но вместе с тем в душу многих начало закрадываться сомнение: «А правильно ли поступают командиры, уходя от сражения с супостатом? И почему версты отступления исчисляются уже не десятками, а сотнями, и где же наконец армия остановится?» И распространялись по лагерю слухи один неприятнее другого: «Одни господа генералы за то, чтобы наступать, другие же – за дальнейшую ретираду». И главным виновником сей небывало затянувшейся ретирады чаще всего называли Барклая.
Наконец прошел слух, что государь собирает Военный совет, чтобы решить, как быть дальше.
Александр собрал Военный совет 29 июня. Кроме него на совете были Барклай и Аракчеев, принц Георг Ольденбургский и Волконский, Вольцоген и Мишо. Совет решил, что совершеннейшая непригодность позиции не позволяет стоять здесь армии, перед которой находятся неприятельские силы, во много раз ее превосходящие. Было постановлено, что армия выступит из лагеря через три дня, а за это время пусть солдаты отдохнут еще немного, а Главная квартира и военный министр займутся заменой в штабе 1-й армии тех генералов, которые за две недели войны доказали свое несоответствие занимаемым ими должностям и не проявили требуемых от них качеств.
Работая над третьим томом «Войны и мира», Лев Толстой обратился и к событиям, происходившим в начале Отечественной войны в императорской Главной квартире. Толстой, в полном соответствии с исторической правдой, заметил, что антибарклаевская партия была самой сильной из тогда существовавших при дворе и в армии.
Это наблюдение Толстого подтверждает и один из очевидцев. «В заговор, – писал хорошо знавший обстановку в Дрисском лагере адъютант Барклая Владимир Иванович Левенштерн, – вошли: граф Армфельдт, ловкий интриган, и маркиз Паулуччи, которого снедало честолюбие и который всех высмеивал. Все действия главнокомандующего критиковались… генерал Беннигсен, герцог Александр Вюртембергский, принцы Ольденбургские обсуждали без всякого стеснения мнимые ошибки, сделанные Барклаем, и его мнимую неспособность». Чуть позже к врагам Барклая примкнул и цесаревич Константин Павлович.








