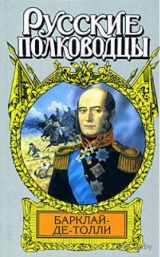
Текст книги "Верность и терпение"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
На следующий день, 11 марта, Александр вызвал Санглена и сказал, что он постоянно должен быть готов к тому, чтобы арестовать Сперанского. О том, когда нужно будет сделать это, он сам ему сообщит.
И такое распоряжение Санглен получил через шесть дней – 17 марта.
В этот день, в воскресенье, старый вдовец, не имевший никаких сердечных привязанностей, кроме горячей любви к дочери, отправился на обед к приятельнице своей покойной жены, ее однокашнице по пансиону мадам Вейкарт.
Дом Вейкартов прежде всего потому был особенно мил Михаилу Михайловичу, что здесь мог он говорить о своей единственной любви – Элизабет Стиввенс, с которой довелось ему прожить в счастливом супружестве только год.
Элизабет умерла, оставив на руках у него девочку, названную в память матери тем же именем.
Первое время находился он между сумасшествием и смертью, потом нередко помышлял о самоубийстве, но любовь к дочери, которая во всю его жизнь оставалась отцу верным другом и единственной его любовью, помогла ему выжить.
Здесь, у Вейкартов, можно было вспоминать о покойнице жене, рассказывать о двенадцатилетней дочери, жившей и учившейся в том же пансионате, что и ее мать.
Все предрасполагало Сперанского к покою и радости, когда в самом конце обеда подошедший из прихожей слуга шепнул Михаилу Михайловичу, что его просит выйти царский фельдъегерь.
В прихожей увидел он знакомого офицера, который сказал, что к восьми часам вечера его ждет государь.
– Непременно буду, передайте это его величеству, – ответил Сперанский и спросил. – А не изволил ли государь сказать, какие бумаги надлежит мне взять на доклад ему?
– Ничего более не велено передавать, ваше высокопревосходительство, кроме того, что надлежит вам явиться во дворец к восьми часам вечера.
Фельдъегерь вышел. Сперанский взглянул на часы – было шесть.
Распрощавшись с хозяевами, он сел в карету и поехал домой, чтобы отобрать бумаги, которые могли заинтересовать Александра более всего.
К назначенному времени был он во дворце. Когда Сперанский вошел к государю, Александр ходил по кабинету взад-вперед, заложив руки за спину и о чем-то глубоко задумавшись. Казалось, он не расслышал, что кто-то вошел к нему, или же, может быть, еще не решил, с чего начать разговор.
Внезапно остановившись, Александр резко поднял голову и необычайно цепко вгляделся в глаза Сперанского, напомнив Михаилу Михайловичу уже давно им забытую манеру императора Павла.
– Скажи мне по чести, Михайло Михайлович, не имеешь ли ты на совести чего против меня?
Сперанский оказался столь же не готов отвечать на этот вопрос, как и незадолго до того опровергать измышления Гурьева, внезапно обрушившиеся на него в Госсовете.
Он растерялся, почувствовав, как кровь прилила к голове и дрожь охватила ноги. Едва придя в себя, он сказал:
– Решительно ничего, государь.
– Поди сюда, садись подле меня. – И Александр указал на маленький стол, за каким вел он с ним когда-то самые доверительные беседы.
…Очень немного малой правды, тесно переплетенной с большими вымыслами, а также и целые вороха вздора и сплетен, порочащих его слухов и чудовищной клеветы услышал затем Сперанский от Александра.
Из последних сил сохраняя спокойствие, Михаил Михайлович, как мог, объяснял и опровергал, истолковывал и оспаривал десятки высказанных ему коллизий, пытаясь соблюсти достоинство и не уронить себя в глазах императора. Через два часа, завершая встречу, Александр сказал:
– Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы установить истину полученных мною против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я перед моими подданными обязан удалить тебя от себя. Возвращайся домой, там узнаешь остальное.
Александр встал. Встал и Сперанский. Царь обнял его и поцеловал, и Михаил Михайлович увидел на глазах царя слезы.
– Прости и прощай, Михайла Михайлович, – произнес Александр со слезами в голосе, – поверь, что так надо.
Резко повернувшись, Александр отошел к окну и, отодвинув край шторы, стал глядеть в темноту.
А Сперанский, с трудом удерживая слезы, вышел в секретарскую, и как ни пытался скрыть от находившихся там свои чувства – не смог.
Схватив оставленную здесь шляпу, он стал укладывать ее в портфель, но, увидев, что это заметили, в бессилии рухнул на стул.
В это время дверь государева кабинета растворилась и из-за нее выглянул Александр. Он был печален и мрачен.
– Еще раз прощайте, Михайло Михайлович, – тихо и грустно проговорил царь и скрылся за дверью…
Выйдя из дворца, Сперанский поехал к Магницкому. В доме его он застал плачущих, растерянных родственников Михаила Леонтьевича, сообщивших, что его только что увезли в ссылку.
Обыск в доме Магницкого производил сам Балашов. Необходимость этого министр полиции обосновал тем, что у Михаила Леонтьевича неведомым образом оказались необычайно важные секретные бумаги, не относящиеся к его ведению.
Допрошенный Балашовым Магницкий сказал, что в начале марта приехал он в дом флигель-адъютанта Воейкова, с коим вот уже более двух лет служил в военном министерстве, в комиссии по составлению обоих «Учреждений», и на правах сослуживца и друга зашел – в отсутствие Воейкова – в его кабинет.
– Всего за два года вошли вы в такую доверенность друг к другу? – спросил Балашов, не скрывая удивления.
– Нет, мы знаем один другого много лет. И я, и Алексей Васильевич были однокашниками в Благородном московском пансионе.
– Ах вот как! – воскликнул Балашов, придав значительность голосу, будто дружба с юных лет означала уже сама по себе некую важную улику.
– Продолжайте, пожалуйста, продолжайте, – проговорил министр и стал слушать рассказ Магницкого о том, что в кабинете увидел он на столе у Алексея Васильевича целую стопу операционных планов, о которых он не имел ни малейшего представления.
Мельком просмотрев несколько из них, Магницкий понял, что все они противоречат тому, над чем трудился и он сам, и Сперанский, разрабатывая совершенно иную программу подготовки к войне.
Сложив все планы в оказавшийся тут же пустой портфель Воейкова, Магницкий передал его Сперанскому.
Сперанский, не удержавшись, прочел кое-что из доставленного ему и велел отвезти портфель и документы обратно. Сам же, крайне взволнованный, поехал к государю и с жаром стал порицать и отвергать ставшие известными ему планы.
Балашов, видя, что злого умысла здесь не было, а имелось налицо лишь чисто русское разгильдяйство и нерадение, за что великих кар никто из фигурантов не заслуживал, спросил намеренно обыденно, ничуть не меняя тона:
– А что, Михаил Леонтьевич, не скажете ли, сударь, а где еще одна карта?
– Какая карта, Александр Дмитриевич?
– Да та, на коей нанесен маршрут движения всех частей наших к Вильно, – ответил Балашов, столь же ровно и обыденно, зная, однако, что этот вопрос главный, – и потому, что карта эта действительно важна, и, главное, потому, что ответа на сей вопрос с нетерпением ждет государь.
– Знаю, Александр Дмитриевич, помню! – воскликнул Магницкий. – Я дал ее Николаю Захаровичу Хитрово.
– Для чего же, сударь?
– Хитрово сказал, что занимается по службе именно организацией маршрута, но не всем, конечно, а только какими-то частностями его, однако карты у себя не имеет из-за излишней секретности в свите его величества по квартирмейстерской части.
– Стало быть, карта у Хитрово?
– А где же ей еще быть? – удивился Магницкий, но тут же понял, что дело это серьезное и последствия его предсказать трудно.
* * *
Хитрово был зятем генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, и одно это делало его недоступным для каких-либо подозрений в измене.
Тем более что он слово в слово повторил Балашову то, что сказал ему Магницкий, и тут же отдал карту.
Круг, таким образом, замкнулся: все «злоумышленники» были изобличены и собственными признаниями, и результатами произведенных обысков.
А результаты были у всех одинаковыми: в домашних их кабинетах находились казенные бумаги, в том числе и секретные, которые они передавали друг другу для ознакомления, чтобы, как они все настаивали, «дело шло быстрее и каждому, кто его совершал, было яснее, как правильнее действовать, ибо, не зная, что задумал его сотоварищ из соседнего министерства или департамента, могли они допускать ошибки, которые оказались бы пагубными для Отечества».
Направляясь к себе домой, Сперанский знал только о том, что происходило с ним самим и с Магницким. Об обысках у Хитрово и Воейкова он и помыслить не мог.
Однако когда подъехал он ближе, то заметил у двери дома почтовую кибитку. Переступив порог, увидел он Балашова и Санглена.
Сперанский был готов к такой встрече. Он спокойно выслушал повеление государя немедленно отправляться в ссылку – в Нижний Новгород.
При нем собрали все деловые бумаги, снесли в кабинет, а дверь его опечатали. Самые важные бумаги Сперанский сложил в конверт, опечатал собственной печатью и попросил Балашова передать государю.
Потом быстро и бесшумно собрался в дорогу, подошел к двери спальни, где спала дочь, приезжавшая в субботу из пансиона на две ночи и один день, и, перекрестив дверь в знак прощального благословения, вышел за порог.
Растерянные и напуганные слуги робко жались на крыльце, со слезами провожая своего доброго барина.
Сперанский молча поклонился им всем, сказал: «Не поминайте лихом», – и, тяжело вздохнув, сел в кибитку. Колокольчик звякнул, лошади тронулись.
Можно себе представить, что стали говорить обо всем случившемся в Петербурге!
Меж тем сразу же стали известны факты, которые иначе как противоречивыми назвать было невозможно.
Говорили, что злодея Магницкого увезли из Петербурга в сопровождении полицейского чиновника, однако, когда был еще Михаил Леонтьевич в столице, на покупку экипажей для его жены Александр велел отпустить из средств своего кабинета 2300 рублей.
А где это было видано, чтобы для жены государственного изменника, вражеского агента, пробравшегося в святая святых империи – тайны ее Главного штаба, сам государь приказывал покупать экипажи? И для чего же? Все для того же шпиона, к коему госпожа Магницкая и была отправлена со слугами и домашними. Да и не куда-нибудь в Березов или Тотьму, а в не очень далекую и от Москвы и от Петербурга, тихую, безбедную Вологду.
Причем вскоре же стало известно, что госпожа Магницкая приехала в Вологду раньше мужа. Говорили, что и дом – не самый худой из домов города – был уже приготовлен к ее приему, а всего через полмесяца пожаловал к милому семейству в благоустроенный особняк и сам государственный преступник, а там уже ждали его и жена, и сын, и свояченица, муж которой продолжал служить в военном министерстве.
Осенью, когда после пожара первопрестольной приехали в Вологду многочисленные московские дворяне и духовные особы, то никто из них не чурался близости и добрососедства с «изменником».
Не было ему отказано и в приемах у губернатора…
Все это да и многое другое ставило все сие происшествие в разряд событий весьма сомнительного свойства.
Сперанский и его «сообщники» были сосланы в то самое время, когда химера грядущего Апокалипсиса неотступно стояла перед глазами всех русских.
Признаки приближения войны с Францией становились все более очевидными и грозными.
12 февраля 1812 года Наполеон заставил Фридриха Вильгельма подписать союзный договор с Францией, направленный против России.
Еще раньше невольной союзницей Наполеона стала Австрия. Что же касается вассальных государств Европы, прикованных к его военной колеснице, то было их более дюжины, и их правители по разным соображениям и обстоятельствам готовились пойти в поход на Россию, надеясь на новое военное торжество своего идола и ожидая от предстоящей победы немалых для себя выгод.
Италия и Иллирия, Рейнский союз, в который входило три дюжины германских королевств, герцогств, княжеств и городов, Великое герцогство Варшавское, а также все те королевства, чьи троны занимали братья и маршалы Наполеона, выставляли двести тысяч солдат. Австрия и Пруссия – еще пятьдесят.
Двести пятьдесят тысяч в армии вторжения должны были составлять французы.
Всего же Великая армия насчитывала полмиллиона человек, а ее артиллерийский парк приближался к тысяче стволов.
Уже во второй половине 1811 года русские военные агенты, находившиеся в разных городах Европы, стали сообщать о начавшемся движении огромных воинских масс на восток. От их глаз не ускользнула организация военной почты, всегда предшествующая началу очередной кампании французов. Скорость и надежность военных сообщений были одним из важнейших элементов в организации Великой армии, и русские агенты – все опытные офицеры – хорошо разыгрывали эту карту: обнаружив новые военные почтовые станции, они умело воссоздавали всю сеть целиком, идя от пункта к пункту, а их профессиональная искушенность позволяла примечать и многое другое – расположение на этих линиях штабов, магазинов, воинских лагерей, арсеналов и всего прочего, что свидетельствует о начале подготовки большой кампании.
За границей России послы, резиденты и агенты не смыкая глаз следили за перемещениями войск, сумев привлечь к этому целый сонм небескорыстных осведомителей – хозяев отелей и постоялых дворов, штатских почтарей, разъездных торговцев, кузнецов, тележников и других людей, чья жизнь была связана с дорогами и разъездами.
В свою очередь в западных губерниях России – в Минске, Могилеве, Вильно, Смоленске – появилось множество бродячих циркачей и комедиантов, фокусников, безместных гувернеров и учителей, лекарей, художников, музыкантов, странствующих монахов, землемеров.
Последние были особенно опасны, потому что между межеванием и обмером участков и снятием планов военной рекогносцировки никакой разницы не было, а доказать злой умысел было весьма трудно.
Пришлось настрого Запретить такие работы вблизи крепостей, предмостных укреплений и иных военных объектов и столь же решительно потребовать сугубой исправности караулов в фортециях, арсеналах, казармах, при артиллерийских парках и особенно в штабах.
Все это порождало массу слухов самых невероятных, заставлявших обывателя подозревать всех и вся в государственной измене.
Поэтому и известие об «измене» Сперанского и его «сообщников» было воспринято в России как нечто само собою разумеющееся и мало кому показавшееся необычным.
Да, неожиданным оно было, но необыкновенным – ничуть: мало ли было на Руси испокон веку предателей да переметов?
Жалели государя – понадеялся на своего подручника, а как же было не поверить? Из духовного сословия, да и фамилия с латыни переводится как «надежный человек», по-старорусски – «надежа».
И потому и в образованном обществе говорили: «Как Сперанского не повесить? О, изверг! О, чудовище! О, подлая тварь!»
Умный Яков Иванович Санглен записал в те дни: «Государь, вынужденный натиском политических обстоятельств вести войну с Наполеоном на отечественной земле, желал найти точку, которая, возбудив патриотизм, соединила бы все сословия вокруг его. Для достижения сего нельзя было ничего лучшего придумать измены против государя и Отечества.
Публика, правильно или неправильно – все равно, давно провозгласила по всей России изменником Сперанского. На кого мог выбор лучше пасть, как не на него. Нужно только было раздуть эту искру, чтоб произвесть пожар».
Через день после того, как Сперанского увезли из Петербурга, Барклай был зван к государю.
Отправляясь во дворец, он знал, что Воейкова уже перевели из гвардии в армию, назначив командиром бригады, стоявшей в окрестностях Москвы, а Хитрово уволили в отставку.
Такого рода метаморфозы говорили сами за себя, красноречиво свидетельствуя, что проступки и того и другого не были серьезными, иначе бы их разбирал военный суд.
И все же Барклай ждал, что царь обязательно затронет в разговоре дело Сперанского, связав воедино и государственного секретаря, и Магницкого, и Хитрово с Воейковым. Он знал также, что именно сегодня царь вручит ему Высочайшее повеление, в коем будут точно означены воинские контингенты 1-й и 2-й армий, дислоцированных на западных рубежах России – в Литве.
Этот приказ готовился долго и тщательно – начальники всех департаментов Министерства военно-сухопутных сил, уподобившись дотошным немецким бухгалтерам, считали и пересчитывали тысячи солдат и офицеров, коней и пушек, передвигая фишки, означающие полки, дивизии и корпуса, из расположения одной армии в другую, расставляя их по гарнизонам на маршруте и вне его.
Барклай отличил среди бумаг, лежавших на столе Александра, Высочайшее повеление и ждал, что именно с обсуждения его и начнется этот разговор.
Однако всегда непредсказуемый Александр на сей раз превзошел самого себя.
Начав разговор, он уже первой фразой буквально ошеломил Барклая:
– Михайло Богданович, настал момент, когда важнее деятельности по министерству становится служба непосредственно в войске. И более всего нуждается в этом 1-я армия, самая большая и сильная из всех четырех армий наших, которою, не скрою этого, командует не самый хороший наш генерал, а я хочу, чтобы предводительствовал ею лучший из всех.
– Согласен, государь. Иван Николаевич и в самом деле не может быть назван лучшим, однако же не знаю, кого вы изволите иметь в виду на замену Эссена-первого?
– Вас, Михайло Богданович, – сказал Александр, улыбаясь.
– А что же министерство? – опешил Барклай.
– Вы останетесь министром, однако же все дела канцелярские станет вершить князь Горчаков, пребывая в своей нынешней должности товарища вашего. Конечно же и Алексей Андреевич, как глава Военного департамента, не будет от дел сих в стороне.
Услышав последние слова царя, Барклай понял, что вопрос этот уже решен, и, по всей видимости, не без совета с Аракчеевым, которому Александр уже определил его долю и сферу участия в новой ситуации.
– Когда прикажете, государь, сдавать дела князю Алексею Ивановичу? – ровно и бесстрастно проговорил Барклай, вставая.
– Время не терпит, Михайло Богданович, – тоже вставая, ответил Александр и, протянув папку с Высочайшим повелением, добавил: – Здесь и Первая ваша армия, и все другие, с какими будете вы взаимно действовать, когда война начнется.
Когда Барклай, подойдя к двери, взялся за ручку, царь окликнул его.
Барклай повернулся. Александр продолжал стоять за столом, отчего-то грустно глядя вслед ему.
– С Богом, Михайло Богданович, – проговорил Александр тихо и перекрестил его, будто он уже ехал в Вильно, а не на одну из соседних петербургских улиц.
Молча поклонившись, Барклай вышел из кабинета под любопытствующими взглядами секретарей и адъютантов, недоумевавших, почему аудиенция государя с министром была столь краткой, и как ни был министр непроницаем и холоден, можно было заметить, что он, если и не расстроен, то, по крайней мере, изрядно озабочен.
Глава восьмаяНа последнем рубеже
26 марта Барклай приехал в Ригу. Последний раз был он здесь двадцать лет назад – в 1791 году. Но теперь он не имел права останавливаться в доме кузена Августа, хотя тот уже более десяти лет был бургомистром Риги, а должен был остановиться в старом рыцарском замке, в апартаментах, предназначенных для визитеров самого высокого ранга.
Сопровождаемый генерал-губернатором, Барклай с утра до позднего вечера инспектировал гарнизон, осматривал воинские магазины и арсенал, интересовался фортификационными работами в цитадели.
И только перед самым отъездом, 29 марта, заехал он в дом к Августу, где в честь его приезда собрались все Барклаи и Смиттены, оказавшиеся в то время в Риге.
Если бы не увидел Барклай двоюродного брата и его домочадцев, а вошел бы в пустой дом их деда, то подумал бы, что время в их родовом гнезде остановилось, все, до самых незначительных мелочей, оставалось на своих, от века определенных местах и было таким же, как и в его первый приезд, – вечным, несокрушимым и неизменным.
Зато и кузен, и все другие Барклаи стали почти в два раза старше. И на их примере было хорошо видно, что время быстротечно, а жизнь человеческая – коротка.
Но сам пятидесятилетний генерал, сидевший во главе стола, подтверждал ту истину, что мерять ее нужно не годами, а свершениями. Ему предстояло этим вечером уехать отсюда, чтобы встать на пути небывалой военной опасности.
В тот день, когда Барклай получил приказ отправляться в Вильно, Александр вручил ему и Высочайшее повеление об окончательном составе 1-й и 2-й армий на западе России.
1-я армия стояла между литовским селом Россиены, лежавшим в пятидесяти верстах к северо-западу от Ковно, и городом Лида, отстоявшим от Россией на двести верст к югу.
Эту двухсотпятидесятиверстную полосу, которую русские военачальники считали наиболее вероятным театром военных действий в начале кампании, и прикрывала армия Барклая.
Продолжая выполнение плана, заложенного в «Учреждении для управления Большой действующей армией», в марте и апреле 1812 года дивизии в двух Западных армиях были сведены в корпуса. В 1-й Западной армии было сформировано шесть пехотных и три кавалерийских корпуса, во 2-й, соседней с 1-й, армии, которой командовал Багратион, было четыре пехотных и один кавалерийский корпус.
Армия Багратиона стояла южнее, занимая полосу от Гродно до Волковыска. Эти две армии – в сто десять и сорок пять тысяч солдат и офицеров – были той главной силой России, на которую надеялись, ожидая неминуемого вторжения супостата.
Далеко на Волыни, в районе Луцка, заканчивалось формирование сорокашеститысячной 3-й армии – так называемой Обсервационной, то есть наблюдательной, которой командовал генерал Тормасов. «Обсервировать» 3-я армия должна была за союзницей Наполеона – Австрией, чьи войска могли вторгнуться на Украину.
И наконец, на Дунае стояла 4-я армия, адмирала Чичагова. В ней было пятьдесят семь тысяч человек, и она в случае окончания войны с Турцией могла принять участие в борьбе с Наполеоном, нанося удар в подбрюшье Центральной Европы – по Балканам и Венгрии, где были сильны сепаратистские движения славян и венгров.
Такой была картина дислокации войск ранней весной. 1812 года на западе и юго-западе Российской империи. Однако почти двести тысяч солдат и офицеров из других формирований стояли вне будущего театра военных действий, на многочисленных линиях и кордонах, в крепостях и гарнизонах, в станицах и постах, в иррегулярных и резервных полках, батальонах и ротах от Финляндии до Камчатки и Персии.
Кроме того, все еще не было мира ни с Турцией, ни с Персией, из-за чего более ста тысяч войск оставались прикованными к южным рубежам империи.
В такой вот общей военно-политической обстановке 31 марта 1812 года Барклай прибыл в Вильно.
Приехав в Вильно, Барклай не потратил на церемонию встречи ни одной лишней минуты. Он встретился со своими ближайшими помощниками, большинство из которых были ему знакомы еще по прежним временам.
Ему представились: начальник штаба армии генерал-лейтенант Лавров, умный и прекрасно образованный старик, но больной и малоподвижный; генерал-квартирмейстер генерал-майор Мухин – человек средних лет, отменный картограф и топограф, искусный чертежник, но малообразованный во всех других сферах штабной службы; дежурный генерал штаба армии генерал-майор Кикин, к которому еще предстояло приглядеться; начальник артиллерии граф Кутайсов, в пятнадцать лет соизволением Павла ставший полковником, а теперь – в двадцать восемь – бывший генерал-майором, причем совершенно по заслугам.
Барклай знал Кутайсова как одного из лучших артиллерийских генералов России. Он был умен, смел, красив, прекрасно образован, проучившись в военных академиях Вены и Парижа. Барклай читал его серьезный труд «Общие правила для артиллерии в полевом сражении» и с удовольствием пожал ему руку, зная, что за пушкарей своей армии он может быть спокоен.
Столь же безупречными были и два других генерала – инженер-генерал-майор Трузсон, служивший с недавних пор в Инженерном департаменте военного министерства и хорошо известный ему по тем интересным и разумным предложениям, которые делал он для обоих «Учреждений», и генерал-интендант Канкрин, тоже его соратник по министерству – единственный из всех интендантов русской армии, окончивший два университета и известный в Европе как теоретик и историк военного искусства, финансист, обладающий разнообразнейшими познаниями и интересами.
И его книгу читал Барклай, и Канкрину пожал он руку с тем же чувством, что и Кутайсову. Последним в генеральской шеренге стоял флигель-адъютант императора, полковник, барон Людвиг Вольцоген, появившийся в Петербурге лет пять назад. Барклай знал, что звезда Вольцогена, бывшего полковника и адъютанта короля Вюртемберга, начала восходить в одно время с его собственной.
Энергичный и очень образованный барон вскоре стал читать лекции по военному искусству офицерам свиты его величества по квартирмейстерской части, а потом его стал приглашать к себе для бесед и сам Александр, сделавший Вольцогена флигель-адъютантом.
Барклай несколько раз посылал Вольцогена на рекогносцировку западных областей России и отмечал, что он не только незаурядный военный теоретик, но и исполнительный офицер-практик, четкий и безотказный.
Барклай подумал, что в общем штаб армии укомплектован хорошими генералами и не более чем один-два из них потребуют замены.
Он повернулся было, чтобы пойти к старику Лаврову, стоявшему первым, как в тот же момент в залу вошел еще один его подчиненный и зычно, по-строевому, попросил разрешения представиться.
– Представляйтесь, полковник, – улыбнулся Барклай, хотя появление офицера радости ему не доставило.
– Полковник гвардии Закревский, – отрапортовал тот, приблизившись, и добавил: – Имею честь состоять директором Особенной канцелярии вашего высокопревосходительства.
– Полно вам, Арсений Андреевич! – искренне воскликнул Барклай.
Он знал Закревского еще по министерству, хотя знакомство их было весьма непродолжительным.
Всего четыре месяца назад был прислан к Барклаю двадцатипятилетний армейский майор с предписанием государя о назначении его адъютантом военного министра. Через полтора месяца, без представления со стороны начальства, именным Высочайшим повелением стал Закревский подполковником гвардии, а еще через полмесяца – полковником и директором Особенной канцелярии при военном министре.
Ничем иным, кроме особого расположения государя, объяснить такой стремительный взлет было невозможно, ибо полковник гвардии отстоял от армейского майора на четыре чина, а кроме того, директор Особенной канцелярии занимал и положение совершенно особенное, потому что сфера его деятельности была более чем специфической: в руках директора сходились все нити военной разведки и контрразведки, военной полиции и фельдъегерской службы.
Закревский ведал секретными делами всей русской армии и совершенно опутал десятки служивших с ним людей хитрыми и исключительно изощренными интригами.
Барклай еще в бытность в Петербурге вынужден был признать, что Закревский порою и его самого, будто паук муху, оплетает прозрачными и оттого невидимыми нитями, и он иногда не знал, каким образом использует Закревский любое сказанное ему слово, как истолкует в беседе с государем тот или иной факт.
Полковник Закревский, непонятно как и почему, вошел в такую силу, что ничуть не боялся даже Аракчеева и не стеснялся весьма нехорошо высказываться о нем.
Пожав руку и Закревскому со смешанным чувством удовлетворения, что его Особенную канцелярию и здесь возглавляет искушенный и умный офицер, но не вызывающий у него, однако, совершеннейшего доверия, какое следовало бы иметь главнокомандующему к директору своей секретной службы, Барклай коротко сказал, что рад служить с такими опытными и храбрыми офицерами и генералами, и попросил всех быть свободными до завтрашнего утра.
– Полковник Закревский, – сказал он затем, – останьтесь. – И когда все вышли, спросил: – Пока был я в пути, какие новости пришли из Петербурга?
– Почта от государя приходит каждые сутки по одному разу. Вашему высокопревосходительству вручались пакеты от Петербурга до Риги, а потом от Риги до Вильно. Сюда же шли сообщения, которые не были срочными и не требовали вашего на них немедленного отклика. К их числу относятся два только что полученных мною. Кстати, ваше высокопревосходительство, я оттого и опоздал на встречу с вами, что как раз разбирал эту экстренную почту.
Барклай молча смотрел на Закревского и ждал, что же он скажет.
– Вас извещают, что двадцать третьего марта сего года государю было угодно отставить с поста министра полиции Александра Дмитриевича Балашова, оставив своим генерал-адъютантом, на место же министра угодно было государю назначить генерала от инфантерии Сергея Козьмича Вязьмитинова.
«Так, – подумал Барклай, – несомненно, это последствие дела Сперанского. Интересно, кто же еще?»
И, будто угадав его немой вопрос, Закревский произнес:
– Второе извещение касается нас ближе, нежели первое: сюда, в Первую Западную армию, назначен директором военной полиции Яков Иванович де Санглен.
«Стало быть, – подумал Барклай, – все актеры этой трагикомедии, ход коей направлял сам августейший режиссер, остались в дураках. Ну что ж, как говорили древние, «пусть консулы будут бдительны».
Следующим утром, в восемь часов, Барклай собрал всех присутствовавших на вчерашней встрече с ним и представил им своих адъютантов.
– Прошу вас, господа, любить и жаловать друг друга, – сказал Барклай, стоя в стороне от шеренги адъютантов. – Вот вам, господа, майоры Левенштерн и Рейц, капитаны Сеславин, Вельяминов и Крамин, штабс-капитаны Гурко, Кашинцев, Нарышкин, Кавер и Клингер; поручики – Барклай-де-Толли, граф Ростопчин, граф Ламсдорф, фон Бок, фон Сивере и Граббе.
Каждый из генералов, слушая фамилии адъютантов, тут же понимал, кто из могущественных сановников империи стоит за тем или иным из них, являясь его родственником или свойственником.
Из всех представленных более иных обласкан был взорами генералов штабс-капитан Лев Александрович Нарышкин – племянник наперсницы государя Марии Антоновны Нарышкиной по мужу ее – обер-егермейстеру и гофмейстеру Дмитрию Львовичу Нарышкину, известному в большом свете под именем Великого Магистра Ложи Рогоносцев.
Распределив затем обязанности адъютантов в связи со служебными функциями присутствующих здесь генералов, Барклай ушел из рекреации в кабинет и сел читать бумаги и тут же писать ответы на них царю.
Прежде всего он сообщил о всех ставших известными ему передвижениях неприятельских войск. Потом известил, что в соседнем Мемеле пруссаками собраны огромные запасы продовольствия – ржи, пшеницы, вина, а также фуража.








