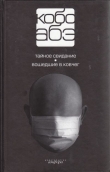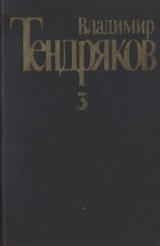
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Может, не сейчас, может, отложить – не в час победы, не портить радости потерей.
Но он уже сдул пыль, поставил бюст – перед собой.
Вот она – мягко и смело описывают надбровья странные, удлиненные глаза. Она прежняя… Нежная линия скул стекает к маленькому подбородку…
Была царицей, жила в Египте, говорила на чужом языке… Не верится! Где-то ее встречал. Ждешь – вот-вот с губ сорвутся понятные слова, ждешь их, не веришь, что ей больше трех тысяч лет. Исчезла грань между мертвым и живым, между тысячелетиями и минутами – ждешь: оброни слово любящему тебя.
Но человек не камень, он не может застыть в тысячелетнем ожидании.
Федор взял в руки голову и стал гладить и ощупывать пальцами губы, брови, скулы, удивляясь – бесхитростна работа, увидел в живом – перенес на камень, только и всего. Видимо, Нефертити в самом деле была его добрым гением, при виде ее он начинал верить в себя: нет таинств, нет потусторонних хитростей, не может быть недоступного. Он, Федор, еще удивит мир.
Двери мастерской были чуть приоткрыты. Федор услышал из коридора голос Ивана Мыша:
– Будьте так ласковы, разберитесь. Моя ж работа не самая худшая.
– Те, кто был хуже вас, тоже не приняты, – возражал ему голос Валентина Вениаминовича.
– Не все, ей-богу, не все.
– А кто?
– Да хотя бы Матёрин. Разве ж его работа краше моей? Он и сам признавался, что прежде палитру в руках не держал. А вы его приняли, мне отказали.
– Слушайте! – голос Лаврова стал резок. – Во-первых, все-таки натюрморт Матёрина написан лучше вашего. Не обольщайтесь, это не только мое личное мнение. А во-вторых, если б даже этот натюрморт был чуть хуже, я бы все равно настаивал принять Матёрина, а не вас. Да, Матёрина!..
– Это почему?
– Объясню. Первый раз я подошел к его работе и ужаснулся беспомощности и безвкусице…
– Ну вот…
– Через полчаса в его работе был уже и вкус и какой-то голос. За тридцать минут он успел чему-то научиться. За тридцать минут! Значит, за шесть лет в институте он может научиться многому. Имею ли я право захлопывать перед ним дверь?
– Валентин Вениаминович…
Валентин Вениаминович перебил:
– Шлихман принес ваши новые рисунки. Они действительно ваши?
– Да…
– Гм… Что-то подозрительно. Разберемся. До свидания.
По коридору зазвучали резкие шаги.
Федор поставил на шкаф бюст Нефертити, вышел из мастерской.
Иван Мыш вздрогнул, по лицу Федора догадался – все слышал. Большой, тяжелый, размякший, давя грубыми сапогами скрипучий паркет, стоял перед Федором.
Федор ничего не сказал, прошел мимо к лестнице…
Иван Мыш шумно догнал его, забежал вперед:
– Послушай… Послушай… Ох, боже мой! Ты послушай – тону!.. Сам понимаешь – за соломинку хватаюсь.
– Понимаю – хоть другого утони, а сам выплыви.
– Да ведь ты уж принят, тебя уже не утопишь. Прости…
– А я вроде и не попрекаю тебя.
– За соломинку… Дернуло меня за язык…
В лице Ивана, во всей широкой, сутулящейся фигуре было что-то искренне униженное, кающееся. Он старался заглянуть в глаза Федора и опять по-собачьи, опять моляще – вот-вот заскулит.
– Прос-ти… – И вдруг тихо, проникновенно, с каким-то пугающим ожесточением, не сводя собачьего взгляда с Федора, выдохнул: – Сволочь я…
И Федору стало не по себе. Он-то принят в институт, он еще переживает навеянную простотой и доступностью Нефертити всепобеждающую веру в себя, он обласкан, он удачлив и воротит нос в сторону. Перед ним лежачий, лежачего бьет.
– Ладно уж… Раскис – подберись.
Валентин Вениаминович наткнулся на Федора, взял за рукав, сказал:
– Зайдем на минуточку. Нужен.
Привел в комнату, погремев ключами, достал из застекленного шкафа папку, высыпал на стол листы твердой бумаги.
Средь других рисунков верхним лег портрет Федора с падающим боковым светом, лицо под старорусского молодца, какого-нибудь Ваську Буслая. Рисунок не окончен, так как работу оборвал неожиданно вспыхнувший спор о «парне с молотком».
– Это делал Иван Мыш? – спросил Валентин Вениаминович, остро заглядывая в самые зрачки.
Федор отвел глаза, ответил уклончиво:
– О всех не скажу…
– Ну, а это? – Валентин Вениаминович указал на портрет Федора.
– Это – Иван Мыш. – Федор выдержал пристальный взгляд.
– Ну что ж… – Взял в руки портрет, откинулся, прищурился: – Как вам кажется: для начинающего не плохо?
– Хотел бы я, чтоб у меня так получалось.
– Ну что ж… Вам верю. Однако как эта работа отличается от тех, какие он нам принес!
Федор молчал.
– Черт возьми, на этот раз, похоже, попались такие, что учатся на ходу… Ну что ж… Лучше ошибиться в другую сторону… Скажите этому Мышу: я похлопочу, чтобы приемная комиссия переменила свое решение.
Федора не смущало, что он соврал Валентину Вениаминовичу. А Лева Православный долгое время, встречаясь один на один с преподавателем живописи, пробегал мимо провинившимся кобельком, опустив голову, пряча глаза.
12
Их перевели в другую комнату – на нижнем этаже, окнами во двор. Комнаты общежития на верхних этажах, более светлые, более просторные и сухие, заняли студенты старших курсов.
Как в землянке на передовой, начинали сживаться теснее.
Чернышев навез книг, пристроил над своей койкой полку. На нее все книги не вошли – завалил подоконник, забил книгами тумбочки. Федор сразу кинулся к книгам: красочные монографии художников на иностранных языках, толстые книги по истории, разрозненные тома Маркса, Плеханова и Писарева, потрепанные томики стихов, даже пахнущая тленом старая Библия с иллюстрациями Доре.
– Старик, – обратился к нему Православный, – если ты все это прочитал, то я в тебе разочаровался – художник должен быть глуповат.
– Я другого мнения.
Чернышев в свободное время валялся на смятой койке, нещадно дымил, вонзая в разбитое блюдечко окурок за окурком, листал какой-нибудь распухший фолиант.
Иногда он брался за гитару.
Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь – тяжелый труд…
Он пел только старые революционные песни о тюрьмах, о звенящих кандалах, о гневных угрозах разрушить старый мир. И Лева Православный пытался подкусывать:
– Проповедник нового, почему ты тоже старину-матушку на свет божий тянешь?
Если это старина, то мне стыдно за современность!..
Как дело измены, как совесть тира-а-ана
Осе-енняя ночка темна…
Тот, кто первый это пропел, знал о будущем больше, чем мы с тобой, Православный.
Вече Чернышев умен, начитан. Вече Чернышев хороший товарищ, готов всегда выворотить свой карман перед другими, и его любовь к баррикадной романтике нравилась Федору. Но Вече чувствовал свое превосходство, не особенно обращал внимание на Федора – обычный парень, каких много: ни яркости характера, ни выдающегося таланта, ни ума, ни оригинальности суждений, ни даже вызывающей удивление физической силы, как у Ивана Мыша, – ничего особого, молчун в спорах, покладист в жизни. Федору было трудно сблизиться с Чернышевым.
Зато с Левой Православным куда как просто. Тот жил словно птица божия, – вечно голодный, вечно без копейки денег в кармане, вечно обуреваемый воинственной любовью к поэзии минувших лет, всегда готовый разделить пайку хлеба – разумеется, чужую, так как свою съедал по дороге из магазина. Он принимал неудачу любого из друзей как свою собственную, он лез с самыми добросердечными советами даже тогда, когда его не просили…
– Старик, ты кретин, – кто же так холст натягивает?
И это подчас говорилось Ивану Мышу Без Мягкого Знака, у которого были удивительные, поистине золотые руки.
С помощью лишь одного своего карманного ножика он мог из пуговицы от дамского пальто и кусочка латунной проволоки сделать строгого вкуса брошку, две обычные канцелярские скрепки в его пальцах превращались в затейливую монограмму, лоскут грубого холста, два листа картона и еще отщепленный от дверцы старого шкафа кусок облицовочной фанеры – в богатую папку.
Иван Мыш подбирал все, что попадалось на глаза: граненая пробка от флакона из-под духов, ножка дивана, оказавшаяся дубовой, старинный медный пятак – все пряталось то в тумбочку, то под койку. Однажды притащил даже выуженный из помойной урны, которую не успели опростать мусорщики, разбитый вдребезги сапог. Не обращая внимания на насмешки, обмыл голенища, протер маслом, стал раскраивать ножом. Получился внушительный бумажник, которым бы не побрезговал пользоваться сам Ротшильд.
Этот бумажник Иван Мыш подарил Православному за доброе отношение, за помощь и выручку. Православный три дня показывал его всем, восторгался.
– Старик! Это шедевр!
– А что внутри?
– Дивиденды.
На четвертый день бумажник был утерян, что не вызвало особого горя – держать в нем нечего, а показан всем.
После экзаменов Федор мечтал о новом натюрморте, гадал – каким он будет, нетерпеливо ждал первого дня учебы. Натюрморт даже снился по ночам – что-то неясное, серый строгий цвет с броским желтым. Снился только цвет, никаких предметов…
Был приготовлен новый холст, покрытый казеиновой грунтовкой. Нетронутый холст – будущая картина. И почему-то, глядя на него, сладко сжималось сердце: а вдруг создаст шедевр – серое с желтым.
Но вот на возвышение посреди мастерской, кряхтя, взобрался старик, уставился в пространство вылинявшими глазками. Никакого натюрморта – портрет, одна голова, ничего серого и желтого. У старика – дубленое лицо старорежимного дворника, белая рубаха, плесневелая, с прозеленью борода, на стену за его спиной падает тень – темный фон.
Федор стоял в унынии и растерянности – не нравился ему старик, сизый нос, линялые глаза.
Подошел Валентин Вениаминович, кивнул на старика, спросил:
– Красив дед?
– Не пойму, что-то не доходит до души.
– А вы поглядите на его лоб – шишковатый, так и просится, чтобы его вылепили. А эти глазницы… А эти маленькие глазки в них… Чувствуете – прочно вставлены. А мятые щеки – рыхлость, дряблость, но не бесформенность. Сравните со лбом, какая разница в фактуре.
Старик сидел близко от них, слышал, разумеется, каждое слово Валентина Вениаминовича о своих богатых достоинствах, слушал безучастно, невозмутимо, видать, привык к славе шишковатого лба.
– Лепить надо. Пробуйте.
Федор же несколько дней внутренне готовился не лепить, а раскрывать таинства цвета – желтый, сияющий на сером.
– Начинайте жиденько, одним цветом.
Кисть с разведенной краской долго висела над холстом. С чего начать старика – со лба, с носа, с бороды? Старик крепко сколочен, какой-то цельный, не разберешь по частям – окружность, у которой нет ни начала, ни конца.
Наконец кисть коснулась холста и сама – Федор не успел за ней уследить – описала овал лица, грубо, приблизительно… Но холст утратил свою девственность, начало положено, неуверенность исчезла, работа началась.
Шишковатый лоб – твердый до медного звона… А ведь есть счастье в том, что он шишковатый. Но одной сиеной жженой его твердости, его медной звонкости не добьешься – лоб бледный, бледней стариковских пунцовых Щек. Цвет лба, цвет щек – есть счастье в шишковатом лбу! К черту серое и желтое – забыть!
Федор отступил, чтобы полюбоваться на свою удачу…
Отступил… и счастье испарилось.
Вместо физиономии старика с холста глядело чудовище, составленное из двух неодинаковых частей – выдвинутого вперед лба с двумя твердыми шишками и мясистых щек, увенчанных бородой; там, где брови, – провал. Федор смятенно оглянулся – видит ли кто из соседей его позор?..
Но почти все стояли возле мольберта Вячеслава Чернышева. Стояли и молчали.
Федор, воровато оглядываясь, соскреб шишковатый лоб старика, тот лоб, который доставлял ему наслаждение своей крепкостью, твердостью до медного звона. Он соскреб и, положив кисти и палитру, направился к мольберту Вячеслава.
Вячеслав только начал, на холсте первый нашлепок, грубые, небрежные мазки, но в них какая-то победность, в грубости – сила. И уже проступает шишковатый лоб, под ним ввалившиеся глазницы, глаза еще не намечены, а глазницы уже источают взгляд. А сам старик как-то удобно, свободно расположился на холсте. Вот оно настоящее… А ты?..
Вече Чернышев, насупленный, подобранный, суровый, не обращая внимания на почтительно столпившихся за его спиной ребят, работал – отступал, долго вглядывался, прицеливался, делал кистью выпад…
Федор дольше всех стоял у него за спиной.
С этого дня он начал погоню за Вячеславом Чернышевым. Быть, как он, работать, как он, походить на него, и только на него! Стоял ли он за мольбертом, играл ли по вечерам на гитаре – за ним следили преданные глаза Федора. А когда Чернышев небрежно нахлобучивал свою мягкую щегольскую шляпу, набрасывал на плечи плащ, исчезал где-то в городской путанице улиц и огней, Федор чувствовал вокруг себя пустоту и одиночество. На время пропадала из жизни опора.
Валентин Вениаминович был добросовестным учителем. Поддерживая протез правой рукой, он подолгу простаивал возле Федора, терпеливо объяснял: «Этот цвет приблизителен… Не выдержана тональность… Бороду перемылил… Темные места бери подмалевочкой, светлые лепи густо…» Валентин Вениаминович учил словом, щедрым советом, но каким словом можно научить дерзости? Нет таких слов в человеческом языке.
Спасибо товарищу, кто умней тебя, опытней. Спасибо за то, что он есть, живет рядом. Спасибо даже тогда, когда он не очень-то тебя замечает. Его приравняли к тебе – одна крыша над головой, одинаковая стипендия, – но он лучше тебя, выше тебя, тянись за ним, будь лучше, чем ты есть. Недостигнутый уровень – не самый ли лучший учитель в жизни?
Каждый день в мастерской влезал на возвышение старик со всеми своими живописными сокровищами – лбом в шишках, бородой с прозеленью, рыхлыми щеками в пунцовой сеточке жилок. Каждый день Федор упрямо воевал с ним.
И казалось, дни были однообразными, внешне похожими друг на друга, как дождевые капли на ржавой проволоке за окном. Утром кружка кипятка с куском хлеба, бегом до остановки троллейбуса, мастерская, старик, холст, время, отведенное для рисунка, занятия по пластической анатомии, лекции по истории искусств, по марксизму-ленинизму, группа французского языка под надзором доброй Сарры Израильевны, звавшей своих великовозрастных небритых воспитанников «деточками», щедро ставившей пятерки и четверки за вологодское оканье с прононсом. В промежутках пропахшая щами подвальная столовка, где к студентам-художникам относились с придирчивым подозрением, так как было известно, что они великие мастера подделывать разовые талоны на обед. Потом Федор бежал в библиотеку и читал книги по истории, по искусству, просто те, о которых слышал похвальное слово. Читал, чтобы походить на Вече Чернышева, чтобы не молчать при спорах… Возвращался в общежитие уже ночью и торопливо ложился спать, так как не мог забыть, что в кармане пальто, завернутый в газету, лежит кусок хлеба. Его нельзя трогать, иначе утром побежишь натощак, весь день будет мутить от голода.
Утром опять в прежнем порядке, начиная с кружки кипятка и этого куска хлеба…
Дни, похожие друг на друга, но только внешне. Господином каждого дня был старик, застывший на своем стуле посреди мастерской. Иногда этот старик приводил в отчаянье, иногда благосклонно одаривал тихой радостью… Радости было меньше, чем отчаянья… Быть может, ее было бы и больше, если б постоянно не стоял перед глазами холст Вячеслава Чернышева, напоминавший: «Жидковат ты, Федор Матёрин…»
И мечтал о новой натуре, о том, чтоб снова стать перед чистым холстом. Новый холст – новые надежды, Вдруг да он поймает синюю птицу за хвост.
13
Как-то Федор пришел в общежитие раньше обычного. Никого в комнате не было. Лева Православный вообще приходил ночью. В городе у него было множество знакомых и достаточное количество каких-то теток, дядюшек – седьмая вода на киселе. Лева по очереди обходил всех – и хорошо знакомых неродственников и почти незнакомую родню, потчевал всех своей философией – искусство гибнет вместе с русской стариной, – за это его угощали чаем, иногда и обедами, тем только и жил, так как стипендия у него исчезала в три дня.
Иван Мыш, обычно коротавший свое свободное время за тумбочкой, ковыряясь ножичком в лоскутках кожи, пуговицах, деревяшках, теперь тоже стал пропадать. Его зачислили в институт с условием, что первый семестр стипендию не получит, – приходилось промышлять. С его щек исчез румянец, наметились даже скулы, но деньжата у него, кажется, водились, голодным не сидел.
Вячеслав Чернышев мог валяться на койке с книгой, мог явиться за полночь навеселе. У него, как и у Православного, тоже было достаточно знакомых, он тоже не гнушался пользоваться гостеприимством, так как давно спустил привезенные из дому деньги, ждал перевода.
В этот же вечер никого не было, заправленные койки стояли нетронутыми, и Федор почувствовал тоску. У товарищей – свои заботы, им нет до него дела. Да и товарищи ли это? Просто живут бок о бок, связывает лишь одно соседство по койкам. Что он такое, чтобы они им дорожили? Он их ничему не сможет научить, сам глядит каждому в рот. Он может быть преданным, но кому нужна его преданность? Пока на людях, пока можешь переброситься словом – вроде не один, а ушли все – пустота. Иллюзия дружбы, иллюзия товарищества – обман.
Да и вообще были ли у него в жизни товарищи? Те, с кем лежал в одном окопе, ел из одного котелка, укрывался одной шинелью, были друзьями на время. Прошло время окопов, и они развеяны по свету – не знаешь, кто жив, а кто погиб. Вспоминают ли они тебя? Навряд ли.
Хотя один друг есть, один помнит наверняка – Савва Ильич. Он-то помнит, а Федор о нем забыл. В чемодане лежит неразвернутый пакет с акварельками Саввы Ильича. Просил – покажи, выслушай, что скажут, напиши… Наверное, каждый день вспоминает, каждый день ждет ответа. И наверное, не обижается, прощает, сам для себя находит отговорки – некогда человеку, занят.
А дело не в занятости. Федор стыдится своего друга, боится показать его работы, знает – плохи, о них непременно отзовутся с пренебрежением. Лежит в чемодане сверток с акварелями Саввы Ильича.
А Савва Ильич, не дожидаясь почтальона, каждое утро бежит на почту в сиротском пальтишке, выставив потертые локти, не имея сил скрыть волнение, спрашивает в окошечко:
– Мне тут должно быть письмо…
Нет письма, нет ответа, забыли тебя, старик, жди, пока вспомнят.
Федор выдвинул из-под койки чемодан, достал спрятанный под низ сверток. И газета, в которую завернуты работы, районная, пестрят заголовки: «Повысим удои», «Правильный уход за молодняком», «Все силы на заготовку кормов!» – будничны интересы, далеки от высокого искусства.
Рассыпал по койке, присел, стал перебирать. Почему-то эти акварели кажутся древнее Нефертити, робкие цвета выглядят вылинявшими. А цвета-то – зеленая травка, голубое небо, желтые дорожки. И этим увлекается человек преклонных лет, не мальчишка, всю жизнь отдал скучной забаве, сейчас не ждет ничего иного, как похвалы.
Попалась в руки картинка – по голубому небу радуга. Эх!..
– Ты чего это колдуешь?
Федор вздрогнул. За его спиной стоял Чернышев. У него, как всегда после хорошего обеда со стопкой водки, лицо розовое, размякшее, в глазах благодушная доброта. Шляпа набекрень, воротник плаща поднят, в зубах сигарета – вид фатоватый.
– Откуда такое богатство?
Взял одну работу:
– Моего школьного учителя. Просил их показать знающим людям.
– Опрометчивая просьба. Доброго слова не услышит в свой адрес.
– Что ты посоветуешь ему написать?
В вежливой форме: брось дурить, убивай лучше время на развлечения.
– Ну что ж… другого я и не ожидал. – Федор, не выбирая, взял первую, какая подвернулась под руку, картинку – попалась радуга: – Вот возьми…
– На память, что ли?.. Не обессудь…
– Нет, возьми карандаш и по возможности отчетливей напиши: «Неплохо» или просто «Хорошо», Потом поставь свою подпись.
– Это для чего же?
– Для радости, Вече. Для тебя пустяк, а для человека – большая радость.
– Радость во лжи?.. Ну и ну, не хотел бы для себя такой.
– Что делать, он всю жизнь в этой лжи прожил.
– Может, все же лучше объяснить – оставь надежды…
– А стоит ли перевоспитывать? Ему сейчас под шестьдесят – старик.
– М-да… И ты ему будешь лгать?
– Буду. Самым бесстыдным образом. Сейчас сяду за письмо, напишу: «Твои акварели похвалили. Чернышев, имя которого через несколько лет узнает вся страна, будущий гений, гигант в живописи, удостоверил правдивость моих слов своей подписью на лучшей работе».
– Гм… Всю жизнь считал – ложь вредна, а правда, пусть самая злая, – благо…
– Как хочешь, как хочешь… Я не решусь отнимать у человека последнее. Он всю жизнь ждал этого счастья. Всю жизнь! Я солгу.
– Гм…
– Помнишь, Православный читал недавно: «Как трагик в провинции драму Шекспирову…»
– Так это из провинциальных трагиков? Сдаюсь.
…Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой…
Дай карандаш, брат! Погрузим в золотой сон не вкусившего святой правды… Но, может, не эту? Может, выберем получше работу?
– Они все одинаковы, Вече.
– Гм… Все как одна, прямо на удивление… Предаю свои принципы, благословляю пошлость… Бери, садись за письмо.
На следующий день, когда Федор стоял за мольбертом, прописывал надбровья, затеняющие стариковские глаза, подошел Вячеслав. Он долго смотрел на работу, не похвалил, только спросил:
– Он – твой учитель?
– Кто?
– Да этот трагик в провинции…
– Преподавал рисование и черчение.
– Другой школы ты не знал?
– Нет, откуда же.
– Гм…
С этой минуты началось их сближение.
14
Старик, торчавший на помосте, «приелся», как кислые щи в студенческой столовой. От одного вида его шишковатого лба охватывала цепенящая скука. Тысячу раз уже ощупывал кистью этот лоб, начинай тысячу первый. Тысячу первый раз – о господи!
Но вот, как сквозняк в душную, закупоренную комнату, врывается известие: приготовить холсты, завтра поставят новую натуру.
Новое утро, новые холсты…
На этот раз – натюрморт, но не примитивная бутылка с парой лимонов, с чем можно справиться за один сеанс… Медный пузатый самовар, на нем, как на гордом воине шлем, – чайник, матовая глиняная крынка, суровая скатерть, чашки на блюдцах, расшитое полотенце – пестрота, блики, рефлексы, и все в старорусском стиле, – радуйся, Православный.
Валентин Вениаминович, как всегда, в отутюженном костюме, в безупречно свежей сорочке, как всегда, при галстуке, но в нем сегодня есть что-то большее, чем всегда, какая-то торжественность, подчеркивающая исключительность момента.
Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. В свое время наверняка Валентин Вениаминович мечтал стать генералом от живописи, но стал одним из многих, про кого снисходительно говорят: «Имеет свой маленький голос». Свой голос маленький, его вряд ли услышат, – так не лучше ли настраивать чужие голоса? Новые холсты на мольбертах для Валентина Вениаминовича – тоже новые надежды. А вдруг да на каком-нибудь холсте придушенно прорвется тот неокрепший голос, который может со временем прокатиться по земле?
Новые холсты, новые надежды… Валентин Вениаминович, вздернув плечо, ходит между мольбертами, приглядывается – кто как начал, дает советы:
– Слишком крупно взял. В картине не будет воздуха, самовар станет задыхаться.
Федору нравится новый натюрморт. Со многим будет трудновато справиться, но греет душу покойная уверенность в себе – не спеша расставляет чашки на поверхности стола, забегая мысленно вперед, радуется, что в соседстве матовой крынки и мутноватой меди самовара есть что-то вкусное. Впервые уверенный покой, а не судорожное нетерпение.
Чернышев, когда все пристраивались на новых местах, пригласил Федора:
– Вставай рядом.
Федор отказался.
– Видеть все время твой холст?.. Нет, боюсь. Лучше уж буду приходить к тебе в гости.
– Ну-ну, и я к тебе наведываться буду.
Они встали в разных концах мастерской.
В первый же час удивил Лева Слободко. Бросали свои холсты, шли смотреть на его самовар.
А самовар превратился в радугу, жирные косые мазки, красные, лиловые, коричневые, мазки крупные, мелкие, пестрота, страстность, фантазия.
За спиной Левы начали развлекаться:
– Картинка-загадка: куда пропал самовар?
– И где вор, укравший его?
– В огороде бузина, в Киеве дядька.
А Лева важно творил, на широком, румяном лице – вызывающее презрение.
Подошел Валентин Вениаминович, долго стоял. Лева с упрямо насупленным лбом продолжал разводить узоры, бровью не повел в сторону наставника.
Валентин Вениаминович вежливо спросил:
– Чем вы забавляетесь, Слободко?
– Пишу, как видите, – хмуроватый ответ в сторону.
– И разрешите поинтересоваться, что именно?
– Натюрморт, разумеется.
– Отнюдь не разумеется. Не вижу натюрморта.
– А я – так вижу.
– Не верю.
– Чем прикажете убедить?
– Разве вы психически ненормальны?
– Психически?.. Нет, я нормален.
– И не подвержены цветовым галлюцинациям?
– Я так хочу! Могу я выразить то, что мне больше по вкусу?
– Нет, не можете.
– Это что же, Валентин Вениаминович, палочная дисциплина в искусстве?
– Нет, дисциплина в учебе. Об искусстве говорить пока рано.
– Я хочу выразить свое, а не чужое отношение к цвету. Почему вы навязываете мне свой вкус?
– Потому что вы пришли ко мне учиться.
Слободко сердито хмыкнул.
– Если вы считаете, что я вас не смогу научить ничему новому, – продолжал спокойно Валентин Вениаминович, – считаете, что вы уже вполне сложившийся художник, извольте – отступлю. Но при этом придется попросить вас не занимать место в институте. Потому что найдется такой, которому будут полезны мой опыт, мои знания, мои советы.
Лева Слободко угрюмо молчал. Валентин Вениаминович повернулся к студентам.
– Хочу изложить вам свое кредо, даже если оно кой-кому и не понравится. Считаю, что, прежде чем творить новое, человек должен овладеть тем, что до него достигнуто другими. Истина банальная, но если ей не следовать, то всякая учеба теряет смысл. А вы пришли сюда учиться. Поэтому… – Валентин Вениаминович окинул взглядом мастерскую. – Поэтому буду требовать, чтобы вы постигали ремесло живописца в том виде, в каком оно уже существует много веков. Таланту я вас не научу, а ремеслу постараюсь. Опрокидывать старые каноны вы будете уже за пределами этих стен.
Кто-то насмешливо, не без услужливости, подкинул:
– Знай, сверчок, свой шесток!
– Слободко, если вам дорога эта… простите, игра в разноцветные мазочки, можете развлекаться ею сегодня. Но завтра вы принесете новый холст и начнете писать уже не феерический натюрморт, а реальный, с тем прозаическим самоваром, какой видят ваши глаза.
Валентин Вениаминович вышел, унося косо поднятое плечо.
Лева Слободко глядел в пол.
Федор был на стороне Валентина Вениаминовича. Он, Федор, как и Лева Слободко, тоже хочет стать художником особенным, ни на кого не похожим, но прежде нужно постичь постигнутое – нехитрая логика. Нет, Левка не прав.
Однако не все так считали. Православный начал ораторствовать у своего мольберта:
– Это называется – стройся в шеренгу, я здесь командую. Раз, два! Подымите кисти! Раз, два! Привыкай с малолетства шагать в ногу! Из художников – солдатики, пишущие картины по уставу. Из искусства – ширпотреб!..
И это вконец расстроило Леву Слободко, он бросил запачканные кисти, вставил грязную палитру в этюдник.
– Пойду напьюсь!
– Приятного аппетита, – подкинул ему Вячеслав Чернышев.
И Лева Слободко стал: грудь в грудь, лицо оскорбленно надуто, округленные, со стеклянным блеском глаза уничтожающе смотрят в лоб:
– Э-эх!
– И ты, Брут, с ними! Не так ли? – подсказал Вячеслав.
– Пошел знаешь куда?..
– А именно?..
– Сказал бы, да девчонки рядом.
Слободко отмаршировал из мастерской.
Вечером он ввалился в комнату общежития – офицерский плащ мокр от дождя, фуражка с голубым околышем надвинута на брови. Сел, не снимая плаща, на койку, напротив Вячеслава, который, по обыкновению, лежал в носках, жевал потухшую папиросу, листал книгу.
– Драться пришел.
– Давай, – согласился Вячеслав, продолжая жевать окурок.
– Значит, так… Да оторвись ты, сукин сын, от книги! Имей уважение!..
– Пардон. – Чернышев отложил книгу.
– Значит, так…
– Что ж мало выпил?
– Не берет ни черта.
– Ну, я бы не сказал…
– Удручен я…
– Мировой скорбью?
– Не мировой скорбью, а твоим гнусным поведением, ренегат!
– Так сильно?.. Теперь вижу – хлебнул изрядно.
– Ренегат! Хочешь знать почему?.. Слушай! Объясню! – Слободко вскочил, встал в позу трибуна. – Ты талантлив, хоть мне твой талант и чужд. Я не поклонник слепого копирования природы. Но в этом копировании ты мастер. Признаю, проникаюсь уважением. Как видишь, я шире тебя… К черту реализм с его узкими рамками – не отступи от натуры. Я человек, я бог, я сам себе владыка, наделенный душой. Да, душой, черт возьми, вы, пресловутые материалисты! Душой! Слышите? И моя душа богаче остальной природы со всеми ее сокровищами. Дай мне выразить свое богатство, дай мне выразить свою душу!
– Сгораю от нетерпения узнать – почему я ренегат?
– А, черт! Занесло… Так с чего я начал?
– С этого самого – с ренегата.
– Ты – ренегат!
– Это слышал.
– Ты – талантлив по-своему!
– И это было сказано.
Как-никак ты человек искусства…
– Спасибо за комплимент. Дальше.
– И ты ренегат!
– Железная логика – все возвращается на круги Своя. Ты выпил один не меньше пол-литра.
– Больше.
– Боюсь теперь сомневаться.
– Я пропил репродукцию Пикассо. Гениального Пикассо я перегнал на водку, чтоб обрести равновесие!
– Обрел, не спорю, – ты еще крепко держишься на ногах.
– Ты, Вече, сук-кин сын!
– И ты красноречив, как Цицерон в квадрате. За это я даже великодушно прощаю неуважение к себе.
– Подлый льстец, ты не увильнешь от суда. Ты поддерживаешь тех, кто вооружен садовыми ножницами… Нет более страшного оружия для искусства, чем эти садовые ножницы. Ими подстригают всех под один уровень, под линеечку, чтоб не было шероховатостей, чтоб живая сила не выпирала из установленных рамок. Ты – человек искусства – поддерживаешь могильщиков искусства! Как это назвать, скажи? Как назвать?
– Серьезный упрек… Давай-ка уложу тебя на койку – отоспишься…
– Умереть? Уснуть? Уснуть и видеть сны?.. Все кругом спят, потому-то наше искусство плоско и невыразительно. В Европе давным-давно отшумели импрессионисты, в Европе Ван-Гог уже анахронизм, а мы стряпаем жалкие пародийки на классицизм, заменив библейские сюжеты на производственные. А тот же скучный колорит кофейного с сажей, та же тошнотворная гладкопись. Спит искусство! В летаргическом сне оно!
– Как жаль, что ты пьян, мы бы славно поспорили. Есть зуд.
– Я пьян не от водки. Моя водка сегодня настояна на Пикассо! Его гением я пьян – потому силен, потому должен тебя истолочь в крупу! Молчи и слушай!.. Кто я такой?.. Скажи: кто я такой?.. – Крепкие кулаки бывшего летчика гулко ударили в широкую грудь. – Я – Лев Степанович Слободко!
– Воистину так, кто же спорит.
– Другого такого на свете нет!