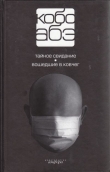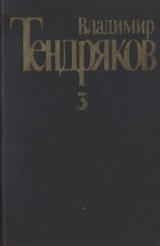
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Наконец Оля произнесла:
– Я начинаю бояться тебя, Федор.
– Оля… Я хочу…
Оля насторожилась.
– Оля, раньше не решался, но мне сегодня все доступно… Оля, хочу ни мало ни много, чтобы ты жила со мной всегда. Без тебя мне трудно, без тебя невозможно… Оля, не показывай, что это для тебя новость! Ты догадывалась!
Оля сжимала круглыми коленями кисти рук.
– Странно, – произнесла она. – Если б ты мне сказал это раньше, я бы больше обрадовалась.
– Когда – раньше?
– Даже тогда, когда ты ходил несчастным… Сейчас я почему-то боюсь тебя.
– Оля, я не отступлю!
– И не надо. Я тоже люблю тебя. Но сейчас у меня какой-то страх перед тобой. Все думается: достойна ли я тебя?
– Достойна?.. Я просто не могу без тебя. Не веришь? Или мне броситься на колени, произносить клятвы?
Оля помолчала и тихо проговорила:
– Наверно, мне будет очень трудно с тобой.
– Я все сделаю, чтоб тебе было легко!
– Зачем? Пусть будет трудно. Чем-то я должна платить за то, что ты со мною рядом… Боюсь другого – как бы со временем не перешагнул через меня и не ушел… А трудно – пусть… согласна.
Он притянул ее к себе, и она покорно подалась, на минуту замерла в его руках, затем отстранилась несмело и ласково:
– Мама может войти.
21
Федор навестил Вячеслава. Ему-то он должен был сообщить о победе.
У Вече в мастерской стоял эскиз: солнечный, нарядно белый город, по улице – мазутный поток рабочих. И в этом мазутном потоке легким, сияющим лебедем застряла пролетка с дамами в летних платьях. Они сжались от страха, они затравленно глядят на слитную толпу люден, выползших из нищих окраин сюда, в их солнечное, белокаменное царство.
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас грозно гнетут…
Вече в студенческой комнате пел это под гитару. Теперь, видать, пришла пора пропеть то же самое другим голосом. В эскизе было то, чего не хватало его первой картине, – есть незримый герой, он пугает. Над мазутной толпой, в прозрачном воздухе летнего дня, среди сияющих стен города одна грозная сила схлестнулась с другой – классовая ненависть, классовая вражда! Сжимаются от ужаса барыньки в пролетке…
Вячеслав показал Федору и другой эскиз, карандашный, – «Победитель». Кончился бой, стоят разбитые баррикады, лежит, разметавшись на булыжной мостовой, рабочий парень… А над ним солдатик, из заморенных, забитая серая скотинка в пузырящейся шинели. Ванька – убийца из лапотной деревни. Победитель не испытывает радости, он только с тупым удивлением разглядывает поверженного врага – почему тот полез на рожон? Ему непонятно, ему недоступно – почему?..
Федор ушел от Вячеслава с ощущением – что-то копится в жизни. Если такие работы повесить на выставке, то открыточные холсты Ивана Мыша, помпезные портреты человека в сапогах и с трубкой придется поспешно снимать со стен. Что-то копится, когда-то прорвется… И он рано осудил Вячеслава.
Возвращался домой поздно, по сквозь запушенные инеем кусты светилось окошко – его ждали.
Тебе почти тридцать лет, половина жизни, считай, прожита, но только в далеком детстве ты имел дом, тебя ждали, за тебя волновались. Тридцать лет!.. Жил в землянках и окопах, потом временное пристанище – комната студенческого общежития, потом угол среди чужих людей… Пусть у тебя много верных товарищей, армия знакомых, по если нет дома, если нет окошка, светящегося обжитым теплом, за которым тебя с тревогой ждут родные, – все равно ты себя будешь чувствовать Робинзоном Крузо среди людей.
Теплится окно сквозь распушенные кусты, тебя ждут, не ложатся спать.
Его ждали, и не только Оля, не только ее мать. В комнате сидела гостья.
Она повернула голову, взглянула из-под приспущенных век:
– Здравствуй, Федя.
Нина Худякова в обтягивающем полнеющую талию платье, новая прическа – волосы накручены чалмой.
Федор перевел глаза на Олю. Она сейчас была очень похожа на свою – мать – то же замкнуто-суровое выражение, бледный лоб оттеняет брови, взгляд навстречу тягучий, вбирающий. Ольга Дмитриевна сидела с опущенными к столу глазами, по лицу ничего не прочтешь – холодно и спокойно.
У Нины вид, словно собралась на праздник – наряжалась, возилась с прической, пудрилась, охорашивалась, – а праздник вдруг отменили, хоть плачь, куда себя деть теперь?
Оля глядит по-чужому, испытующе, Ольга Дмитриевна прячет глаза.
Федор в растерянности переминался у порога.
– Вот решила навестить, – произнесла Нина виновато. – Как-никак институтский товарищ, шесть лет знакомы…
Но хитрость не удалась – товарищ, и только-то… Оля порозовела и отвела взгляд от Федора.
– Нина Николаевна нам весь вечер говорила о тебе, – сказала Оля в сторону. – О том, как ты удивлял всех талантом.
– Видела твою картину! – подхватила Нина. – Ты среди нас – великанище.
– Ну, спасибо, – выдавил из себя Федор.
Про себя подумал: «Время-то позднее, не останется же она здесь на ночь».
Оля решительно поднялась с места:
– Не станем вам мешать. Мама, пойдем.
Но Нина тоже встала:
– Нет, нет, уже поздно. Мне пора ехать.
– Я провожу тебя, – почти благодарно сказал Федор.
Обвеяв комнату волной духов, Нина с высоко поднятой головой, статная, медлительная, с опущенными долу ресницами поплыла в прихожую, обронив с достоинством:
– До свидания. Прошу извинить за беспокойство.
Они молча вышли за калитку. Горело окно сквозь снежный сад. И Нина, вздохнув, заговорила:
– Ко мне частенько на огонек заглядывает Авдиев… Ты его не знаешь?.. Он артист, в кино снимается, одевается сногсшибательно… – И вдруг привалилась к плечу Федора, всхлипнула: – Федя, я все вру… Всю жизнь вру сама себе… Федя, все ждала, что ты в дверь позвонишь…
А сбоку через пустой заснеженный сад, на пустую темную улицу светило окно…
Нина ткнулась Федору в плечо, он придерживал ее за плечи, не отстранял и не приближал к себе.
В сукно пальто, под воротник – глухой шепот:
– У меня ни матери… Да и отца тоже, считай, нет… Был ты один во всем свете…
Она не раз спасала его от невылазного одиночества когда в густонаселенном городе, на тесных улицах чувствуешь себя забытым всеми Робинзоном. Не раз, ощущая пустоту вокруг, он переступал ее порог. И кому, как не ему, понять – худо человеку быть едину.
Но из-за отяжелевших от выпавшего снега кустов светит зовуще окно…
Не пинай лежачего. Ты не способен на это.
Но в окне свет. Тебя ждут, быть может, нетерпеливее, чем всегда.
Отвернись, забудь про окно.
Забудь?.. А забыть нельзя, от него можно уйти, а помнить будешь – есть, горит, зовет.
Будешь помнить всю жизнь и проклинать того, кто оторвал тебя.
Нина уткнулась в плечо и плачет.
Минута доброты, а потом целая жизнь ненависти!
Руки Федора лежали на ее плечах, и Федор боялся погладить, боялся сказать ласковое слово, оно может быть принято за обещание. И светило окно, и корчилась душа от презрения к себе. Но чем помочь? Что он может?.. Только оскорбительно солгать, запутать себя и ее новой ложью.
Нина, так и не дождавшись ответа, вытирая слезы, безнадежно сказала:
– Надо идти.
И они пошли бок о бок, как часто ходили ночами по городу.
Показалась станция, Нина произнесла в темноту задумчиво:
– Неужели я такая плохая? Неужели меня нужно избегать?
– Ты чудесный, добрый человек. Всегда буду помнить тебя, – ответил Федор.
– Ох, не надо, – отмахнулась она.
И Федор снова замолчал.
Вышли под свет фонарей, поднялись на платформу, где мерзли редкие пассажиры, ожидающие позднюю электричку. При виде людей к Нине вернулись суетно-житейские заботы женщины.
– Погляди, – попросила она, поворачиваясь к Федору лицом. – Я слишком страшна? У меня не очень красные глаза?
Лицо ее было просто усталым, чуть бледным, расслабленным, после слез под глазами остались следы краски с ресниц.
– Ты никогда гае бываешь страшной, Нина, – сказал он, а сам похолодел от мысли: это лицо он видит в последний раз так близко. Знакомое, годами изученное лицо!
На секунду, только на секунду появилась крамольная мысль: а что, если не возвращаться туда?..
Но в глубине затканной снежком ночи прорвался свет – лобовой фонарь приближающейся электрички. Как отточенные ножи, блеснули рельсы и полились к платформе, подгоняемые стуком колес. Люди зашевелились, очнувшись от оцепенения.
– Прощай, Федя, – сказала Нина. – Хочу, чтоб у тебя все было хорошо. Честное слово…
– Спасибо, Нина.
Ее рука была теплой, какой-то бескостной.
Окно за кустами продолжало призывно светиться.
При виде Федора Ольга Дмитриевна поднялась из-за стола, сказала, как всегда:
– Спокойной ночи. Не засиживайтесь долго.
Ушла своей медлительной, негибкой походкой.
Оля сидела склонив голову, рассыпавшиеся волосы закрывали лицо…
– Садись, пей чай, – обронила в стол.
– Спасибо, я не хочу.
Помолчали.
– Оля…
И Оля вздрогнула:
– Не надо ни о чем говорить… Мне нужно… Нужно ко многому привыкнуть. Я боюсь, что ты перешагнешь через меня, как через эту женщину… Перешагнешь, а к тому времени я совсем…
– Оля!
– Не надо, Федя! Иди ложись спать. Так лучше.
Он постоял, помялся.
– Иди спать.
И он послушно ушел.
Долго горел огонь в старом доме, долго светило окно в пустой сад, на пустую улицу. Но и после того, как свет погас, в притихшем доме, хранившем под крышей незаконченную картину, еще долго не спали.
А утро началось со звонка в дверь:
– Примите телеграмму. Для Матёрина.
Закутанная по самые глаза платком почтальонша сунула под нос Федору книгу:
– Распишитесь.
Федор разорвал телеграмму. Оля, одетая в шубку, прошла мимо него на улицу. Она, как обычно, с электричкой в семь тридцать уезжала в институт.
– Что случилось? – спросила Ольга Дмитриевна.
Федор протянул ей телеграмму:
– Сегодня уезжаю.
Телеграмма была от отца:
«Умер Савва Кочнев приедешь сообщи задержим похороны Матёрин».
И Федор понял, какое лицо бывает у Ольги Дмитриевны, когда она узнает у себя в больнице о смерти безнадежно больного, – просто покорное.
– Деньги у вас есть? – спросила она.
– Да.
На эту поездку уйдут последние деньги, вернется обратно без копейки.
– Если задержитесь, сообщите непременно. Нельзя оставлять нас в неведении. Вы понимаете?..
– Понимаю, – ответил Федор.
22
Знакомая станция – хмурая, темная водокачка, позеленевший колокол у дверей на бревенчатой стене и толстый, старый, усталый начальник станции – он бессменен, как водокачка. Федор его еще помнит молодым, в его дочку был влюблен в школе.
Знакомая станция – ворота на родину.
Поезд стоит здесь всего пять минут.
Федор соскочил с подножки, оглянулся – может прийти встречать отец. Савва Ильич уже не прибежит, запыхавшийся и счастливый…
Но и отца не видно.
Прижимает мороз. Почему-то не торчат в окнах вагонов лица, почему-то почти все проводники вдруг исчезли с подножек, скрылись внутри, хотя двери открыты, сигнала к отправке нет.
А у станционного здания суматоха – хлопают двери, проскакивают раздетые люди. Какая-то буфетчица в несвежем белом халате, под халатом десяток одежек – оттого толста, как снежная баба, – бегает, хватается за голову, наскакивает на людей, кричит:
– Он умирает, а мы живы! Несправедливость, господи! Он умирает, а мы живы! – Наскочила на Федора, с красного, ошпаренного морозом лица глянули белесые в сумасшедшинке глаза, взмахнула короткими руками – взлетела бы, да слишком толста. – Он умирает, а мы живы! Что же это такое? Он умирает…
Федор даже не успел прийти в себя – шарахнулась в сторону. Что за чертовщина? Не Савва же Ильич поднял переполох?
А толстая буфетчица топала дальше, кидалась на людей:
– Мы живы, а он?.. Вы слышали: очень тяжелое!.. Мы живы, а он!..
Федор двинулся к начальнику станции. Тот стоял, держась за язык колокола, глядел мимо Федора, сумрачно опустив серые усы.
– Что стряслось? – спросил Федор.
– Сталин…
– Что с ним?
– Бюллетень только что передали – тяжелое состояние… Похоже, надежды нет.
Начальник станции ударил отправление.
– Вот ты где, а я в другом конце шарю.
Перед Федором стоял отец – под рыжей вытертой шапкой на кремневом лице скупая улыбочка, на щетинистых усах иней перепутался с сединой.
– Пошли. Дай ящичек-то понесу.
Сутуловатый, громоздкий, косолапо загребающий снег валенками – стареет, даже походка меняется.
– Это же несправедливо! Мы все живы-здоровы, а он…
Отец проворчал в усы:
– Что ж, всему миру в гроб ложиться, что ли?..
– Жизнь как-то повернется, – произнес Федор.
– На худшее-то не повернет.
– Вот в какой компании Савва Ильич уходит.
– Там-то можно и в такой. Это здесь почешешься… А Савва-то отошел, как и жил, даже бабка Марфида проглядела. За день до этого все тебя вспоминал.
Они шагали привычной дорогой, почти не изменившейся со времен детства: широкий большак, полузаметенная тропинка, осинник, березняк, поредевший ельник, крыши Матёры…
Ельник повырубили, а березы набрали силу.
Федор написал первый и последний портрет бывшего учителя рисования. Только теперь спохватился – как это не догадался написать его при жизни.
Федору принадлежало «наследство» Саввы Ильича – его пейзажи – березки-елочки. Долго рылся в них, вглядывался: вдруг да откроется, что покойный Савва Ильич был выдающимся примитивистом, со своим голосом, со своей манерой, – вологодский Пиросманишвили.
Но лист за листом, пейзажик за пейзажиком… «Я всю жизнь учусь у природы…» А все дилетанты мира вот также рисовали елочки да кустики, красили небеса разведенной в синеву водичкой. И только одна работа задержала взгляд Федора – портрет Ван-Гога, небритого мужичка, похожего на матёринского Опенкина, долгое время страдавшего язвой желудка. «Я учусь у природы!» А Ван-Гог – Опенкин срисован из книжки, и все-таки в него Савва Ильич внес свое – не фанатичный упрямец, а кроткий, безвольный человек. Среди других его работ – случайный шедевр. Федор сохранит его на всю жизнь.
Стоял крутой мороз, гулко стреляли деревья.
Вынесли гроб из избы, положили в розвальни на солому. К гробу подсадили закутанную в ветхий тулуп бабку Марфиду. Бабка не могла уже ходить – ползала, для нее даже покойный Савва Ильич был «сыночком». С другой стороны пристроили грубо отесанный крест.
Савва Ильич не верил в бога, наверняка не высказывал желания, чтоб над его могилой красовался крест. Но бабка Марфида со стоном и плачем вымолила:
– Не нехристь же он, тоже человек божий. Тише его на земле не было. Без креста, на погубление!.. Господи! Вот и я умру, меня тоже без креста!.. Кол вгонят, как бусурману. О господи!..
В деревне решили: крест так крест, почему не уважить старуху, да и крест-то привычнее. И Федор, слушая стопы бабки, не осмелился возразить: Савве Ильичу теперь все равно, а для Марфиды не просто огорчение – кощунство, издевательство, остаток дней проживет в ужасе, что и ее похоронят без креста на вечную муку. А дней-то ей осталось прожить не так уж и много, они и без того будут тяжки, зачем усугублять.
Федор делал вид, что не замечает креста. Он прихватил с собой палитру.
Лохматая лошаденка лениво выступала, низко навесив заиндевелую морду, сосредоточенно глядела в накатанную дорогу, словно шаг за шагом что-то искала – что-то безнадежно утерянное.
Возле саней с вожжами в руках шел паренек, четырнадцатилетий сын Опенкина, того самого, на которого смахивал Ван-Гог Саввы Ильича. За санями шагали трое: мать Федора, на время переставшая утирать красные глаза, но поминутно скорбно вздыхающая, отец Федора в своей вытертой рыжей шапке и Федор. Деревня Матёра была равнодушна к смерти человека, который был для нее всегда чужаком.
У обочины дороги стояла пятитонка с задранным капотом, двое парней на морозе копались в моторе. Они оторвались от работы, недоуменно повернули красные лица в сторону жалкой процессии. Федор услышал, как один сказал другому:
– Ну и ну, под сурдинку какой-то словчил.
Еще вчера разнеслась весть, которую тревожно ждали все, – умер Сталин. До Матёры еще не дошли газеты с траурной каймой. И этим парням, сторонним зрителям, в дни, когда все толкуют о смерти человека, вознесенного до уровня бога, похороны с сосновым гробом на старых розвальнях, с закоченевшей на холоде дряхлой старухой казались насмешкой, дерзкой карикатурой.
Скучный деревенский погост с торчащими из нетронутого снега покосившимися крестами. Летом здесь жестоко припекает солнце, зимой свирепо воют метели. Деревенский погост, убежище многих поколений землеробов. На окраине его – рыжее крошево мерзлой глины на белом снегу, веющая ледяным холодом яма.
Не было речей, не было даже произнесено – «прости». Только сползла с розвальней бабка Марфида, припала к доскам гроба, мать Федора смахивала слезы варежкой. Федор стянул шапку с головы, за ним отец обнажил седины, за отцом – шмыгающий простуженным носом парнишка Опенкин.
– Чего уж… Возьмемся помаленьку, – произнес отец.
Натянули шапки, взялись за веревки, потом за лопаты…
Бабка Марфида тихо скулила, сидя на снегу. Мать Федора старалась ее поднять…
Над ярко-рыжим холмом средь истоптанного снега встал крест, на котором химическим карандашом выведены скупые слова: Савва Ильич Кочнев, год рождения и год смерти.
Федор взял палитру, на ней осталась еще краска, замерзшая сейчас на морозе. Палитра, с которой Федор работал над картиной, работал он с нею и над единственным портретом Саввы Ильича – даже краска осталась.
Гвоздями накрепко прибил палитру к кресту. Надпись на кресте сообщит имя и фамилию человека, но она скоро смоется дождями. А палитра расскажет о том, что здесь похоронен художник. Неизвестный художник, достойный такого же почтения, как и неизвестный солдат.
Он не потряс мир шедеврами, его имя не вспомнят даже самые дотошные исследователи, и все-таки его жизнь не прошла бесследно: он повинен в том, что на свете появился еще один художник. Как знать, без него, наверно, топтал бы землю человек, быть может неплохой, быть может по-своему полезный людям, а все-таки без призвания. А великое дело открыть призвание – одним творцом на земле больше.
Низко плавало солнце в морозном предвечернем мареве. Его жидкие лучи обжигали щеки холодом. На свеже-выструганном кресте распята палитра, бабке Марфиде это ничего не говорит, а Федору напоминает – путь художника тернист.
Нет Саввы Ильича, есть он, Федор. И Федору не на что жаловаться – его ждет почти оконченная картина, ждет близкая победа, есть силы, несокрушимое здоровье, талант, есть преданность своему труду и, наверное, есть дерзость. Не на что жаловаться!
Но беспокоит мир, ни мало ни много, беспокоит судьба планеты. Лежат в хранилищах супербомбы, они могут вырваться из заточения, обрушиться на материки – огонь, пепел, разъедающая все живое зараза радиоактивности. Накалены страсти в мире. И умер вчера вождь, отец и учитель, гений человечества, светоч человечества, друг всех народов, создатель эпохи. И миллионы людей сейчас, в эту минуту, задают себе вопрос: что дальше?
Что дальше?.. Федору кажется, что мир похож на того молодого солдатика, который вглядывался в лысый склон, пропеченный солнцем. Тогда солдат победил смерть; он живет до сих пор, готов торжествовать новые победы.
Лошадь тронула с места сани. В молчания пошли обратно к деревне. Крест с палитрой остался за спиной.
А в Москве, в Колонном зале, среди венков и часовых, над сумрачным восковым лицом веяла траурная музыка. Люди вглядывались в будущее.
1964
Очерки
Плоть искусстваРазговор с читателем
Дорогой Читатель, выясним отношения. Вот уже много лет, как я занимаюсь странным, казалось бы, делом – пытаюсь заставить Тебя восхищаться тем, чем сам восхищаюсь, негодовать на то, что у меня вызывает негодование, горевать или радоваться, как сам горюю и радуюсь. Иногда это мне удается, иногда нет. Вместе со мной пытаются заставить Тебя радоваться, огорчаться, страдать другие прозаики и поэты, художники своими картинами, актеры своей игрой, музыканты-сочинители, музыканты-исполнители, то есть те, кто тем или иным способом служит искусству.
Что ж получается, мы вторгаемся в мир Твоих чувств, навязываем Тебе свое видение, посягаем на Твою самостоятельность. Можно подумать, мы отнимаем у Тебя возможность быть тем, кто Ты есть.
Но вот что странно. Ты, ценящий свою личную независимость, сам стремишься к тому, чтобы испытать радость, огорчение, которые в той или иной форме кто-то преподносит Тебе со стороны. Ты покупаешь книги, посещаешь картинные галереи, консерваторию, торчишь у театральных подъездов, с надеждой спрашивая: «Нет ли лишнего билетика?» Больше того, Ты благодарен тем, кто как-то меняет мир Твоих чувств: «Это мой любимый поэт». Любимый потому, что Ты наиболее сильно испытываешь на себе его влияние.
Возникает вопрос. Нужно ли навязывать чувства? Не лучше ли, если каждый будет чувствовать произвольно, как бог на душу положит?
Однако Тебе самому нередко случалось упрекать людей только за то, что они чувствуют не так, как нужно: «Он, мол, радуется чужому несчастью». То есть испытывает дурные чувства, значит, и сам этот человек дурной, опасен в общежитии.
Тебе известно, что бредовые идеи расового превосходства, проповедуемые Гитлером, вызвали в свое время в Германии общенациональный психоз – исступленный восторг, исступленное ненавистничество. И этот психоз придал силу нацизму, сыграл немалую роль в развязывании второй мировой войны, самой ожесточенной, самой кровавой из всех известных человечеству войн.
Еще в 1927 году Альберт Эйнштейн заметил, что безумства и страсти «руководят почти полностью судьбами человеческими как в малом, так и в большом».
И в малом, и в большом каждый из нас зависит от того, какие чувства испытывают окружающие нас люди. Ничто так не осложняет и не отравляет нашу жизнь, как несовместимость наших чувств. И наоборот, сходство испытываемых чувств помогает сближению, облегчает взаимопонимание.
И если я Тебя и еще кого-то сумел заставить страдать и радоваться тому, что у меня вызывает страдание и радость, не значит ли – мы в чем-то стали духовно близкими?
И так ли уж я заставляю Тебя? По своему ли произволу? А может, я сам от Тебя зависим?..
Если мы и дальше начнем выяснять наши отношения, то неизбежно упремся в тривиальный вопрос: «Что такое искусство?» Наверное, Тебе известно, что ясного и точного ответа тут нет. Слабые голоса миротворцев, выкрикивающие: «О вкусах не спорят!», безнадежно тонули и тонут в ожесточенных перепалках школ, группировок, фронтальных направлений, придерживающихся в искусстве разных взглядов, разных вкусов.
Вряд ли нам нужно вникать в эти споры, идущие на протяжении многих веков. Этому пришлось бы посвятить жизнь целиком, превратиться в ученых-искусствоведов. Попробуем посильно разобраться, исходя лишь из собственного опыта, я – из своего, Ты – из своего. Разберемся, что происходит между нами, как друг на друга влияем, а попутно постараемся уяснить свое представление об искусстве.