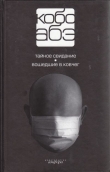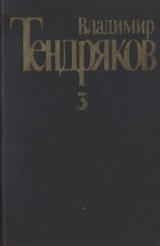
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
– Сашка! Друг! Брат по несчастью! Нас здесь обоих не признают! В-вы! Видите человека?! Экземпляр! Птица феникс! Не признают нас! Неси мою гитару: «С гитарой и шпагой я здесь под окном!» Сюрприз для новобрачных!.. Тиш-ша! Не шевелиться! Минута святого искусства, а дальше можете хлестать свою водку. Тиш-ша!
Лешка Лемеш с гитарой картинно приосанился на своем стуле. Рядом встал Сашка.
– Что вы ждете, драгоценные обыватели? Романсов? Надрыва? Слезы в пьяном угаре? Не ждите! Не будет романсов!.. Сашка! Народную! Из глуби, из сердца веков! «Лучинушку»!
Сашка посерьезнел, солидно откашлялся, наморщил голубовато-чистый лоб.
Лешка начал с той не открывающейся сразу, сбереженной в голосе болью, с какой начинают все истосковавшиеся по песне, ждущие от нее многого.
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит…
И Сашка подхватил. Его голос, более низкий, решительный, сразу стал в голову, заставил Лешкин тенор нежно и затейливо оплетаться вокруг.
Знать, мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит…
На склоненном Сашкином лбу страдальческие морщины. Из расплывшихся во всю роговицу глаз Лешки истекает черная тягучая тоска. Один – мальчишка, уже чуть тронутый порчей городской улицы, не очень искренний, навряд ли добрый от природы, другой – люмпен, накипь в людском обществе, пена, которую рано или поздно снимут и выплеснут. Оба выросли в этом тесном дворе, среди каменных домов, на асфальтовой почве. Но откуда у них волчья избяная тоска? Откуда им знать о долгих зимних, без просвета вечерах среди бревенчатых стен, похороненных в сугробах? Откуда им знать, как воет ветер и чадит лучина – единственный свет, единственный друг? Откуда знать им, когда сам Федор этого не пережил? Федор, родившийся в деревне, видел керосиновую лампу, но не застал светца.
Извела меня кручина,
Подколодная змея.
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобою я…
К Федору это могло прийти через бабок и дедов, через деревенские легенды, через те сугробы, которые и до сих пор наметаются под бревенчатые стены. А эти?.. Каким чудом неведающие говорят правду?
Мать жениха, горбоносая старуха, приоткрыла сморщенное веко, проглянул зеленый глаз, и нет в нем холодной трезвости – кисленькое бабье умиление.
И гордое, счастливое лицо Аллы, трепетно направленное к Лешке. Время от времени она оборачивается то к одному, то к другому, и ее большие, влажно-темные лучащиеся глаза опаляют по очереди вызывающим презрением: «Чего вы стоите по сравнению с ним? Чего вы все стоите?»
А Виктор горбатится за столом, давит кисти рук коленями, бледен, уничтожен.
Лешка замолк, тронул последний раз струны гитары – уплыл под тусклый потолок полустон, полувздох. Сашка распустил на лбу страдальческие морщины, и его бледная рожица с маслянисто прилизанными волосами стала скучной, невыразительной.
Все молчали, и, наверно, всем было грустно и приятно, но в то же время неловко – слишком непривычно, слишком красиво, чтобы это могло длиться долго.
Старуха гостья снова дремотно смежила веки, а ее сын-жених, выставив на груди бумажную розу, вздохнул льстиво:
– Да-а, талант.
И Лешка взвился:
– Заткни пасть! Лапоть!
– Лешенька! – качнулась к нему Алла.
– Чи-то он понимает? Навоз! Он должен молчать в тряпочку и не квакать!
– Я же говорил… – обиженно повернулся Миша к невесте.
– Чи-то ты говорил? Ты говорил, свечечка копеечная, что меня нельзя пускать… Куда? В это не-интел-ли-ген-т-ное общество. Уважаемые граждане, я ему сейчас попорчу прическу!
– Лешенька!
На воробьино-остром личике невесты – ни растерянности, ни испуга, лишь злоба.
– Ты ручалась за него. Ты же обещала, – выговаривала она смятенной Алле. – Нализался, скотина, а теперь хамит.
– Лешенька, пойдем, милый, отсюда.
– С-ска-атина? Счастье твое – я джентльмен… А ну ты, прилизанный! Ты! Женишок! Повтори, что сказала твоя невеста!.. A-а, ма-ал-чншь, кусошник!
– Лешенька!
– Заткнись! Сам уйду!.. Но прежде пусть мне скажут – талант я или нет? Пусть скажут, кто понимает… Эй, ты! – Лешка неожиданно повернулся к Федору. – Ты-то чего? А? Молчишь, холява! Ведь по морде видел – нравится. Слова жалеешь? Твое слово – олово?
– Дерьмо ты, – сказал Федор. – Испортил песню.
– Повтори. Я, кажется, ослышался.
Федор поднялся:
– Иди. А то в шею вышибу.
И Лешка отрезвел, с интересом колюче заглянул в зрачки Федору:
– Эге! Праведничек.
– Ну-ка, побыстрей проваливай.
Федор был на полголовы выше Лешки, шире в плечах, сейчас нависал и хмуро смотрел в переносицу. И Лешка вздохнул:
– Полюбуйтесь, люди добрые… Неученый. Научим, пташечка. Ты еще не знаешь Лешку Лемеша. Его весь Арбат знает.
Алла тащила его за рукав к двери. У дверей он оглянулся:
– Мимо наших ворот не пройдешь, козявка.
Мать жениха, приоткрыв круглый глаз, с мудрым равнодушием проводила пьяного Лешку. Дверь захлопнулась, глаз закрылся.
А Миша, оправив галстук, лацканы пиджака, словно и на самом деле только что был в драке, обронил веско и с достоинством:
– Гнида.
Из-за дверей с лестницы раздался женский вопль. Сашкой словно кто выстрелил за дверь.
Виктор поднялся, долговязый, нищенски праздничный – мятый пиджачок и яркий, сохранивший магазинный лоск галстук.
А женский крик бился в стену, вяз где-то на чердаке. И кругом в доме тихо. И на белых простынях под ярким освещением – грязные тарелки, полупустые бутылки, огрызки хлеба, развороченное месиво салата в миске.
Сашка влетел обратно, восторженно сообщил:
– Лемеш Алку бьет!
Виктор сорвался с места. Вера Гавриловна крикнула:
– Куда! С ума спятил!
Но дверь хлопнула, зазвенела посуда на столе. Крик смолк.
– Убьет он его, дурака. Убьет! – стонала Вера Гавриловна.
Федор поднялся из-за стола.
Тусклый лестничный свет, в рыжих пятнах оштукатуренная стена, холодная, как в подвале. К этой стене, припав растрепанными волосами, жмется Алла. Чуть ниже, на ступеньках, возня. Виктор внизу, лежит, сжимается в комок, закрывает лицо и голову руками, выставляет острые локти. А над ним на ступеньках, выплясывая, вскидывает начищенные туфли Лешка, целится в голову.
Федор схватил его за шиворот. Лешка был легок и тщедушен, лишь подергивал плечиками, пытаясь вырваться. Федор придавил его к стене, взял пятерней за голову:
– Расквашу.
– Пыс-сти, падло…
Сзади в плечи Федора когтисто вцепились маленькие руки:
– Отпусти! Отпусти его! Тебе что нужно?
Федор стряхнул руки, швырнул Лешку вниз. Загремели ступеньки, мелькнули подметки туфель.
– Дура, – сказал Федор Алле и стал поднимать Виктора.
Тот, встав на ноги, рванулся было вниз, к Лешке, но Федор обхватил его, прикрикнул на Аллу:
– Марш! Уводи своего хахаля! Да побыстрей!
Лешка долго ползал на коленях по площадке, искал кепку. Поднялся, взглянул вверх на Федора и Виктора, ничего не сказал, повернулся и стал спускаться. За ним боязливо следовала Алла, опираясь одной рукой о стену. Федор подтолкнул Виктора вверх:
– Иди, рыцарь!
В комнате Виктор, растерзанный, с заброшенным за спину галстуком, упал на постель, зарылся лицом в подушку и задергался в беззвучных рыданиях. Вера Гавриловна горестно ворчала:
– Теперь тебе проходу не будет… Хоть уезжай… Убить могут, чего доброго…
Она совсем забыла о Федоре, не вспомнила, что и ему не будет теперь прохода, его тоже, чего доброго, могут убить.
Мать жениха помогала невестке убирать со стола, каждую чашку подносила к глазам, осматривала изнутри и снаружи, поджимала многозначительно губы. У Ани было равнодушное, утомленное лицо.
Сашка смирнехонько лежал под одеялом.
А жених Миша, без пиджака, в ослепительно белой хрустящей сорочке, стоял перед зеркалом и, поворачиваясь, разглядывал придирчиво свою выбритую физиономию.
– Прохода не будет. Им что – могут и ножом… Виктор плакал.
6
Утром, выходя из ворот, Федор увидел Лешку. Тот пощипывал струны гитары, мусолил в зубах окурок:
А ты стоять буд-дишь
У ног пак-коиничка,
Платком батистовым
Слиезу смахнешь…
Рядом с ним маячил один из его пареньков, в крохотной кепчонке на макушке, с проклюнувшимся острым кадычком на тонкой шее, долговязый и жидкотелый. Оба оценивающе, сквозь табачный дымок, оглядели Федора, но не издали ни звука. Двое на одного – рискованно, может синяков наставить. Но уж вечером в этой подворотне собьется тесная компания, тут держись, станут храбрыми.
Ах, вспомнишь, вспомнишь,
Моя ты драгоцен-ная,
Дорожку узкую и финский нож…
Не верится сейчас, что когда-то были счастливейшие времена – в Москве находилась тесная студенческая комната, где стояла койка Федора. Вячеслав иногда по вечерам тоже снимал с гвоздя гитару, – тоже пел, но не про «покойничка», не про «финский нож»:
Как дело измены, как совесть тирана…
А Православный вопил о луковичных куполах, о мастерстве Андрея Рублева.
Считали Ивана Мыша подлецом, на котором негде пробы ставить. А Иван Мыш по сравнению с этим Лешкой Лемешем – воплощенное благородство, чистейшей совести человек.
Другие теперь живут в их комнате, товарищи утонули в многомиллионной Москве.
Вячеслав родился в сорочке: один московский художник, старый друг отца Вячеслава, разрешил пользоваться ему своей мастерской.
Вячеслав сейчас для Федора – единственная ниточка, связывающая его со счастливым студенческим прошлым. Порвись она, и будет бегать по Москве одинокий человек, все еще мечтающий выбиться в настоящие художники. О его успехах в институте некоторое время еще будут ходить легенды, потом забудутся, и никому в голову не придет спохватиться, куда пропал этот легендарный парень, написавший когда-то за один присест «Синюю девушку».
Пока жив Вячеслав, Федор не одинок и Москва не кажется чужбиной. В любое время можно ему позвонить, в любое время можно к нему прийти и отвести душу, вспомнить, что существуют на свете не только Лешки Лемеши, Веры Гавриловны, дворничихи, изрыгающие по вечерам к темным окнам проклятия «толстомясой разлучнице». Без Вячеслава Федор, пожалуй, стал бы дичать.
Во второй половине дня Федор направился к Вячеславу.
Запах масляной краски, въевшийся, неназойливый, давний, – запах повседневного благородного труда, о каком теперь мог только мечтать Федор.
Вячеслав, в легкой тенниске, в старых лыжных брюках, чуть похудевший, с обострившимся подбородком и запавшими глазами, но веселый, встретил Федора, хлопая по спине:
– Ты очень кстати завернул, бродяга. Угодил в самое яблочко! Будем считать – у меня праздник…
– Надеюсь, не свадьба. Я такими праздниками сыт.
– Ха! Личная жизнь отдана на откуп святому искусству. В последнее время я не позволял себе даже легоньких интрижек. Все силы на дело, и только на дело! И вот награда за благонравность: утром, Федька, я поставил подпись под картиной!.. Все! Точка! Я ее снял, чтоб не мозолила глаза.
– Картина?.. Окончена?.. Ну что ж, показывай.
Вячеслав поставил на середину стул.
– Первому зрителю и первому критику – трон с поклоном. Садись!
И сразу же бросился выдвигать мольберт.
Федор видел его работу лишь в самом начале, были намечены тогда фигуры, подмалеван фон.
– Я назвал ее: «Что о нас скажут люди?»
Среднего размера холст, почти квадратный. Берег реки, вдали белеет удаляющийся пароход. На пиджаке, брошенном на траву, сидит женщина, рядом мужчина. Оба не молоды и не красивы, потрепаны жизнью. У него тяжеловато-сильное лицо, лысеющая голова. Он смотрит на нее, и взгляд его сложен, в нем – суровая мужская требовательность и приглушенная робость, упрямство и загнанность. Рука женщины прижимает к губам скомканный платочек – пальцы рук очерствели от работы. Взгляд в землю, смятенный и в то же время сосредоточенный, безнадежный и чего-то ищущий.
Как поздно встретили они друг друга! Встретили и поняли – не могут жить порознь, пришла поздняя, слишком поздняя, быть может, первая и последняя любовь в их жизни. До этого каждый из них с кем-то встречался, ухаживал и выносил ухаживания, женился, рожал детей, честно заботился о них. И дети, наверное, ждут сейчас дома. А они здесь, в глухом углу, уединившись, решают – как им быть? Мужчина неуверенно требует ответа. Неуверенно! Женщина молчит, смотрит в землю. «Что о нас скажут люди?» Люди не только посторонние, без нужды суетные, но и те, кто близки, дороги… Что скажет мать одних детей, отец других? Что скажут сами дети?.. Мужчина ждет ответа. Ответа нет.
– Ну!.. – сглотнув воздух, выдавил Вячеслав. – Лупи не жалеючи.
– Обожди, Вече. Дай разжевать.
И Вече робко притих, переминаясь у холста.
У мужчины на холсте нетерпеливо-гневливый поворот, сведена в напряжении сильная шея. А женщина безвольно опустила плечо… В изгибе немолодого тела – бессилие, но на лице бессилия нет. Она умней нетерпеливого мужчины, лучше его осознает трагедию проклятого вопроса: «Что о нас скажут люди?» Люди срослись с тобой, их жизнь переплелась с твоей, любой разрыв – кровоточащая рана. И рана может быть смертельной… Мужчина ждет от нее ответа. Он в глубине души верит в ее мудрость.
Федор глядел и удивлялся – точно, тонко, вдумчиво. Но… Но чего-то ему недостает. Наметанным глазом, как опытный охотник на лесной поляне, где побывал зверь, по красноречивым, броским и едва уловимым приметам он прочитал историю, поверил ей, а поверив, проникся участием. История сама по себе и правдива и трогательна. Но чего-то еще не хватает для полноты… Он информирован – фигуры на холсте для него стали людьми с биографиями… Чего еще? Чего тебе мало?..
И Вячеслав снова не выдержал:
– Да ну же! Не томи…
– Хорошо, Вече.
– Без дураков?
– Без…
– Ну, гора с плеч.
– Я еще о ней буду думать. Может, и надумаю что-нибудь. Что-то хочется мне отыскать, что-то нужное, упущенное.
– Ну, а пока мне твоего «хорошо» хватит. – И Вячеслав вскинул к потолку кулаки: – Господи! Господи! Благослови всех, кто хвалит, сделай их самих счастливыми и удачливыми! Похвала – волшебство, понимаешь ли ты это, господи, захваленный старый дурак? От нее вырастают крылья, распухают мускулы Геркулеса! Я сейчас никого не боюсь, а минуту назад был мышонком, дрожал… Спасибо тебе, Федька, за твое «хорошо». Спасибо!.. Выпьем сейчас. Не за картину, не-ет, я становлюсь суеверным. Просто за встречу. У меня припрятана бутылочка коньячку – три звездочки, как на фронтовом погоне!
Стол был завален бумагами хозяина мастерской, бутылку поставили на стул, на палитре разрезали батон. Вячеслав отмыл стаканы от бурых осадков акварельной краски, на куске газеты распластались ломти ветчины. Вернулось доброе, не столь уж старое студенческое время.
– Ты Православного не встречал? – спросил Федор.
– Не подает голоса. Краем уха слышал, что рыбешек бросил, где-то пристроился писать медицинские плакаты: «Чистота – залог здоровья». Ну, а как ты живешь?..
– Лева Слободко что делает?
– Левка пишет философскую картину: «Бытие и сознание». Черная пирамида, из нее растут зеленые волосы. Черт знает что! «Бытие и сознание»… С сознанием у него всегда было неважно… Как ты сейчас?..
– С сознанием?.. А с бытием?.. Слышал – он женился.
– С бытием у Левки тоже плохо. Женился, как выстрелил. Жена уже, кажется, должна родить. А он, конечно, на правах гения презирает добычу хлеба насущного, изображает себе черные пирамиды в философском аспекте. Беременная жена кормит жреца чистого искусства на свою зарплату, а она, сам догадываешься, не министерская… Ну, ты о себе расскажи.
– А Мыш Без Мягкого?..
– А кто его знает – жив, по-прежнему распирает от здоровья, столкнулся как-то с ним нос к носу, полез, сукин сын, с ручкой… К лешему! Ты о себе докладывай: как жизнь?..
– Как жизнь?.. – переспросил Федор. – Нет ли у тебя, друг, ножа подлинней?
– Эва!.. Ножа нет, а веревку найду, если попросишь, и крюк укажу.
– Впрочем, нож – дело опасное. Лучше бы гирьку на веревочке.
– Ты со странностями, не замечал прежде.
– Приспосабливаюсь к обстановке.
– А именно?
– Чтоб войти в дом, я должен прорвать засаду – полдюжины отпетых сопляков. А они будут ждать меня у подворотни не с букетами мимоз.
В-он что!.. Я пойду с тобой.
– Нет.
– Почему?
– По двум причинам: вечным телохранителем тебя держать не могу, да и вряд ли сильно поможешь; кроме того, мне нужно доказать этим щенкам, что один не боюсь. Тогда станут пропускать с поклонами.
– Не хватает, чтоб тебя упрятали за уголовщину.
– Домой-то я должен попасть или нет?
– Но что же делать?
– Достать оружие – хулиганский кистень.
– В этом доме такую уникальную вещь не отыщешь… Хотя… Где-то я видел тут свинцовый слепок – эдакий компактный бюстик.
– И кусочек прочной веревки для него.
– Этого добра здесь больше чем нужно. Все-таки я за тебя побаиваюсь.
– Э, я стреляный воробей, не из таких переплетов сухим выходил. Пяток блатных подворотных дворняжек, одну щелкни, остальные хвосты подожмут. Давай свой бюстик!
Вячеслав стал хмуро рыться в шкафу.
– Вот… – сказал он, подавая игрушечный бюст, какие обычно украшали старые монументальные чернильные приборы. – Наполеон. Самая подходящая личность для агрессии… За что же они так недовольны тобой?
– Их сопливого атамана спустил с лестницы. Надеюсь, хозяин не обидится, если мы реквизируем это умеренное произведение искусства для надлежащего воспитания?
– Ты позвони мне завтра… А может, все-таки пойти с тобой?
– Нет, незачем. Нельзя подавать им повод, что боюсь, Тогда уж жизни не будет. Дай веревочку покрепче, накинем петлю на шею этому молодцу… Вот и добро… – Федор обмотал бечеву вокруг ладони, помахал свинцовым Наполеоном. – Так вот и живу.
– Ответ красноречив. – Вячеслав невесело глядел на раскачивающегося Наполеона, сразу превратившегося в скопление острых и тупых углов: острые – треуголка, тупые – у основания. – Ты все-таки поосторожней обращайся с этим произведением искусства.
– Постараюсь.
Федор простился.
7
Вечернее солнце висело над крышами. И, как всегда перед вечером, город охватило неистовое оживление: на тротуарах – базарная толчея, у троллейбусных остановок – длинные хвосты, машины у перекрестков напирают друг на друга.
Федор сначала поддался общему настроению, с ходу от подъезда рванул широким шагом и заспешил, заспешил… А спешить некуда, его не ждало дома ни интересное дело, ни заботливая жена, ни дети… Некуда спешить, нечего делать, единственное занятие впереди – завтра утром начнет расписывать витрину магазина, для того чтобы прожить послезавтра.
И Федора вдруг охватило тихое отчаяние, что это завтра наступит. Оно бессмысленно, оно не нужно. Отвратительна была и мысль, что придется идти домой, в тесную келью с продавленной узкой койкой, где из-за одной стены слышатся огорченные вздохи Веры Гавриловны, за другой, как мышь, шуршит Аня, начавшая сколачивать новую семью, а вечером, наверное, под окном будет вопить оскорбленная дворничиха.
Торопиться – куда, зачем?..
Перешел через улицу на бульвар. Здесь, под деревьями, не такая толчея, здесь играют ребятишки и сидят почтенные старички, отдыхают после многолетней спешки.
Федор отыскал кусок незанятой скамейки, с наслаждением вытянул ноги. А ведь есть счастье – не двигаться. Вот так бы уснуть тут и спать, спать, пропуская дни, проснуться в каком-либо счастливом сказочном времени ранним утром… Светлый город, каким помнится ему Москва в ту первую встречу ранней юности. Светлый город, воздушной легкости замки, люди в ярких одеждах, с прекрасными и добрыми лицами, люди, никогда не думавшие, как добыть кусок хлеба… Вот бы таким рассказать о войне, о трупах, о походах по грязи, о том, как, оборвав поход, посреди войны поет скрипка…
Вячеслав окончил картину, и он счастлив: «Благослови всех, кто хвалит, сделай их самыми счастливыми и удачливыми!» Завтра Федору расписывать окорока и колбасы, он будет добросовестен, он постарается сделать это со вкусом. Но вкус дирекции «Гастронома» и его вкус не сходятся – сколько придется выслушать глубокомысленных указаний… Как хорошо, если б завтра не наступило…
Федор сидел рядом с будкой театральной кассы. Стены ее обвешаны афишами: «Зеленая улица», футбол; «Торпедо» – «Локомотив», «Дядя Ваня»…
Как хорошо, если б завтра не наступило… А ему придется пережить точно такое послезавтра, за ним еще такой же день, еще, еще – без конца. И будут вздохи Веры Гавриловны за стеной, мышиное шуршание Ани сменится писком младенца, у подворотни будут торчать мальчики в «бобочках», а он сам не переставая станет гоняться за случайными заработками…
«Зеленая улица», «Торпедо» – «Локомотив», «Дядя Ваня»… Вячеслав окончил картину…
Тянуть жизнь, длинную, однообразную, никому не нужную, ненужную даже ему самому. Нет надежд, а без них жить бессмысленно.
«Торпедо» – «Локомотив», «Зеленая улица», «Дядя Ваня»… Некуда идти, неохота двигаться.
«Дядя Ваня»… Помнится, как он читал эту пьесу в окопе. Осыпался песок со стенок от взрывов, в воздух взлетали тетрадные листы, и катался по земле глобус с отбитой подставкой – макет планеты, голубой от океанов.
«Дядя Ваня» – книжка, брошенная на бруствер взрывом. И он тогда каждую секунду ждал смерти. И дядя Ваня из книги жаловался ему на то, что придется прожить еще целых тринадцать лет, что нечем наполнить их…
Федору хотелось тогда очень немногого – просто выжить, ходить по улице по-человечески, а не ползать на брюхе. Он тогда ел один раз в сутки, ночью, когда приезжала полевая кухня. Он не умывался и спал в окопе – взрывы снарядов не будили, а будил голос в телефонной трубке, вызывавший «Тополь». А дядя Ваня спал в чистой постели, ел на белых скатертях, дарил цветы. Федор хотел выжить, дядя Ваня просил смерти. Он тоже мечтал: «Проснуться бы в тихое, ясное утро…» И его не будил ухнувший тяжелый снаряд, не стучали автоматы спозаранку, он жил в деревне, ему кричали петухи, занималась заря, роса пригибала траву.
Сейчас Федора тоже никуда не тянет, ничего не хочется, только уснуть и проснуться «в тихое, ясное утро»… Дядя Ваня заразен, уж не стареет ли он, Федор?
По земле мимо его ног катится детский мяч… Мяч, а не продырявленной осколком голубой глобус. И пули не свистят, и он может подняться со скамейки, пойти не пригибаясь, во весь рост. Катится мяч, непробитый глобус, девочка подхватила его.
Вячеслав окончил картину. Федору завтра придется возиться с магазинной витриной… Но черт возьми! Жизнь не кончена. Пусть завтра потеряно – отдай его окорокам и колбасам. А мало ли он потерял дней, таская винтовку? Пусть будут еще потеряны дни, месяцы, пусть даже годы! На закате жизни он вцепится зубами в искусство! И что за беда, если картины Федора Матёрина не заполнят залы галерей, их будет немного, но одну-две настоящие картины он выдаст. Одну, две, может, десяток, но – настоящие. Грибоедов прославился одной вещью.
«Зеленая улица», «Торпедо» – «Локомотив», «Дядя Ваня»…
Федор поднялся. Как приятно чувствовать, что без боязни можешь распрямиться во весь рост! Война за спиной. А война посерьезнее огорченных вздохов Веры Гавриловны или Лешки Лемеша, сторожащего сейчас у подворотни.
Вече написал картину! И чего-то в ней не хватает. Пейзаж какой-то безликий, взятый напрокат. Но пейзаж не главное, пейзаж – фон…
Пейзаж – фон?..
Федора осенило.
В картине не хватает третьего действующего лица, главного персонажа. Есть две жертвы, но нет виновника. Сидит пара влюбленных, а саму Любовь приходится предполагать, брать на веру, как заранее доказанную аксиому, – не показано. А показать можно! Показать нужно! Тот, кто любит, глядит на мир особыми глазами – зелень для него ярче, солнце ослепительней, небо глубже, каждая молекула воздуха заражена тревогой и счастьем. Дай этот преувеличенно ощутимый мир, дай его в пейзаже, он не фон, он главный герой, покажи, ради чего – прекрасного, высокого – решают тяжелый вопрос: «Что о нас скажут люди?» Столкни поэзию с прозой, необычность – с будничностью, счастье бытия и угнетенные лица – вот великое единство противоположностей, без которых не существует жизнь.
Федор стоял на присыпанной песком дорожке, у его ног играли дети, сквозь деревья была видна залитая солнцем городская улица, спешили люди, тысячи людей, не похожие друг на друга, – они несут свои радости и свои несчастья. И есть какая-то досадная разобщенность в них, озабоченно бежит каждый своим путем, прохожий не обращает внимания на прохожего…
У Вячеслава – картина без главного героя, он, Федор, сумел бы написать его портрет – воздух, создающий глубину, опаляющая зелень, пойманные лучи солнца… Как он написал бы это… Но текут по улице люди – прохожий не замечает прохожего. Портрет, сотканный из прозрачного воздуха и лучей солнца, – достаточно ли?.. Хочется сказать людям что-то большое, особое, что заставило бы всех вздрогнуть, остановиться, с удивлением и добрым вниманием поглядеть друг на друга.
Что-то… С минуту назад казалось – ухватил, разгадал. И вот опять – что-то, опять загадка. Нет дна в искусстве. Что есть истина?
Федор размашисто зашагал к троллейбусной остановке. Он ожил, он не хочет походить на дядю Ваню!
Так и есть, как в воду глядел. Под аркой, загородив проход во двор, сгрудилась вся компания. Федор издалека пересчитал всех: восемь лбов, многовато – кепочки-«бобочки» натянуты на глаза, плечи расправлены, руки многозначительно сунуты в карманы. Лешка в центре, расставил ноги в отутюженных брючках, дымит заломленная папироса. Гитару, должно быть, оставил дома до времени, пока не придет пора славить свою победу.
Федор тоже сунул руку в карман, нащупал угловатый бюстик Наполеона, намотал на ладонь конец веревки, не спеша, вразвалочку, двинулся на Лешку. Пять шагов, четыре шага, три… Заломленная папироса, прищуренные глаза…
Федор бросился. Мальчишка, сунувшийся между ним и Лешкой, отлетел в сторону. Лешка с силой ударился спиной и затылком о стену проезда. Левая рука Федора схватила его за горло, мальчишески нежное, податливое. На крученой бечеве закачался, разворачиваясь, настороженно топорща острые углы треуголки, свинцовый Наполеон.
– Кто сунется – уложу! – предупредил Федор. – Ну, ты, щенок! Назад!
И паренек с крысиной веснушчатой физиономией нехотя отступил.
– А теперь слушай, – обратился Федор к Лешке. – Да руками не дергай, сопля! Пока ты перышко вытащишь из кармана – зоб вырву. И легко… Ты чуешь?.. – Стиснул легонько мягкую шею, глаза Лешки выкатились. – Слушай… Ежели твои мальчики хоть раз встанут на дороге – я изувечу тебя! Ежели хоть один из них пальцем тронет Виктора – я изувечу тебя! Только тебя, вошь! А ежели будете особенно надоедать – слышишь ты, кусок дерьма? – убью! Не таким, как ты, загривки ломал. Заруби себе на носу, я – фронтовик.
Мальчики стояли в стороне, держали руки в карманах, сердито топорщащийся Наполеон на веревочке вызывал у них уважение.
– Ты слышал?
– Пыс-сти, – прохрипел Лешка.
– Повтори, – Федор сильней сдавил шею.
Лешка захрипел, округлившиеся глаза лезли из глазниц.
– Ну?
– Чего л-ле…
– Ну?
– Н-не трогали же…
– Повтори, сукин сын, что я сказал!
– Не тронем… Ладно…
– Да ну, вот спасибо, одолжил.
– Ви… Виктора не… не тронем.
– Уже кое-что. А сейчас вынь правую руку. Давай, давай!.. Э-э, нет, не пустую. Вынь, что держал… Да быстро, сволочь! Задушу! – Лешкины глаза вот-вот брызнут на мостовую. – Вот так-то, малыш.
Федор отпустил Лешкино горло, отобрал финку, повертел ею перед его носом:
– На память возьму. Сам, наверное, точил, знаешь, какая она… А теперь держите своего героя, с ног валится, и штаны, должно, мокрые.
Он толкнул Лешку в кучу, пошел, не оборачиваясь, к подъезду, покачивая свинцовым Наполеоном.
На лестнице открутил веревку с ладони, сунул Наполеона в карман вместе с финкой. Если б так быстро можно было решать все осложнения в жизни!..
Вера Гавриловна шепотом сказала у дверей!
– У вас гость. Час, как ждет.
При появлении Федора у человека, сидящего в его комнате, соскользнула с колен рука, деревянно стукнула о стул. Он встал, и на фоне окна обрисовались косо поставленные плечи, одно выше другого.
– Валентин Вениаминович!
– Здравствуй, дружок.
Светло-бежевый отутюженный костюм, светлая шляпа на эскизе витрины, седые виски, ввалившиеся щеки, хрящеватый нос, теплящаяся улыбка в черных, узко посаженных глазах.
– Никак не ждал, конечно?
– Никак.
– Сядем. Есть разговор.
Уселся поудобнее на стуле, вытянул во всю комнату длинные ноги, закурил, пытливо поглядывая на Федора.
– Чем живешь? Начнем с этого.
– Коллекционирую произведения искусств.
– Гм… И где они?
– Ношу в кармане. Вот, например.
Федор вынул свинцового Наполеона, поставил на стол.
– А почему надета петля на шею этого произведения?
– Для удобства. Талисман. Ношу для счастья, на груди, ближе к сердцу.
– И как? Помогает?
– Помогло.
– А это что? – Валентин Вениаминович указал на лист ватмана под своей шляпой.
– Олицетворение изобилия, которое я должен осветить в витрине одного почтенного «Гастронома».
– Ясно. А не согласишься ли принять заказ на картину?
– Заказ? На картину?..
– Ну, ну, восторг преждевременен. Вряд ли эта картина сулит большие творческие наслаждения. Будем рассматривать ее как приличный заработок.
– Но все-таки картина!
– Да, все-таки картина, а не черная поденщина.
– Спасибо. Я даже не верю, почему мне?..
– Почему? – У Валентина Вениаминовича появилось на лице упрямое и жесткое выражение, в глазах пропала улыбка. – Не считай меня благотворителем, я просто пытаюсь спасти свой труд. Да, свой, кровный, если хочешь высоких слов, – выстраданный. Я встречаю в жизни какого-то зеленого юнца, неотесанную деревенщину, который если и успел узнать что-нибудь в жизни, то только то, как прикладывать автомат к плечу, как зарываться носом в землю от снарядов. Я его пять с лишним лет учу, я с замиранием сердца день ото дня стою за его спиной. Учти – с замиранием, так как ставлю большую ставку – кусок своей жизни. Выйдет он к финишу, завоюет он лавры – я выиграл. Он может это и не замечать, он может самодовольно думать, что этот долговязый, с консервативными взглядами педант-наставник ни при чем, все успехи идут от бога. Но и благословенного богом скакуна можно выездить так, что его будут обгонять клячи. Вы все не замечали мою узду. Я ставлю это себе в заслугу… И вот приходит время, когда я начинаю верить – не подведет, выиграет. Но как раз в это-то время он уходит из моих рук, попадает в стойло, где у него вянут мускулы, скисает душа. И опять я в проигрыше! Кусок моей жизни, крупная ставка – нет, не хочу выбрасывать на ветер. Не благотворительность. Ты понимаешь это?
– Понимаю, – сказал Федор. – Но все равно спасибо. Где ваш заказ?
Валентин Вениаминович придвинул к руке Федора листок, вырванный из записной книжки:
– Вот адрес. Это одна из новых гостиниц. Спроси Николая Филипповича, назови свою фамилию. Она ему уже известна от меня и апробирована лицом более авторитетным, чем я.
– Завтра я встречусь, – сказал Федор, забирая адрес.
– Еще раз предупреждаю – вряд ли заказ полностью придется тебе по вкусу.