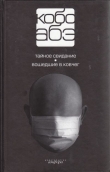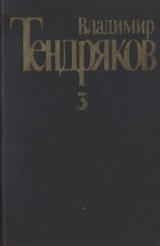
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц)
Два берега соединяет тонкая нитка, по нитке гуляет паром. Сверху он кажется крохотным – накроешь ладонями. И не верится, что это к нему свалились полчища изнеможенных людей, стада машин, вереницы обозов… Перевезти буйное скопище таким крохотным паромом, кажется, все равно что вычерпать Тихий Дон ложкой, вынутой из-за голенища.
Течет Тихий Дон. Тихий Дон привык ко всякому.
Два могучих грузовика столкнулись на крутом склоне, измяли друг другу крылья, выбили фары, но спор не решили. Два капитана, наливаясь багровой кровью, хватают друг друга за грудки.
Застрял среди брошенных повозок санитарный фургон, возле него мечется растерзанная женщина в белом халате, уцепилась за рукав какого-то майора:
– У меня раненые! Поймите – раненые…
Майор дергает свой рукав, отводит глаза в сторону.
Увяз среди дышел и лошадиных крупов грузный танк. Вид у него конфузливый – люки открыты, башня повернута, пушка застенчиво глядит в сторону от реки. Танк брошен, как брошен сваленный на кучу патронных ящиков мотоцикл, как брошена переносная радиостанция 6-ПК – о нее споткнулся Федор.
Куда ни глянь, торчат стволы пушек. Сперва Федор кидался к каждому задранному пламегасителю – а вдруг свои! Нет! Сумели ли добраться или побиты по дороге? Что делать, к кому прилепиться? Один…
Среди солдатских выгоревших гимнастерок – диагоналевые сочно-зеленые гимнастерки комсостава. Для Федора командир дивизиона Голованов был богом, а он – всего-навсего капитан, одна «шпала» на петлице. А тут по четыре «шпалы» – полковники, перед такими капитан Голованов тянется в струнку. Выбрал одного полковника: рослый, плечистый, крупная седая голова, а главное – петлицы артиллериста. Бросился к нему, издалека вздернув ладонь к каске:
– Товарищ полковник, разрешите обратиться!..
И осекся… Полковник-то полковник, но не по форме – без пояса, травянисто-зеленая гимнастерка, распояской. Хотел осведомиться – не знает ли он, этот высокий артиллерийский полковник, где должен сейчас находиться 131-й артдивизион?.. Полковник скользнул по Федору невидящим, тоскующим взглядом, пожевал губами – и губы у него стариковские, мятые, запавшие, и в угасшем лице покорная усталость. Пояс с пистолетом бросил.
Ни налезающие друг на друга машины, ни несчастная женщина в белом халате, умоляющая: «У меня раненые!» – ничто не испугало так, как этот полковник распояской. Омертвело в груди: «Выкручивайся, Федька, как знаешь».
Подчалил паром, и Федор ринулся к нему.
А у парома – баталия. По сходням заводят пушки – нет, не их дивизиона – тяжелые гаубицы. Сходни под ними гнутся. А со всех сторон тычется бескомандная пехота, толкаются мешками, цепляются штыками. Дюжие бойцы из команды, следящей за порядком, поставили заслон – плечо к плечу; тех, кто выскакивает вперед, бьют прикладами – осади. Сходни неприступны.
Лезут прямо по воде, на высокий борт. На борту выплясывает молодой лейтенант, трясет остервенело над фуражкой пистолетом, в крике распахнут рот, а голоса не слышно, хромовым сапогом бьет наотмашь по лицам: раз! раз! Люди падают в воду, не ругаются, не угрожают, только утираются и опять лезут, отталкивая друг друга. А лейтенант беззвучно вопит – раз, раз, хромовым сапогом по лицам. Головы исчезают и вновь вырастают над бортом, кто-то пытается уцепиться за хромовый сапог. Лейтенант оскалился, пистолет в его руках дернулся раз, другой – выстрел, выстрел, в упор в глаза! Падают мешками, падают и уже не подымаются. Остальные шарахнулись, спотыкаясь, рвут с плеч винтовки, выпутываются из автоматов. Винтовочные сухие хлопки, коротко рявкнувшая автоматная очередь, и лейтенант, косо взглянув сникшим лицом в мутную прибрежную воду, медленно, медленно стал падать.
Федор отвернулся.
Прославленный Дон-батюшка, он казался не таким уж широким. Федор плавал неплохо.
К берегу прибило узкую садовую дверь – не плот, самого не выдержит, – но можно привязать одежду и карабин. Главное – карабин, личное оружие, номер которого записан в красноармейскую книжку. Гимнастерку и брюки вниз, карабин, обернутый в белье, на них. Все это обмотал лямками от мешка, сквозь ткань мешка выпирает котелок – тоже вещь, не след расставаться, – сверху сапоги и каску. Ну вот, судно готово к плаванью.
Комсомольский билет… Получал еще в школе, фотография мутноватая – чуб да глаза. Комсомольский билет вложил в красноармейскую книжку, все это засунул в пилотку, натянул пилотку потуже на голову, тряхнул – крепко сидит; если утеряет, то вместе с головой, живым без комсомольского билета на тот берег не вылезет. Вот готов и сам.
Оглянулся на забитый, перемешанный, гудящий берег, проводил завистливыми глазами, казалось, застывший на середине реки паром… Возле парома вырос ватнисто-белый столб воды – мимо, пока целы гаубицы.
– Давай, Федька, отчаливаем.
Вода сначала показалась ледяной, мало-помалу обвык.
Тихий Дон. Не такой уж тихий. Ветра нет, а поплескивает волна. Первая же смыла каску. Каска перевернулась и важно поплыла. А сапоги сразу пошли ко дну. Без сапог явится к начальству – хорош боец. Но уж если полковники щеголяют без пояса, то, поди, можно и без сапог…
Только бы не потопить карабин – личное оружие, рукою старшины Родина вручала, расписывался за получение, выслушивал наставления – хранить как зеницу ока.
И голову надо держать выше – замочит пилотку, в ней комсомольский билет. Время от времени трогал рукой голову – цел ли? Цел, цел билет! Только вместе с головой…
Греб, экономил силы, но начал уставать. Тот, вожделенный – узенькая зеленая полоса – берег за рыжей волной не приближался. Несло в сторону.
Тихий Дон, отсюда не слышно ни шума, ни суеты на берегу. Тихий Дон, по нему прокатываются взрывы. Бьет дальнобойными, сволочь. Доплыл ли паром, целы ли гаубицы?.. Не видно, да и нет сил подвыкинуть себя над водой, оглянуться.
Тихий Дон, и между взрывами издалека отчаянный вопль:
– Спа-а-си-и-и!..
Какой-то бедняга, одиночка, вроде Федора.
И ломит плечи, ломит шею, спирает дыхание, отваливаются руки. Не забывай – голову надо держать высоко, промокнет комсомольский билет. На плоту все насквозь промокло, сквозь мокрую ткань мешка проступает котелок. А карабин цел, надежно привязан… Ломит плечи…
– Спа-а-си-и!.. То-ону-у!
Кто тебя спасет?
Ломит плечи, немеют руки… Федор подталкивает плот, пробивается поперек течения. А тот берег словно ползет назад…
Прокатился над водой новый взрыв и… тишина. Чего-то не хватает. Чего? Ах да, крика «спасите». Кого-то не стало в эту минуту, кто-то перестал видеть солнышко. По Тихому Дону поплывет еще один труп.
Тот берег не приближается. Так же узка и невзрачна полоска зелени, перебиваемая волной. А сил больше нет, плечи чугунные, тянут вниз, а течение несет в сторону, в сторону…
– Спаси-и-и-и!..
Новый… У этого бас…
Не хотел, а вышло само собой – оперся на плот, конец легкой дверки сразу же погрузился. И охватил испуг: карабин может выскользнуть из-под лямок! Карабин пойдет на дно, останется котелок. Вояка с котелком… Волна бьет в лицо, маленькая волна, но и ее хватает, чтобы выбить остатки сил. Плечи чугунные, не удержишь… И вода смыкается у глаз, сквозь воду – зеленоватое, жидко плещущее солнце…
В голове мелькает покорная мысль: «Конец… Подмокнет комсомольский билет…»
Но нет, не конец. Снова солнце, снова волны, снова мокрый край плота. И карабин цел… И берег, тотберег, словно ближе немного. Но как до него бесконечно далеко. Нет сил…
– Спас-с-с!.. – голос со стороны.
Ты жив, бас?
– Спа-аси-те! То-ону-у! – голос со стороны, голос смертника.
Только не кричать, крик – это смерть, все силы уйдут на крик. Только не кричать! Кто к тебе бросится?..
Но и без крика умрешь – берег далеко.
Умереть в воде, не от пули. Как глупо! Не лучше ли было остаться, встретить немцев с карабином в руках?
Хоть одного, да убить… В карабине – полная обойма, четыре патрона на них, один на себя. Так все делают, он читал не раз.
Четыре патрона на них, один на себя – и выкрикнуть перед смертью: «Да здравствует Родина! Да здравствует Сталин!» А комсомольский билет?.. Цел.
Оглянулся назад – дыбится высокий берег, можно различить суетящихся людей, машины, уцелевшую мазанку на гребне. Какое сравнение – до тогоберега куда дальше.
Надо повернуть. Умирать, так на земле.
Подталкивая плот, Федор поплыл назад.
Над Тихим Доном не раздавалось криков.
Он вытолкнул плот на галечный берег, выползти из воды не смог – упал рядом с плотом. Била крупная, редкая дрожь. Тело как кисель, лежал, раздавленный собственной тяжестью, жадно, со стоном дышал, сотрясались плечи, дергались спущенные в воду ноги, лязгали зубы. Не верилось, что плыл, шевелил руками и ногами.
Карабин цел… Насилуя себя, с мучением пошевелил рукой, тронул мокрую пилотку – цел и комсомольский билет.
Грело солнце и не могло прогреть промерзшее тело. В самых внутренностях угнездился донный глубинный холод. Лежал, дышал, не пытаясь остановить конвульсивную дрожь.
Сначала перестали дергаться ноги, тело уже не казалось плоским, раздавленным, и зубы не лязгали. Приподнялся на ослабевших руках, удивился – держат, не подламываются. Тогда вылез совсем из воды, сел, огляделся.
Его снесло от переправы на километр, не меньше. Но и здесь стояли брошенные повозки, вдоль берега были покиданы шинели, каски, плащ-палатки, маск-халаты. Какой-то аккуратист на пригретой гальке сложил, как на тумбочке в казарме, гимнастерку, брюки, белье, хоть и грязное, но конвертиком, рядом пояс, обмотки, ботинки. Все есть, нет только самого хозяина, а так бы – по команде: «Тревога!» – пять минут, и на ногах. Приплескивающая прибрежная волна не оставила его следов. Не он ли кричал басом: «Спасите!» Не его ли несет сейчас Тихий Дон к Азовскому морю?
Среди раскиданных шинелей, плащ-палаток, противогазных сумок мирно паслись распряженные лошади. А вдали судорожно жила переправа.
Федор вынул из пилотки комсомольский билет в красноармейской книжке, разложил на камнях, на солнцепеке – пусть подсохнут. Сушить одежду не стал – зачем?
Одеждой аккуратиста-несчастливца он побрезговал, зато у первой же повозки нашел все, что нужно. Не нашел только сапог, пришлось влезть в ботинки, но ботинки подыскал добротные, желтой кожи, ремень комсоставский, белье шелковое, чистое. Подыскал и новую шинель, она была из тонкого сукна, длинная, в кармане оказались белые лосевые перчатки. Попалась каска, не обычная, а с гребешком. В таких касках – видел на фотографиях в журналах – в мирное время маршировали войска на Красной площади. Каску тоже водрузил на себя – своя-то уплыла.
Взял в руки карабин, взял с гордостью – все-таки спас, не обронил на дно. Попробовал затвор – не открывается, – заело, – должно быть, попал песок. Вот и встречай с таким оружием немца.
У самого берега куча – винтовки со штыками и без штыков, винтовки самозарядные, ручные пулеметы. Сверху точно такой, как у Федора, короткоствольный карабин. Но у Федора на карабине – грубый брезентовый ремень нелепого портяночного цвета. У брошенного же карабина – ремешок узкий, прошитый кожей; быть может, от этого и сам карабин казался красивее – изящней линия приклада, гуще вороненость на казеннике. Федор попробовал затвор – смазан, легко ходит, повертел в руках, отыскивая изъяны, и не нашел, повесил на плечо, – вот это другое дело, теперь можно и встретиться: «Четыре патрона по ним, один для себя…»
А собственный карабин, спасенный с таким трудом, остался в куче брошенного оружия. Четыре патрона на них, один на себя. Захотелось вдруг жить…
Для полной экипировки не хватало обмоток, из-под брюк на желтые добротные ботинки свисали завязки кальсон. Но обмоток Федор так и не успел намотать.
С переправы донесся знакомый тягуче-утробный вой. Над кишащим человеческим муравейником разворачивались самолеты. Один из них уже покато падал вниз. По речной глади разносился стонущий, с металлическим звоном натянутой струны вой. Зябко встряхнулась под ногами нагретая галечная россыпь, плеснуло в лицо тугим воздухом. И было видно, как мечутся стиснутые берегом и водой люди и в небо, лениво, с бескостной ломотцой, расправляясь, ширясь, полз ядовито-черный дым. И в этот дым снова и снова ныряли хищные машины, и возносился надсадно вопящий рев, и поеживался осыпанный галькой берег.
По самому гребню обрыва, на фоне поднявшегося на дыбы дыма, с воплем бежали застигнутые войной женщины – волосы раскосмачены, белые кофты изодраны. А на переправе, кроме тяжелой тучи, ничего не было видно.
Как ни странно, но казалось, что на переправе почти ничего не изменилось. Так же рычали, наползая друг на друга, машины, так же метались люди, потрясали кулаками, ругались, отстаивая свои права в очереди к жалкому причалу! Как и прежде, качался канат над водой и где-то шел паром…
Только рыдающе ржала раненая лошадь. Ее животные рыдания не мог заглушить гомон переправы, рев перегретых моторов. Да еще у самой воды рядами стояли носилки, в них лежали люди, с головой укрытые шинелями, из-под одной шинели вместо ног высовывались два неперебинтованных, уже не кровоточащих, нежно-розовых обрубка. Лошадь ржала, животное негодовало, а люди на носилках переносили мучения молча.
Где-то далеко за полночь Федор очутился у борта парома. Впереди него, подтянувшись на руках, влез здоровенный солдат. Влез, сел на корточки, начал оглядываться – не попрут ли обратно.
Федор позавидовал: «Мне не подтянуться». После плавания он чувствовал слабость во всем теле.
– Ты куда выпер, ловкач? А ну, назад! – прикрикнул Федор снизу, стараясь так, чтоб голос звучал побасистей.
– Да тебе чего?.. Да разве жалко?
– Черт с тобой! Сиди уж… А ну, дай руку!
Парень с благодарностью вытянул его, как котенка.
Занималось нежное утро, вода Дона румянилась вместе с небом.
В набитом без продыха пароме велись вполголоса «утешающие» разговоры:
– В полдень канат перерубило…
– Канат что, а вот тут в корму засадил фугасным, семерых уложил.
– Как прет, сволочь… Как прет!
Солдатик с усохшим лицом, острые колени сжимают длинную винтовку, влажными глазами озирается кругом, ловит взгляды.
– Как прет… Силища!
И ему хочется, чтобы возразили, презрительно обругали, пусть даже сунули в шею. Злую ругань ждет и Федор – она успокоила бы. Но все угрюмо замолкают. Трется канат о бревно, въедается в дерево, нежно поплескивает за бортом ясная водица.
Грудастый, сыто-красивый старшина в комсоставской мятой гимнастерке, тряхнув тяжелой головой, роняет:
– А если и за Волгу так?..
К нему дернулся костлявый солдат, упрятанный в тесную шинелишку:
– Что – за Волгу?
– А то, что лопнем… «На заранее подготовленные позиции»… Украина, Белоруссия, Россия до Москвы – подготовленные позиции. Только для кого? Для него! И Урал подготовим… «Широка страна моя родная», но и ей конец есть…
Голос грудастого взвинченный, тонкий, с петушиными выплесками. Шуршит канат, вгрызающийся в разлохмаченное дерево, пошептывает вода… И Федор в эту секунду почувствовал, как внутри проливается ужас, леденит сердце: «Широка страна… Широка, но становится меньше». Почувствовал, не успел подумать. Взвилась длинная фигура, костлявый солдат прирос к старшине, схватил его за горло:
– Г-гад! Кур-ва!
И паром заколыхался от бешеных выкриков:
– Запел!
– Вырви ему зоб!
– Пустите меня! Я вкачу!
– За борт, сволочь!
– В воду!
И Федор, не помня себя, спасаясь от леденящего нутряного ужаса, сам кричал:
– В воду!
Старшина упал, на него навалились. Тесная толкотня пропотелых гимнастерок, короткие возгласы:
– Перехвати.
– Брыкается.
– Дай приму.
– Врешь, стерва, не выскользнешь!
Куча копошащихся тел докатилась до борта. Всплеск… И шуршит канат. Солдаты отворачиваются, хмуро оправляют гимнастерки, усаживаются в прежней тесноте. Чей-то голос, заискивающий, неискренне бодрый, произносит:
– Собаке – собачья смерть.
Ему никто не ответил.
В стороне раздалось знакомое:
– Спас-с-с!..
Смолкло. Шуршит канат. Съежился солдатик с усохшим, морщинистым лицом, обнимает винтовку, боится, что вспомнят о нем…
А Федора охватывает невыносимо щемящий – хоть кричи – стыд. Он вместе со всеми вопил: «В воду!» За борт свое бессилие, свой ужас! А за бортом оказался человек, ужас остался, он плывет на пароме, все сидят, придавленные им. И все, наверно, думают об одном: близко Волга, так близко, что на машине к ее берегам можно подкатить к обеду.
Обнимает солдатик винтовку, напуган за свою маленькую жизнь. А что жизнь?.. Близко Волга, так близко, что вдруг да… Чужие солдаты растекутся по всей стране, не минуют тогда и Матёры. Что одна жизнь, хотя бы его, Федора?.. Он раньше считал – нет ничего дороже. Жизнь – это весь мир. Сменял бы ее сейчас не за мир, а за несколько десятков километров степи, что лежит между Доном и Волгой, степи прожженной, пыльной, полынной, нисколько не похожей на мягкие и сочные луга близ деревни Матёры. Как отдать себя за нее? Как? Кто подскажет? Все кругом сидят и молчат, всем стыдно, что бросили человека, такого же, как они, быть может, только сильнее напуганного. Как? Никто не знает. Как?! Молчат… А многие бы предложили: «Бери жизнь, сбереги степь». За степью Волга, за Волгой Урал, у широкой страны есть конец… Больно!..
Кто подскажет? Молчание. Тихие всплески воды…
Брызнуло солнце, когда паром уткнулся в дно, не доходя до берега. Стадно, с толчеей посыпались прямо в воду.
Костлявый солдат в куцей шинелишке, стоя по колено в воде, повернул назад жестковато-ястребиное лицо, погрозил вдаль черным кулаком, матерно выругался.
Федор тоже оглянулся на краснеющий в первых лучах солнца глинистыми оползнями берег: чей он – еще не немцев, но уже и не наш. «На этот раз ушел, там встретимся – посмотрим».
В стороне мелькнула кургузая, озабоченная фигурка, круглая, скуластая рожа.
– Мишка! Котелок!
Оба рванулись друг другу навстречу, обнялись.
Кто-то сочувственно высказал догадку:
– Братья, должно.
14
Среди степи, в плоской прокаленной выемке, расположились огневики без орудий, ездовые без лошадей, повозочные без повозок. Многие не только без оружия, не только без скаток, касок, но и без гимнастерок. У одного на голые плечи наброшен кусок плащ-палатки, другой щеголяет в вышитой петухами поношенной косоворотке – в хуторе по пути обмундировался, третий – бос. Вольница, но не воинственная, беженцы, но никуда не спешащие. Федор средь них – в каске с гребешком, без обмоток, с торчащими из-под штанов грязными завязками кальсон – выглядит щеголем.
Вершит делами дивизиона политрук Сергеев. Этот человек с пышными плечами и широким бабьим тазом до сих пор был неприметен. Он не появлялся на марше среди колонн, не командовал на огневой во время боя, не сидел на наблюдательном пункте. Все знали комиссара дивизиона и капитана Голованова, похожих друг на друга, в солдатских касках, с автоматами, крепко сбитых, грубоватых, напористо деятельных. От них бегали связные, от них летели приказы, их требовало командование к телефону, к ним обращались за помощью. Комиссара убило шальной пулей, капитан Голованов растерял пушки, часть в боях, часть по дороге к переправе, последние – у самой переправы под бомбежкой: выбило всех лошадей. И все это время никто не знал – жив политрук Сергеев или он остался лежать после очередного налета в придорожном кювете, как остались лежать многие.
Оказалось – жив, не ранен, с грехом пополам, как все, переправился и на этом берегу должен заменить погибшего комиссара.
Капитан Голованов, прежде лишь мимоходом замечавший его, сейчас сидел в стороне, натянув на лоб пилотку, праздно глядя в землю. Его часть отступила, опрокинутые взрывами пушки валяются по степным дорогам среди трупов людей и лошадей, он – командир и должен ответить. Его посылают в штрафной батальон. И это почему-то решил новый комиссар Сергеев.
Сергеев на солнцепеке разбирает какие-то бумаги, к нему и от него бегают связные.
Солдаты озлоблены. Кто виноват в том, что оказались за Доном? Конечно, начальство. Поругивают вполголоса:
– Попляшут в нашей шкуре.
– Наша-то шкура теперь помягче будет. Из штрафа ников-то вырвешься, ежели только кровью обмоешься.
– А комиссар нынешний вроде свят. Сам небось через Дон в солдатских обмоточках прискакал.
– Интересно, кормить он нас думает?
– Заглянул бы я, братцы, в котелок.
– Карабин бросил, а котелок небось цел, фигура.
– Вот погляжу на твою фигуру, когда баланду раздавать будут, – не поклонишься ли моему котелку.
Твердым шагом, с выражением деловитой запарки на молодом лице подошел один из замполитов, развернул бумагу, откашлялся, суровым голосом стал читать фамилии:
– Рядовой Аверкиев!
Солдаты выжидающе глядят на неприступного замполита, гадают, что сулит эта перекличка, – может, за продуктами на продпункт пошлют, может, в наряд сунут.
– Рядовой Котельников!
– Я! – выкрикнул Миша Котелок.
– Младший сержант Матёрин!
– Я! – по-уставному бодро отозвался Федор.
За продуктами? Вряд ли… Великоват списочек-то.
Замполит судейски рубящим голосом извещает:
– Вышеперечисленные бойцы и младшие командиры за проявленную в боях трусость и паникерство, за безответственное отношение к высокому долгу защитника нашей Родины от фашистских захватчиков направляются в штрафную роту.
Молчание.
Замполит не торопясь свернул бумагу, взглянул поверх голов:
– Два часа на сборы!
Кто-то сдавленно вздохнул:
– Вот это да-а…
– Уделались, на нас отыгрываются, – сплюнул Мишка Котелок.
Замполит, прежде чем повернуться, напомнил строго:
– Приказ подписан комиссаром дивизиона.
Удалился твердым шагом – жаль, что степь не линейка, а то бы припечатал подметками.
– За что нас, братцы?
– За то, что с немцем не справился.
– Стрелочник виноват.
– Поди докажи, что ты не верблюд.
Федор вскочил на ноги:
– И пойду! Пойду к комиссару! Я – комсомолец! И чтоб меня насильно в бой!
Федор рванулся в сторону комиссара.
Вслед ему кто-то недружелюбно бросил:
– Чище других хочет быть…
Штрафная рота – да разве она страшна? Тот же фронт, а на фронте всюду смерть. Страшно клеймо преступника, клеймо труса, клеймо паникера! Как это пережить?
Новый комиссар дивизиона сидел на раскинутой плащ-палатке, положив на колено планшет, что-то писал. Он очень походил на знакомого Федору бухгалтера райпотребсоюза – широкое, сглаженное лицо, тугая складка под подбородком, глаза какие-то послеобеденные, дремотные. И в рыхлой фигуре с брюшком, переваливающим через ремень, было что-то домашнее, обогретое, напоминавшее о тюлевых занавесках, разбитых шлепанцах, кошке, мурлычащей на коленях…
– Разрешите обратиться!..
– Садитесь, пожалуйста… Одну минуточку… Да, я вас слушаю.
Добрый, обнадеживающий голос.
– Разрешите спросить, товарищ комиссар, за что меня послали в штрафроту?
– М-м… – Комиссар не знал Федора Матёрина, младшего сержанта из взвода управления второй батареи, видел его впервые и, конечно, не мог ответить, за что именно его послали в штрафную роту. Но он, наверное, был добрый по натуре человек, поэтому не поднял с места, не повернул обратно со словами «приказы не обсуждаются». – М-м… – пожевал губами, отвел глаза. – Есть приказ…
– Приказ, наверное, указывает на трусов, паникеров, дезертиров?..
– М-м… В этом плане.
– Я – комсомолец!
– Очень жаль, очень жаль…
– Я обивал пороги военкомата, чтоб меня направили добровольцем!
– Охотно верю, охотно верю…
– Доказать, что я трус или паникер, не сможет никто!
– Не знаю, не знаю…
– Почему нужно ставить за моей спиной другого солдата, гнать меня в бой силой? Я и так буду воевать!
– Меня назначили – я должен выполнять. Есть приказ самого Сталина. Из подразделений, позорно отступивших перед противником, отчислять в штрафники по три человека.
– Сталина? Не верю!
– Я же вам объяснил… Совершенно недозволенное отступление. Приказ самого Сталина. Ничем не могу помочь.
– Дайте мне доказать, что я не трус, не паникер. Дайте задание! Пошлите на смерть!
– Там вы тоже можете доказать… Так сказать, смыть с себя…
– Что смыть? Что смыть? Мне нечего смывать!
– Ну как же так – нечего. Раз попали в списки, значит, что-то есть…
– Я хочу знать… Я хочу услышать – какая за мной вина?
– Приказ. По три человека. Кого-то мы должны послать.
Выползающее через ремень брюшко, распаренное лицо человека, страдающего одышкой, сонливая доброта в мутноватых глазах и песня про белого бычка, песня, которую нельзя изменить.
И Федор не выдержал, он почувствовал, что у него что-то лопнуло внутри, – он заплакал от бессилия и унижения. Он сидел, размазывая грязным кулаком слезы под каской, чувствовал, что это смешно, нелепо, что слезы только могут вызвать подозрение, подтвердить – трус, тряпка, не зря посылают в штрафники, – но остановиться не мог.
А комиссар терпеливо и стеснительно глядел в сторону, повторял:
– Приказ есть приказ…
Неожиданно он назначил Федора старшим группы.
15
Все оказалось очень просто.
Федор, высушив слезы, злой, замкнутый, поднял свою группу – солдаты, сержанты, даже один старшина. Большинство из них взрослые люди, отцы семейства. Никакой охраны, никаких сопровождающих, оставили комсомольские билеты и красноармейские книжки, заставили только сдать оружие. Выдали на руки продаттестат, на котором помечен маршрут: через такие-то хутора, к такой-то станице.
В первый же переход вся команда разбежалась, кроме Мишки Котелка. Не остановишь, не схватишь за шиворот – степь велика, в степи много полурастрепанных частей, любая с охотой примет беженца.
В станице пересыльно-формировочного пункта не оказалось: эвакуировался – немцы перешли через Дон. Но пока оставался продпункт. Федор отоварил продаттестат: на всю команду – пшена несколько килограммов, банка лярда, большой кулек сахару. Мишка Котелок торжествовал:
– Так воевать можно.
Но это был первый и последний продпункт. Пшено вышло, шли голодные, залезали в хуторские и станичные огороды, бабы-казачки провожали их сумрачными взглядами:
– Вояки…
Стыдно, но голод не тетка.
На десятый день добрались до станции Садовая – окраина Сталинграда. Наткнулись на повара запасного полка, тот свел их в штаб, подождал, пока ему не сообщили, что новые бойцы поставлены на довольствие, скупо покормил галушками.
Вместо штрафной роты – поход в роте запасного полка за Волгу, в глубь степей, к Астрахани.
Село Пологое Займище растянулось одной улицей на несколько километров от ветряка до ветряка. По этой единственной улице с деревянными ружьями на плечах (настоящие винтовки нужны на фронте) маршируют солдаты, маршируют и поют:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
И деревяшки на плечах, и сжимает тоской сердце…
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
А немцы уже на окраине Сталинграда, в районе Красноармейска они вышли к Волге. Когда-то пели:
Не видать им красавицы Волги,
И не пить им из Волги воды…
И кровоточило сердце, и родная Матёра разрослась до размеров необъятной страны. И чужие деревни, лежащие в пепелищах, было так же до боли, до судорог жаль, как свою, спрятавшуюся в далеком тылу. И тяжелая ненависть душила минутами к тем, кто в знакомых уже степях сидит в окопах, едет на машинах по знакомым дорогам. К тем, кто без человеческого лица, без человеческого сердца, не похожим на все родное. И заново осмыслялось угрюмое слово – фашизм.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
Федор учился ненавидеть…
Дни, дни, дни…
Гнетущие сводки Совинформбюро…
Маршевая рота, расставание с Мишкой Котелком, запас НЗ в вещмешках, новые шинели…
Энская гвардейская дивизия приняла пополнение…
Дни, дни, дни…
Сотни километров проложенного по степи кабеля. Сотни километров, исползанных на брюхе под минометным огнем, под взрывами тяжелых снарядов. Сотни вырытых окопов, десятки возведенных и брошенных землянок. И ни единого выстрела по немцам из автомата, который постоянно висит на шее, – он связист, он разматывает и сматывает катушки, он один из тружеников войны.
Каждый день – вечность. Где-то в глубине памяти, в самом ее углу, – речка Уждалица с солнечным песчаным дном, роса, обжигающая босые ноги, мать, стучащая ухватами спозаранок, запах свежеиспеченных караваев, отдыхающих под чистым полотенцем на скобленом столе. Где-то краски, альбом, подаренный Саввой Ильичом. Счастливый, неправдоподобный сон. Да была ли на самом деле та жизнь?
16
От хутора в степь выбежало красное кирпичное здание – школа.
Хутор давно уже мертв. Там не только нет ни одного жителя, но и окопов. Там нет ни одной мазанки, стоят лишь среди пепелищ горбатые, прокопченные печки, торчат черные трубы. Оттуда через степь доносит ветер запах гари, от которой першит в горле.
За этот мертвый хутор идет бой уже много дней.
Почти каждый час от окраины земли через все небо начинает течь широкая невидимая река, переполненная гулом, шелестом, воем. Почти каждый час вез немецкие батареи гонят сюда снаряд за снарядом.
Сначала начинает стонать мертвый хутор. Тяжкий дым взрывов перемешивается со взбаламученным пеплом, обрушиваются трубы, брызжут осколками кирпича многострадальные печи. Потом снаряды набрасываются на школу…
Окоп Федора на окраине школьного двора. Во время обстрела каска, положенная на бруствер, через пять минут падает в окоп. Скорбно содрогается земля, песок сыплется за воротник гимнастерки, песок скрипит на зубах. Всякий раз обреченно ждешь: ну, теперь-то конец. Снаряды обрушили крышу школы, осколки исклевали кирпичные стены, воронками, как оспой, изрыт школьный двор. Должен же рано или поздно попасть снаряд в окно, где, съежившись, сидит Федор… Рано или поздно…
Но стихает обстрел. Федор с удивлением отмечает – пока жив, странно, но факт. И лезет из окопа на линию, перебитую осколком.
Много дней идет бой за хутор. Много дней сидит Федор на промежуточной, сидит один на один с телефонным аппаратом.
Сначала их было трое. Одного отозвали в роту – там перебило всех связистов. Второй полез искать обрыв кабеля и не вернулся – сообщили: ранен. Федор одни среди воронок.
По ночам мимо него проходит полевая кухня. Повар Леонтий Щелканов выдает ему два черпака густого супа из пшенной сечки и хлеб по гвардейской норме. Полковые новости Федор узнает по телефону.
Он совсем разучился ходить, только ползает. Он уже дней девять не умывался – воды не хватает, чтобы пить вдосталь. Он спал урывками, привязав телефонную трубку к голове. От взрывов снарядов, которые сотрясали окоп, он не просыпался, но при звуке голоса дежурного: «Тополь»! «Тополь»! – мгновенно приходил в себя.
– «Тополь» слушает!
В минуты передышки он видел перед собой одну картину: полуобвалившиеся кирпичные стены, школьный двор, засыпанный бумагами, – ученические тетрадки, классные журналы, книги из школьной библиотеки. Они забивали воронки, их лениво листал ветер.
Среди бумаг лежал голубой глобус с отбитой подставкой. Когда близко падал снаряд, стаей взмывали в воздух разрозненные белые листы школьных тетрадей, глобус перекатывался…