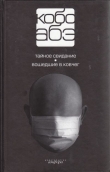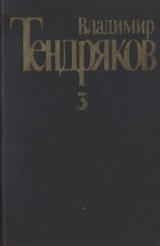
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц)
Директор испытующе взглянул на него из-под шапки волос:
– Это почему?
Слободко смотрел в пол.
– Учтите: институт нанимает для вас натурщиков, оплачивает их из государственного кармана не для того, чтобы вы ими не пользовались, а писали по фантазии. Валентин Вениаминович!
– Да?
– Почему у студента четвертого курса такая модернистская мазня? Почему он вместо девицы пишет какого-то синего вурдалака?
– Уверяю вас, не от бездарности.
– Тем хуже, тем хуже… Мы считаем преступниками тех, кого ловим на пропаганде буржуазной идеологии. А здесь… Эти жалкие потуги на западное кривляние – не проявление ли враждебной нам идеологии, не идеализм ли в живописи?.. Соизвольте следовать за мной, господин абстракционист… как там вас величают?.. За мной, за мной, смелее!
Все притихли. Каждый думал, что директор уводит Слободко в недра директорских апартаментов – случай из ряда вон выходящий, – кто знает, не свершится ли там короткий суд и быстрая расправа?
Слободко, не выпуская заложенных за спину рук, – одна щека мертвенно-бледна, другая пылает, – со склоненной головой, словно готовился прободать стену, двинулся к двери. Но директор властно остановил его:
– Подойдите сюда!.. Сюда!.. Ближе!
Он указывал на место возле мольберта Федора.
– Встаньте вот так… Вам хорошо видно?.. Теперь смотрите и учитесь… Видите: вот нос, вот лоб, вот губы – все на месте. Человеческий облик, схвачено сходство, передан характер, и цвета – не взбесившийся ландрин, и форма вылеплена… А полюбуйтесь, как легко прописана эта затененная часть платья. Учитесь!.. Подымите-ка глаза, не глядите в пол…
Никогда Федор не чувствовал себя так неловко, никакая ругань не заставила бы так краснеть. Провалиться бы в тартарары!
– Вот это – честный талант, не подделка… Вы не помните, что сказал Антон Павлович Чехов по поводу декадентов?.. Нет?.. «Декадентов не было и нет, жулики – гнилым товаром торгуют». Так вот ваш товар, господин Пикассо, с дурным душком.
Федор боялся взглянуть на Слободко. Не глядел он и на свой холст, не глядел, но знал его наизусть, как зазубренный параграф из устава караульной службы. Он все время недоволен был своей работой, от нее тянуло тоской.
– Мы не допустим в стенах института низкопоклонства перед деградирующим искусством Запада… Вы, наверное, догадываетесь, что мы в случае крайней необходимости можем не ограничиться одними нотациями. Лучше отсечь гнилой аппендикс, чем допустить воспаление всего организма. Вот так-то…
Директор кивнул холодно Слободко, не доглядев остальных работ, со вскинутой высоко головой и расправленными плечами, как человек, выполнивший свой долг, прошествовал к выходу. У Валентина Вениаминовича, следовавшего за ним, протез безжизненно свисал вдоль тела.
Перед молчаливыми испытующими взглядами пожелтевший, казалось, осунувшийся за эти минуты Слободко побрел к своему мольберту. Никто не брался за кисти.
Слободко взял из этюдника мастихин, сначала тупо уставился на холст, поднял руку и с ожесточением провел – раз, другой, сдирая краску… Снова уставился…
Стояла тишина. И Слободко не выдержал, рывком обернулся:
– Ну что вы все глаза вылупили?! Что?! – И, не стесняясь присутствия девчат, площадно выругался.
Иван Мыш, стоявший неподалеку от Федора, аккуратно, чтоб не запачкаться, положил на стул грязную палитру, вытер тряпкой руки, степенно направился к Слободко, поскрипывая сапогами, оправляя под туго стянутым ремнем гимнастерку.
– Ты где это находишься? – строго спросил он.
Слободко недоуменно глядел ему в переносицу.
– Сам виноват. Получил… Давно пора покончить с дешевыми выкрутасами!
И Слободко оскалил стиснутые зубы, шагнул на дюжего Мыша, сам дюжий, плечистый, на расстоянии чувствуется – трясущийся от бешенства. В руках его был большой, как столовый нож, мастихин.
– На десять шагов от моей работы. На десять шагов, сволочь!
Иван Мыш попятился.
6
Иван Мыш давно уже не тот неприкаянный студент, который жаловался четыре года назад: «Все в куче, я в стороне».
С легкой руки Федора он стал профгрупоргом. Оказалось, он не лишен способностей – умел выстаивать в кабинете заместителя директора до тех пор, пока тот не подмахивал нужную бумагу. Внушительная наружность совмещалась у него со скромностью, никому и в голову не приходило уличить его в назойливости, накричать, выгнать из кабинета. Все нагрузки он выполнял добросовестно, без громких слов, без и жалоб. Иногда он жаловался, но не начальству, а, так сказать, в лицо обществу, на собраниях.
– Товарищи! Назову следующие фамилии задолжников…
И называл. За это не обижались.
Он часто оказывал мелкие услуги – доставал разовые талоны на обеды, хлопотал перед кассой взаимопомощи. Его услуги принимались всеми как должное. Лева Православный щеголял в новых брюках, купленных на ордер, выхлопотаппый Иваном Мытом. Щеголял, забыв сказать спасибо.
Однажды Иван Мыш завел разговор с Федором и Вячеславом:
– Хлопцы, вы хорошо меня знаете?
– Как облупленного.
– Вы же ничего плохого обо мне сказать не можете?
– Можем.
– Что?
– Храпишь по ночам громко.
– Я, хлопцы, серьезно… Хочу у вас просить рекомендацию в партию…
И Федор и Вячеслав написали эти рекомендации.
А через несколько дней они уже слушали на собрании, как Иван Мыш рассказывал свою автобиографию. Год рождения – 1922-й, учился в ремесленном, работал, служил в армии, родители погибли во время оккупации, в семье репрессированных нет… Обычная жизнь, не из очень легких, но и не из самых трудных – нельзя за нее ни похвалить, ни осудить. Приняли единогласно в кандидаты…
А года через полтора Иван Мыш был уже членом институтского партбюро, стал ездить на совещания в райком партии.
Увидев однажды его рослую, представительную фигуру, его лицо, крепкое, мужественно красивое, – лицо славянина, сразу запоминали. Запоминалась и его короткая странная фамилия.
На торжественную встречу с зарубежными работниками культуры приглашалось ограниченное число лиц. Инструктор горкома, которому была поручена организация встречи, вспоминал Ивана Мыша: студент, из низов – следует внести в рекомендательный список. И Иван Мыш на торжественной встрече сидел за столом бок о бок, как равный, с директором института. А заместитель директора не удостоился чести.
Иван Мыш любил работать маленькими кистями, зализывая мазочки, трудился не разгибая спины, от звонка до звонка – ювелирничал на холсте. На курсе ходил термин: «Мышиный стиль».
По-прежнему он занимался выпиливанием и вытачиванием – золотые руки! Поломанную массивную авторучку они превращали в зажигалку, алюминиевый кухонный половник – в настольную лампочку-ночничок. Золотые руки, ни на минуту не остающиеся без дела! Но в них никто и никогда не видал книги, кроме разве как учебника перед сессиями.
Еще в начале второго курса между Иваном Мышом и Вячеславом произошел разговор:
– Вот вы все говорите – Декаданс, Декаданс… А в каких годах жил этот Декаданс?
Вячеслав, вскинув взгляд на простодушную физиономию Ивана Мыша, ответил не дрогнув.
– Родился приблизительно в тысяча восемьсот шестидесятом году.
– И жив до сих пор?
– Жив курилка.
– Девяносто лет? Ну и ну! Песок, верно, сыплется.
– Нас с тобой переживет.
– Вот ведь фигура, только о ней и слышишь… Что же он сделал такого?
– Занимался растлением малолетних.
Теперь – четвертый курс, Иван Мыш вырос, уже представляет себе, что этот декаданс – не похотливый старик с бородой, на собраниях, к случаю, внушительно громит порочное течение, предостерегает от его дурного влияния, чем всегда чуть не до слез умиляет Вече Чернышева:
– Спец, ничего не скажешь.
К Слободко Иван до сих пор относился с опасливой настороженностью – кто его знает, может, безобидный юродивый, а может, гений, любое коленце жди – выкинет.
7
Комната общежития. Тумбочка-столик Ивана Мыша с крохотной лампочкой, освещающей только руки. Кучи книг на столе рядом с прокопченным чайником. Штанина грязных кальсон с завязками из-под койки Православного… Комната общежития – ночи в остервенелых спорах. Комната общежития – гостеприимный дом, заходи любой, если ты голоден – хлеб пополам, если ты опоздал на метро – уступят часть койки, не обессудь, в тесноте – не в обиде, не комфортабельная гостиница. И не пансион благородных девиц – могут облаять не за будь здоров.
В комнате общежития обычно горячая атмосфера сегодня падает к нулю. Вячеслав лежит с упрямым и сердитым лицом. Федор тоже лежит и, заломив руки за голову, смотрит в потолок. Лева Православный то встает, то садится на койку. Нет шума, но нет и согласия – неуютность. Только Иван Мыш привычно сутулится над своей тумбочкой, и его широкая спина с выпирающими массивными лопатками, как всегда, невозмутима.
Православный уныло бубнит:
– Я понимаю тебя, старик. Левка не прав. Но ведь его едят, а тебя… Что скрывать, тебя да Федьку по головке гладят. Вы оба – надежда института.
Вячеслав молчит. Православный косится на него с осуждением, вздыхает:
– Не-хо-ро-шо-о. У меня вот пакостно на душе, а у тебя? Или тебе все равно?
Вячеслав молчит.
Федор потянулся на койке, хрустнул суставами:
– Эх, баррикады! Бои петушиные…
И Вячеслав окрысился:
– Не строй из себя святошу. Ты бы тоже не снес – влепил. Непротивленцы толстовские…
Федор скинул ноги на пол:
– У меня есть двадцать пять рублей!
Православный оживился:
– Дело! Только у меня, старик, карманы заполнены межпланетной пустотой.
– Пошли, Вече, – приказал Федор.
– Куда?
– Отыщем Левку, выпьем с ним. Ему плохо, да и тебе не медок.
– Не пойду.
– Гордость не позволяет?
– Хотя бы.
– Ну, а мы пойдем.
– Эврика! – завопил Православный. – Идем к Милге! Левка может быть только там! Там и выпьем, там и поговорим! И деньги твои, Федька, при тебе останутся.
– В благородный дом с семейными дрязгами? Что ты, отче?
– Ну тогда вытащим от Милги! Он там! Мамой родной клянусь! Вытащим и заменим благородный дом дешевой забегаловкой!
Федор и Православный ушли. Вячеслав и Иван Мыш остались.
На звонок открыла дверь жена Эрнеста Борисовича.
– Ах, это вы! – И отступила в сторону. – Что же, входите.
Глядит пристально, как-то смятенно, зябко кутается в пуховый платок – полная немолодая женщина; наверно, ей изрядно досаждают причуды мужа, крикливые споры с подозрительными молодцами – кандидатами в гении.
Спотыкающиеся быстрые шаги. Кто-то чужой в доме. Нет, вышел Эрнест Борисович. Остановился в дверях прихожей, и у него вырвалось, как у жены:
– Ах, это вы…
Постоял, странно глядя, и вдруг непривычно засуетился:
– Рад вам. Рад… Раздевайтесь. Проходите…
Знакомые комнаты плохо освещены, из полутьмы проступают картины. Совсем уже в темноте, в углу, лошадь подымает копыто.
– Извините… Мы на минутку.
– Да нет, присаживайтесь…
Эрнест Борисович щелкнул выключателем. Картины на стенах словно выскочили из засады, заняли угрожающую позицию.
На Эрнесте Борисовиче строгий, темный костюм, белая сорочка, галстук… И почему-то в костюме он выглядит ниже ростом, лысая голова сейчас какая-то оголенно-беззащитная. И почему-то небрит, и суетится, и взгляд утерял покойную твердость.
– Мы ищем Слободко… И вот рассчитывали…
– Да, да… Ах нет… Слободко?.. Нет, не появлялся.
– Тогда извините.
– Да, да… Ах нет… Прошу вас… Присядьте, побудьте минуточку. Только минуточку…
– Я чай на стол соберу, – как-то тревожно подхватила жена.
Федор и Православный в смятении переглянулись, попятились к двери.
– Нам нужно срочно отыскать Слободко… Может, он звонил?
– Да, да… Ах нет… Никто не звонил… Да, да… Молчит… Телефон молчит… Прошу вас, вот стулья…
– Спасибо, но мы спешим. Нам позарез нужен Слободко.
Эрнест Борисович, явно расстроенный, двинулся следом к двери.
Федор уже взялся за ручку, как Эрнест Борисович решительно произнес:
– Молодые люди, что, если я обращусь к вам с просьбой…
– Все, что сможем.
Эрнест Борисович переминался – в отглаженном костюме и все же помятый, сникший, темной щетиной покрыт суровый подбородок, и взгляд заячий.
– Я, кажется, должен скоро уехать…
– Эрик! Зачем об этом? – перебила жена.
– Да, да, возможно, уеду… Возможно, надолго.
– Ну, зачем же ты!
– Не сможет ли кто взять на хранение мои картины?.. Здесь очень ценные оригиналы.
– Эрнест! – Жена сжимала под платком руки. – Какие картины! До них ли тебе!
– Лев Ефремович… – Заячий взгляд Эрнеста Борисовича уперся в Православного. – Вы же не относитесь к ним как к ненужному хламу?
– Мы возьмем. – Православный оглянулся на Федора. – Все не сможем, но часть… Мы в общежитии живем…
– В общежитии?! Нет, нет!
– Эрнест! К чему этот разговор?
Федора осенило.
– А если их переслать? – спросил он.
– Смотря куда, смотря куда…
– В деревню.
– А что – идея!
– До картин ли тебе, Эрнест!
– А не скажете ли адрес? Быть может, вы на себя возьмете труд переслать?
– С удовольствием… Запакуйте, я перешлю. На всякий случай – адрес запишите: Вологодская область, Энский район, деревня Матёра, Кочневу Савве Ильичу…
– Эрнест! Это неразумно! Зачем тебе впутывать других?
Эрнест Борисович вдруг обмяк:
– Пожалуй, ты права… Неразумно… Бог с ними, с этими картинами. Извините…
На улице Православный и Федор остановились, поглядели друг на друга:
– Старик, предчувствую – мы были в последний раз в этом гостеприимном доме.
– Может, нам вернуться и забрать себе все картины? Он очень ими дорожит. Отправим…
И Федор вдруг рассмеялся.
– Ты чего? – удивился Православный.
– Представил себе Савву Ильича… Получит посылку, откроет, а там – лошадь с копытом… С ума сойдет старик, удар хватит…
Рассмеялся и Православный. Что такое Савва Ильич, представлял и он. Тревога как-то сама собой исчезла.
Леву Слободко в этот вечер разыскать не удалось.
8
Федору часто снился один и тот же сон.
Низкая, с тяжелым бревенчатым накатом землянка, коптилка из патрона, еле дышащий огонек. Федор и огонек… Федор со страхом ждет – сейчас пойдет дождь. Только бы не пошел, только бы миновал, иначе случится что-то ужасное. Федор прислушивается сквозь толстые бревна, сквозь землю, насыпанную на них, изнемогает от напряжения, надеется – а вдруг обойдется. Но вот он явственно слышит – дождь начинается, тихий дождь, вкрадчивый. И сразу же с пронзительной отчетливостью представляется мир над землянкой – поле без конца, поле в гнилой стерне и вдали одинокая обгоревшая печная труба. Во всем мире, на всей планете нет никого – ни дерева, ни птицы, ни зверя, ни человека, – только труба да он, Федор, единственный, кто остался в живых на земле. Он ждал конца войны, и вот она кончилась – никого, ни птицы, ни зверя, труба да огонек перед ним. Дождь мочит никем не занятую бессмысленную землю – никого, ничего, нет жизни, нет смерти, пустота, пустота… А землянка стоит, и он пока жив, и натужно тлеет крохотный огонек. Тлеет. Зачем?.. Остались секунды, не избежать – погаснет, секунды, а там – будет лежать поле, будет идти тихий дождь, века, века, тысячелетия, без конца. Нет смысла, и вопреки смыслу упрямо тлеет огонек. Зачем? И Федор решается – хватит! Протянуть руку и накрыть: пусть мрак, пусть безликий дождь – пустота на века. Протянуть руку – как просто… Но рука непослушна. И вдруг мысль, как ожог: «А жив ли он?»
Каждый раз он просыпался на этом месте. И слышалось дыхание спящих ребят, и ручные часы на тумбочке плели суетливо едва уловимую ниточку вслед за убегающей ночью.
Проснулся и на этот раз. Из коридора сквозь неплотно прикрытую дверь сочился в комнату слабый свет. Смутно отблескивал колпачок лампы на тумбочке Ивана Мыша. Иван Мыш уютно похрапывал, словно в хорошем настроении мурлыкал благодушную песню. Православный подергивался во сне и чесался.
Но в комнате было что-то пугающее, благодушно мурлыкающий храп Ивана Мыша казался фальшивым.
Проход между койками чем-то заполнен, чем-то громоздким, живым. Явственный скрип, шевеление…
– Кто тут? – с хрипотцой, непослушным слежавшимся голосом.
– Не шуми, – глухой шепот в ответ.
– Кто?
– Разбуди Православного, сам оденься… Только не шуми…
– Левка? Слободко?.. Ты?
– Побыстрей. Я вас в коридоре подожду.
Расплывчатый, неясный, как грозовой сгусток, гость подался назад. Скрипнула дверь, из скудно освещенного коридора упал свет, обрисовал сутуловатую фигуру в мешковатом пальто, шапку, утонувшую в поднятом воротнике.
Федор полез из-под нагретого одеяла.
– Отче… Православный… Православный… Да проснись же, сукин сын!
Слободко ждал их под самой дверью. У него было бледное лицо с натянутым выражением, как у голодного, который попал к обедающим и старается сделать вид, что сыт.
Он разлепил плотно сжатые губы:
– Пошли.
Федор понял – что-то серьезное, не стал расспрашивать, послушно двинулся следом.
У Православного собачья шапка, надетая впопыхах, сидит на макушке залихватски, очки в темноте он так и не сумел отыскать, жмурится всей физиономией, словно морщится от боли, сослепу и спросонья натыкается плечом на косяки и никак не сладит с тяжелыми ботинками – они оглушительно грохочут по спящему коридору. Слободко нервно оглядывается, сильней сутулится и спешит…
Коридор, лестница, вестибюль, вахтерша, обрывающая воркотню сладким зевком:
– Полуношники…
Улица.
Федор запахивается поплотней, поднимает воротник – черт-те что, сорвал с постели.
– Эй, убавь галоп! Да сообщи, куда гонишь?
Слободко от подъезда наискось пересек мостовую, остановился у фонарного столба, повернулся грудью на Федора. У него по-прежнему на лице усилие голодного человека. И Федор понял – пришли. Просто Слободко боялся стен, сейчас стоит, переводит дух.
Еще не поднялись дворники, еще нет машин. В неживом городе горят ненужные фонари. Глухой час – захолустье суток. И мороз воровато ползет сквозь пальто к телу, еще храпящему постельное тепло. У Православного всегда зябнут ноги, и по привычке он начинает легонечко отплясывать «Жил Чарли безработный…».
– Ну? – не выдержал Федор.
– Милга… – Слободко не может справиться с непослушными губами. – Милга… – Выдавил с силой, злобясь на себя: – Арестован!
Тесно обступают дома – этаж над этажом, каждое окно замуровано ночной темнотой, подъезды заперты, наглухо заперта дверь каждой квартиры. В этот час люди спят, они беззащитны, а потому недоверчивы и трусливы.
Православный на секунду оборвал приплясывание. Федор опомнился и сказал сердито:
– Не ерунди… Мы вечером у него были.
– Ночью пришли.
Православный хлебнул воздух:
– Он ждал, старик.
Заплясал несмело: «Жил Чарли безработный…»
– Ночью пришли…
«Жил Чарли безработный…»
– Пришли! Может, ко мне придут… Боюсь!.. Здесь сколько времени торчал, войти боялся. Вас боюсь! Себя! Всех! К черту такую жизнь!
Слободко приткнулся шапкой к заиндевелому чугунному столбу, и под ватным толстым пальто затряслись обмякшие плечи.
«Жил Чарли безработный…»
Федор неожиданно почувствовал, что и он боится. Зачем-то оглянулся назад через плечо.
Глухой час – захолустье суток, ненужные фонари, незрячие окна… И ощущение – кто-то стоит за спиной. Нет, это сон, не проснулся… Проснется и – храпит Иван Мыш, часы на тумбочке…
Слободко плакал, а Православный с беспомощно подслеповатым и расстроенным лицом легонько отбивал ботинками: «Жил Чарли безработный, ходил всегда голодный…»
Не бывает такого – сон, бред.
Слободко плакал, а Православный отплясывал… А кругом отчужденно стояли высокие дома, от подъездов до крыш набитые людьми, дома с запертыми подъездами, темными окнами.
Остаток ночи не спали. Православный ворочался и вздыхал, один раз спросил:
– Как ты думаешь, старик, сколько сейчас на улице градусов?
Лева Слободко отказался идти ночевать, устало побрел куда-то в морозную пустоту города, под дремотный свет уличных фонарей. Перед расставанием не глядел в глаза, отворачивался. Казалось, унес враждебность к Федору и Православному.
Сколько градусов?.. Жалко парня.
Он плакал… Но по ком? По Милге же!
Где сейчас Милга?.. Знакомый строгий костюм, лысая голова, небрит – до того ли… Где он?.. Спрятали от людей – опасен! «Я, кажется, скоро должен уехать…» Ждал часа, не чиста совесть. «Лошадь с поднятым копытом» – не спас, а хотелось. Прежде невдомек, а теперь ясно – странный человек, непохожий, чужой… И лез в добрые знакомые. И ведь пролез. Ощущение – надули беспардонно, в доверии обворовали.
А Левка Слободко изводится. Мороз на улице, окно в инее. Плохо одному под фонарями.
Вместе спали на одной койке, вместе ели, бок о бок стояли в мастерской… Ум за разум заходит.
Храпит Иван Мыш, ровно дышит Вячеслав, ворочается и вздыхает Православный. Вздыхает, а спроста ли это?.. Ум за разум, даже Православному перестаешь верить.
И нельзя отделаться от непонятной жалости, и всплывает из памяти давний случай…
В седьмом классе за одной партой с Федором сидел Игорь Гольцев. Отец его был секретарем райкома партии – большое начальство, ездил на «газике», единственной в районе легковой машине, высокий, полный, нос горбатинкой, сам за рулем, а шофер, как гость, рядом. Игорь любил прихвастнуть: отец полком командовал в гражданскую, отца в Москве знают, орден обещали… Обещали… Однажды утром слух – арестован, а на другой день в полдень в школе – собрание. Сама директриса выступала: «Мы должны показать, что общественность нашей школы категорически осуждает презренного врага народа Гольцева. Мы будем требовать высшей меры наказания!» Раз враг народа – какой разговор… Федор вместе со всеми поднял руку. Игорь сидел рядом, через человека – поднял руку и он. И его еще заставили выступить, вытащили на трибуну, стоял, смотрел в пол, зеленый, под глазами тени, пробубнил что-то про себя. А со всех сторон кричали: «Громче! Не слышно!» И наконец набрался сил, сказал, чтоб все слышали: «Отрекаюсь». А потом Федор нашел его в школьном сарае: забился за дрова, плакал. Стало жаль, пробовал успокоить: «Ты за сволочь эту, за отца, не ответчик…»
Другой человек стал ездить на «газике», но только сидел не за рулем, а рядом с шофером.
Игорь бросил школу, поступил слесарем в железнодорожную мастерскую, ходил в промасленном ватнике, в полувоенном отцовском картузе, и на него показывали пальцами:
– Эвон, был князь, да попал в грязь.
А Игорь стал рано пить и однажды пьяным раскричался:
– Ежов-то – падло! Его самого запрятали! Отец мой безвинен! Он в гражданку полком командовал.
Милиционер Кузя Сморчок, толкая в шею, утащил Игоря. Продержали с неделю, выпустили. Ходили слухи: «Ежов-то, железный нарком, того… ошибался крупно».
И Федор тогда отнесся к этому равнодушно – ошибки, так ошибки, случается…
Стала видна косматая голова Православного на подушке. Кисельный сумрачный свет вяло вползал в комнату. Начинался затканный снежком серенький февральский день.
Когда проснулись Вячеслав и Иван Мыш, Федор и Православный прятали от них глаза. Молчали. Прятали глаза от них и друг от друга…
А Слободко-то все-таки плакал по Милге – спроста ли это?
9
Лева Слободко не пришел в мастерскую.
Среди других сиротливо стоял его мольберт, и на нем – холст с содранной краской, он словно вопил о бесчинстве.
После работы Федор в умывальнике «чистил шерстку» – мыл кисти и руки. Возвращаясь обратно в мастерскую, он наткнулся в коридоре на Православного. Тот сидел как на вокзале, подперев кулаками голову, глядел в пол.
– Кого ждешь?
И Православный с трудом, как старичок-ревматик, поднялся.
– Мыш – большая сволочь, – сообщил он.
– Это почему?
– Он – сволочь, а я паршивый трус.
– В чем дело?
– Левку Слободко, старик, исключают из института.
– За что? За Милгу?
Православный уныло покачал головой:
– В воздухе летают невидимые мухи цеце…
– Что плетешь? Какие цеце? Рехнулся?
– Ядовитые мухи. На любого могут сесть и укусить.
– Ты мне шарады не загадывай! За что исключают Левку?
– Загнивание, старик.
– При чем тут Мыш?
– Он – сволочь.
– Уже слышал.
– Он мне предложил выступить на собрании.
– Тебя? В ораторы?
– Меня, именно меня. К тебе бы он, пожалуй, не подкатился.
– Ну и что же?
– Выступи против Слободко, дай фактики, сообщи, что он говорил, раскрой его вражеские планы… Иначе не поздоровится.
– Ну и скажи… Что особенного ты мог слышать от Левки?
– Все равно что. Всему поверят, старик. Лишь бы погрязней. Требуется доносик.
– Ну уж…
– Иван Мыш – большая сволочь. И самое страшное, старик, – я мямлил. Презирай меня – я мямлил! Я не плюнул в его гнусную физиономию!
– Стоило.
– Я боюсь мухи цеце! – Православный схватился за лохматую голову. – Боюсь! Буду молчать! А это ложь! Это подлость, старик! Надо спасать Левку!
– Пошли, позовем Вече, обмозгуем вместе.
– Не надо Вече, старик! Он не любит Левку. Он может все испортить. Не надо впутывать Вече!
Православный вдруг обмяк, поспешно уставился в ботинки, руки слепо нашаривали карманы. Вытирая тряпкой руки и кисти, твердой походочкой подошел Вячеслав, остановился, остро взглянул на Православного. Тот продолжал сосредоточенно искать карманы.
– Мне косточки перемываете? – суховато спросил Вячеслав. В мелких чертах, в точеном носе появилось затравленное, хищное выражение, как у диковатого котенка перед дворнягой. – Что же за спиной-то? Лупите в глаза. Честнее.
Православный возмущенно дернул головой, хотел что-то возразить, но встретил враждебно остекленевший взгляд, огорченно махнул рукой, сорвался с места. Тяжелые ботинки загрохотали по изношенному паркету.
– Никто тебе косточек не перемывает, – сердито ответил Федор.
– И мое имя всуе не упоминалось?.. – И вдруг голос Вячеслава надломился: – Федор, скажи, почему в ваших глазах Слободко более прав, чем я?
– Слободко выпирают из института.
Короткая челка на выпуклом лбу, сведенные губы и широко открытые, с разлившимися зрачками глаза, в которых Федор видел свое отражение.
– Это правда? – спросил Вячеслав ватным голосом.
Иван Мыш, самый добросовестный из студентов, всегда последним кончал работу. Сейчас он чистил палитру, снимал мастихином масляную грязь. Что бы ни делал этот человек, все выглядело священнодействием.
– Православный передает тебе привет, – сказал Вячеслав.
– Ну?.. – Мыш не поднял головы.
– Просит поблагодарить за доверие…
– Ну?..
– И считает, что с выступлением на собрании лучше справишься ты.
– Я само собой. А вот другие по углам прячутся.
– Выступишь в защиту Слободко.
Иван Мыш распрямился, и Вячеславу сразу же пришлось задрать подбородок. В подернутых сонной поволокой глазах Ивана замерцало насмешливое любопытство.
– Смешочки все. Сойдетесь – как два кобеля… А тут – за Слободко… Ха!
– Никаких смешочков. Ты должен выступить в защиту Слободко.
– Это почему же – я должен?
– Потому, ваша милость, что вы – деятель, авторитет, к вашему слову прислушивается наша уважаемая администрация.
Иван Мыш поджал губы, и сразу его чеканная, составленная из плоскостей физиономия стала скопчески постной.
– Цацкаетесь. Подведет вас Слободко под монастырь. Запутаетесь по уши.
– И все же смилуйся.
– Сам говорил – баррикады в искусстве… Баррикады, а теперь на вот – не тронь Слободко.
– Баррикады, было бы тебе известно, я понимаю как острую борьбу мнений, а не нож из-за угла. Бороться – пожалуйста, а быть убийцей – нет! И тебе не советую.
Федор напомнил Ивану:
– Ты что-то прежде не лез на баррикады. Откуда теперь такая прыть?
– Хлопцы, сами знаете, не вас учить – время сложное, на каждом шагу враг. А разные свистуны, вроде Слободко, врагам подсвистывают… Я вот тут об одном деле узнал – волосы встали дыбом. Может, мы с вами за одним столом с врагами чаи распивали.
Вячеслав не знал о Милге, но Федор сразу насторожился.
– Ты о каких чаях говоришь?
– Мало ли о каких. Не всякое-то можно сказать.
Губы Ивана Мыша были постно сжаты.
– А все же?
– Голову снимут.
– Пусть твоя осведомленная голова останется на своем месте, – нетерпеливо перебил Вячеслав. – Но за Слободко придется заступиться.
– Ну уж нет. Укрывать не собираюсь. Выступай ты, коли он тебе так люб.
Вячеслав, холодно прищурившись, похлопывая пучком кистей по ноге, бросил, словно укусил:
– Выступлю.
– Вот и добре.
– Выступлю и скажу, что выбрасываем способных…
– На здоровьечко.
– Способных выбрасываем, а балласт оставляем. Выступлю и задам всему институту один вопрос…
– Это уж твое дело, меня не касается.
– Вряд ли. Вопрос: почему Слободко должен вылететь, а Иван Мыш, человек с сомнительными способностями, остается?.. Ты же знаешь, что я красноречив и… не слишком стеснителен в выражениях.
– И чего ты?.. Ну чего он на меня накинулся? – Иван Мыш повернул красное, растерянное лицо к Федору.
– И я выступлю, – подкинул Федор. – Не сомневайся.
– Ну и выступайте! Напугали кошку большой крысой.
– Ах, не боишься, что тебя вслед за Слободко из института попрут?..
– Не боюсь. Сами знаете – сижу крепко. Не какой-нибудь гнилой декадент.
– Что верно, то верно – не декадент и сидишь крепко, ужился. Пожалуй, и не попрут, но шум да звон поднимется. Шум тебе, как сухопутной курице море, противопоказан. Учти – ты не водоплавающий. Будь здоров, деятель. Обдумай наши слова. Пошли, Федор.
В дверях они наткнулись на Православного.
– Старик! Я слышал!
– Ну и что скажешь?
– Скажу – ты порядочный человек, старик! Преклоняюсь!
– Слободко другого мнения.
– Слободко – кретин! Слободко – идиот! Слободко надо бить по субботам, чтоб поумнел.
– Я удовлетворен этим заявлением, джентльмены.
А вечером в комнате общежития уже при участии Православного снова насели на Ивана Мыша. Никто не сомневался, что он сдаст позиции.
10
Общее институтское собрание состоялось через три дня. С докладом выступал доцент Белявкин.
Сколько трибунов прославились на века тем, что объясняли людям – во имя чего нужно поступать так, а не иначе. Во имя чего? Тот, кто решался бросить эти елова толпе, не должен быть серенькой личностью, он равен пророку.
Но странно, как только в институте появлялась необходимость объяснять, во имя чего нужно действовать так-то, вылезал доцент Белявкин.
Под побитым молью стареньким пиджачком – тощее тело, кажется, что при движении рук суставы должны скрипеть деревянным несмазанным скрипом, лицо без морщин, а стариковское, потертое, голос ровный, утомляющий… Он читал курс по истории искусства, не излагал, не рассказывал, а именно читал из толстых тетрадей, которые студенты прозвали «гроссбухами».
Доклад длился два часа и двадцать минут. Сюрреализм, абстракционизм, имажинизм, субъективизм, экзистенциализм – к мудреным названиям немудреные эпитеты: гнилой, пресловутый, вырождающийся… А под конец:
– В здоровой среде нашего института замечаются единичные нездоровые явления. Студент четвертого курса Слободко…
Белявкин указал на жертву.
Объявили перерыв.
Федор и Вячеслав курили. Подошел Иван Мыш – очи опущены долу, губы поджаты по-старушечьи, громко сопит… Из-под локтя Мыша вынырнул Православный, жадно уставился Мышу в лоб.
– Ты вот что… – посопев, обратился к Вячеславу. – Ты не лезь, я все устрою… Ладно уж, хай живе тай здравствует ваш Слободко!