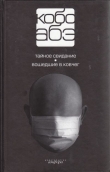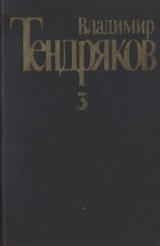
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Не имеющие подобия в природе образы мифических героев, чертей, ведьм, вурдалаков – действительность уже потому, что они, эти плоды человеческого измышления, в не меньшей степени могут вызывать у нас чувства, чем реальные вещи. Никогда не существовавшая русалка способна стать причиной не менее сильного настроения, чем существующая во плоти поэтическая березка, смотря, как они будут выражены.
Наша действительность не ограничивается миром реальных вещей, наше искусство – рамками реализма.
Думается, Ты и без меня давно знал, что исключительное, из ряда вон выходящее вызывает у Тебя более сильное – тоже по-своему исключительное – чувство.
К привычным, часто попадающим в сферу наших ощущений, вещам мы приобретаем некий иммунитет. Чем чаще они нам попадаются, тем меньше на нас действуют, пока, наконец, не перестают совсем замечаться. И опять же, это свойство всего живого. Если бы мы с одинаковой силой реагировали на знакомые и незнакомые явления, то наша жизнь превратилась бы в кошмар. Все задевает, все вызывает чувственные реакции, нам бы пришлось тратить массу энергии на восприятие того, что уже известно. Да и что известно, что неизвестно – мы бы не смогли тогда отличить, все одинаково привычно и непривычно, мы просто начисто утратили бы способность познавать окружающий мир.
Каждый новый объект для нас – некая исключительность среди привычного. И, наверное, то искусство более действенно, которое несет в себе наибольшее количество нового для нашего восприятия. Недаром же выражение «новаторское искусство» употребляется, как правило, в похвальном смысле, «традиционное искусство», то есть – повторяющее что-то прежнее, – уже не столь похвально, и совсем убийственно звучит избитое, ходульное, обветшалое искусство – старое, распространенное, набившее оскомину.
Значит, чем новей – тем лучше?
И опять же, не так-то все просто.
Предположим, Ты никогда не интересовался астрономией. Для Тебя сообщение, что расстояние от Земли до Солнца равняется 150 000 000 километров, – ново.
Разреши спросить, что Ты почувствовал, услышав эту новую для Тебя информацию? Скорее всего, ничего, в лучшем случае нечто смутное: далеконько светило от нас.
Но если я Тебе объясню, что на поезде, делающем около ста километров в час, пришлось бы «пилить» до Солнца свыше ста семидесяти лет, тут Ты уже как-то начинаешь чувствоватьрасстояние.
В первом случае двузначная цифра с семью нолями не связывается ни с чем таким, что Ты мог бы ощутить, что в Тебе когда-либо вызывало чувства. Эта цифра настолько нова, что лежит вне Твоего чувственного опыта, ничто Тебе не напоминает, ни с какими ощущениями у Тебя не связывается.
Мы только что говорили: привычное, уже чувственно знакомое не столь остро воспринимается, как новое, незнакомое. Но остро воспринимается новое средипривычного, и не просто случайносреди, а, как правило, находящееся в связис привычным. Мир, окружающий нас, никогда не бывает скоплением независимых вещей, а всегда связанных друг с другом, взаимозависящих друг от друга. Чувствуя старое, привычное, мы вместе с ним чувствуем и связи, а через них обретаем способность почувствовать и новое, уяснить для себя его место в мире, его сущность. Любой процесс познания, будь то рациональный или чувственный, идет неизменным путем от старого, уже известного, к новому, с ним связанному. А когда новое появляется перед нами без всяких связей, совершенно обособленно, «голеньким», то ощущать-то его органами чувств мы можем, но такое ощущение нам, собственно, ничего не дает, это наше ощущение не связывается с другими нашими ощущениями, находится вне нашего опыта и наших потребностей, интереса и внимания к себе вызвать не может, как не может быть и воспринятым.
Так для Тебя, совсем не интересовавшегося астрономией, девятизначная цифра ни с чем не связана, явление вне Твоей жизни, а потому и не воспринимается.
Для того, чтобы Ты сумел ее воспринять, я должен поставить ее в тесную связь с чем-то старым, уже известным Тебе. И я связываю умозрительное расстояние до Солнца с поездом. Что такое поезд, Ты хорошо знаешь, и скорость 100 км/час для Тебя вполне ощутима, на обычном пассажирском поезде Ты передвигался бы тише, 100 км/час – скорость экспресса. И на экспрессе нужно ехать 170 лет! Срок, не укладывающийся в рамки твоей жизни. 170 лет назад еще не было на свете Твоего отца и Твоего деда. Пушкину исполнилось всего четыре года, а первому поезду с неуклюжим паровозом еще только предстояло двинуться по планете. Как Тебе после этого не почувствовать некое почтительное удивление. Новая для Тебя информация стала причиной для возникновения нового чувства только потому, что я это новое облек в старые одежды.
Чем новее – тем лучше? Да нет, новое бессмысленно без старого, как будущее без прошлого.
Представим, что некий художник-сверхноватор создал картину, которая ничтоне напоминает, не несет ничегознакомого, того, что прежде вызывало какие-то чувства у зрителя. Ничто не способно и вызвать нечто, между художником и зрителем не произойдет общения.
Вспомни, как Ты чувствуешь себя в театре, когда идет пьеса на незнакомом для Тебя языке. Это не значит, что в картине и пьесе нет такого, что способно вызывать у Тебя чувство. Есть, но не донесено. В данном случае телеграмма отправлена, но испорчена линия связи, до адресата не дошла, общение не состоялось.
Художник обязан нести зрителю новое, если он будет потчевать старым, давно известным, то искусство такого художника будет походить на анекдот с бородой. И чем новее, пожалуй, тем лучше, но только изволь, художнику преподнести это новое через старое, привычное.
Чем новее, тем лучше не обязательно предполагает нечто абсолютно новое, революционно новое, не имевшее прежде прецедента. Часто, казалось бы, хорошо известная нам вещь, увиденная с иной позиции, в ином ракурсе, открывает нам в себе совершенно новые, не замеченные прежде стороны.
Отнюдь не нов, например, знаменитый любовный треугольник в литературе, но сколько великих произведений построено на нем. Или вспомните, как преподносит Евгений Шварц образы старых сказок. Его ветхозаветные короли для нас новы, потому что преподнесены под неожиданным ракурсом. Пироги-то старые, да начинка новая.
То, что преподносит нам художник, называется содержаниемпроизведения, то, в каком виде он преподносит, называется формойпроизведения. Сейчас мы можем сделать немаловажный вывод: содержание в искусстве стремится к новому, форма – к старому, привычному.
Но это вовсе не означает, что форме присущ консерватизм, что ей чужды какие-либо изменения. С каждым новым содержанием появляется и соответственно новая форма.
В примере с расстоянием от Земли до Солнца новое космическое содержание требует от нас и нового, неожиданного использования знакомого всем поезда. Мы его отправляем не в обычный путь, скажем, от Москвы до Бердичева, а через величественные просторы Солнечной системы. Использование для формы старого материала вовсе не исключает ее новизну. Только характер нового в форме появляется не произвольно, он определяется содержанием.
Бывает, что художник, создавая новую форму, сумел показать какие-то новые стороны вещи или явления, значит, он тут стихийно «набрел» на новое содержание.
Форма, не считающаяся с содержанием, живущая сама по себе, столь же невозможна и бессмысленна, как слово без значения, как сигнал без информации.
К чему же мы пришли? Да к общеизвестному, к тому, что стало притчей во языцех, – соответствию содержания и формы.
Мы знаем, что художник не может передать свое чувство так, непосредственно. Он передает не само чувство, а причину, его породившую, моделируя ее, то есть облекая в какую-то форму.
Теперь мы знаем, что материалом для формы, несущей новое, еще не прочувствованное содержание, художник должен использовать лишь то, что уже привычно для восприятия зрителя, знакомо ему.
А из этого вытекает и отношение к привычному, традиционному искусству. Если художник, создавая произведение, не считается с тем, что создали когда-то его предшественники, то он обворовывает сам себя, так как традиционное, привычное зрителю искусство неизбежно помогает почувствовать искусство новое. Художник, пренебрегающий традицией, не использует с максимальной возможностью духовный багаж зрителя, так сказать, выращивает свое растение на сильно обедненной почве.
Искусство – процесс общения, процесс не эпизодический, а постоянный, длящийся с незапамятных времен, в котором одно поколение передавало свой обретенный эмоциональный опыт другому поколению. Как ученый не в состоянии отмахнуться – знать не хочу того, что открыли до меня! – так и художник, как бы он ни афишировал свое новаторство, не может не считаться с традициями, до него заложенными. Не может потому, что будет выброшен тогда из общего процесса.
Когда мы слышим выражение: такой-то смело порвал с традициями, то не следует понимать его буквально – со всеми традициями, со всем прошлым. Скорее всего, этот дерзкий талант порвал с какой-то малой частью обветшавших, самих себя изживших традиций, но продолжает вовсю пользоваться накопленными до него традиционными запасами прошлого.
Утверждение: нельзя не считаться с традицией – не оригинально. Его можно было бы и не повторять, если бы многие не оглядывались с опаской: как бы тут не оправдать рутинеров, мол, виноваты в тупой невосприимчивости зрителей сами новаторы, которые недостаточно традиционны, а значит, и недостаточно понятны.
Взять хотя бы наиболее яркий факт из истории искусства – появление импрессионистов… Не получится ли, что издевательский смех и гнилые яблоки, летевшие в новаторские картины на первых выставках импрессионистов, – вовсе вина не обывателей, а самих художников? Они сами себя подвели, порвали с традицией, не пользовались привычным, тем самым сеяли на обедненной почве, оказались непонятыми.
Трагедия непонятого гения обычна в мире искусства, но никогда она не является доказательством того, что гений рвет с традицией, не пользуется трудом своих предшественников. Сам факт появления гения говорит о резком продвижении вперед, о скачке. Азбучно: искусство, как и сама жизнь, не развивается равномерно, не движется с неторопливостью равнинной реки, становясь все краше и величественнее. Искусству свойственны (быть может, еще сильнее, чем жизни) качественные скачки. Таким скачком было появление импрессионистов. Нет нужды разбирать сейчас причины этого скачка, достаточно согласиться – он был, искусство сделало резкий рывок. И просто невозможно допустить, что все могли поспеть за этим скачком. Многие остались на том берегу, исхоженном, утоптанном, знакомом до оскомины.
Тут даже дело не в том, что для отсталого зрителя формы, созданные художниками, были чувственно не воспринимаемы. Не воспринималось, скорее, содержание, повод, служащий основой для создания моделей.
Представим на минуту, что мы задались целью объяснить расстояние до Солнца какому-нибудь жрецу-солнцепоклоннику, для кого наше светило было одухотворенным божеством. Для него покажется оскорбительным само наше намерение. В показе расстояния до Солнца, как до любого неодушевленного предмета, жрец увидит посягательство на божественное. Он не примет сам повод для конструирования модели, и, уж как ни наряжай удивительное расстояние в знакомые для жреца одежды, все равно не вызовешь удивления. Тут не разрыв с традициями, а нечто большее – чудовищный разрыв в сознании.
Что-то похожее произошло и между импрессионистами и обывателями. На протяжении не одного столетия в картинах художников фигурировали лишь материальные вещи и люди, преимущественно возвышенные античные и библейские герои. Цвет и свет выполняли лишь скромную подсобную роль, были не целью изображения, а средством достижения цели. И вот вдруг эти цвет и свет материализовались на полотнах, стали самостоятельными «героями», содержанием произведения, а средством для их выражения оказывались люди, природа, вещи. Согласиться на такое – это не просто изменить вкусы, это пережить какой-то переворот в сознании. Такой переворот слишком серьезное явление, чтоб его можно было произвести с помощью одних лишь картин. Искусство влиятельно, но нельзя же преувеличивать его влияния. Вся жизнь должна подвести к этому. И захваченный врасплох обыватель, еще не подготовленный своей жизнью, отказался понимать импрессионистов. И результат – издевательский смех духовных недорослей, гнилые яблоки…
Художник должен стремиться быть понятным и простым для своего зрителя, но может ли это стремление идти за счет упрощения того, что он собирается показать, – обеднения содержания? Мы в свое время еще поговорим об этом.
Мы познакомились с тем, как в искусстве «неощутимое» передается через «ощутимое»: девятизначная цифра километров – через грубо зримый поезд, абстрактное – через конкретное. Но это свойственно не одному искусству.
Мы не можем ощутить, скажем, понятие «три», не можем и передать его, если не воспользуемся неким конкретным символом этого понятия, будь то арабская цифра – 3, римская – III, слово написанное или произнесенное. Само по себе понятие «три», оторванное от материальных вещей и конкретных явлений, – три горы, три овцы, три события, – чистая абстракция, которая воспринимается нашими органами чувств только через посредство чего-то конкретного, что можно увидеть, услышать, осязать.
Абстрактное неощутимо – казалось бы, очевидно. Но нет, нам возражают, и не кто-нибудь, а специалисты в этом вопросе. Вот, например, что говорит «Философская энциклопедия» в статье «Абстракция»: «Часто абстракцию понимают как синоним „мышленного“, „понятийного“, в противоположность чувственно-созерцательному, наглядно-данному. Однако абстракция может быть и не только понятие, не только мысленное отвлечение, но и чувственно-наглядный образ (например, геометрический чертеж, схема или произведения т. н. абстрактной живописи)».
Оставим до поры до времени в стороне произведения т. н. «абстрактной живописи», остановим свое внимание на геометрическом чертеже, который, по мнению автора этих строк, есть абстрактный чувственно-наглядный образ.
Возьмем для примера всем известную теорему: «Квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов», вспомним и знакомый нам чертеж – те самые, прославленные среди школьников «пифагоровы штаны». Этот чертеж – абстракция? Но по сравнению с чем? По сравнению, скажем, с иллюстрацией к басне «Кот и повар» – да. Но на каком основании делается такое сравнение столь разнородных, лежащих в разных областях явлений? Почему произвол не распространить и дальше, не сравнить этот чертеж с живой коровой или мертвым, но весьма конкретно-вещественным подойником? Не лучше ли его рассматривать в рамках того процесса, составной частью которого он является.
Доказывается отвлеченная мысль: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Для того чтобы лучше его понять, рисуется чертеж. И этим мы вовсе не абстрагируем и без того абстрактную мысль, а напротив, конкретизируем ее, представляем в виде наглядного рисунка – наглядного, доступного нашим органам чувств! Выходит, что этот чертеж, столь абстрактный по сравнению с окружающими нас вещами – коровой на лугу, пепельницей на столе, иллюстрацией в книге, – создан ради конкретизации чего-то еще более абстрактного. А уж если такая схема выполняет конкретные задачи, то называть ее абстрактной столь же неосновательно, как хирургическую операцию – садистским актом. Автор статьи в данном случае вырывает явление из среды, приклеивает характеристику по чисто внешним признакам – раз выглядит абстрактно, то так оно и есть. Детская истина: внешний вид часто обманчив.
Абстрактное, понятийное – не чувственно-наглядно, по это не значит, что конкретное непременно должно обладать этим качеством. Мысль в нашей голове может существовать сама по себе, не облеченная в слова или в какие-то символы. Чтобы ее передать, мы должны «одеть» ее в ощутимую форму. Но может же такая невысказанная мысль быть предельно конкретной: «Чайку бы попить…» Конкретность? Да! Но почувствовать ее можно не иначе как через посредство другой конкретности.
Чертеж теоремы Пифагора выполняет конкретную задачу, но по сравнению с земельным участком геометрической конфигурации этот чертеж – отвлеченная абстракция. «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» – абстракция, но в сложных математических доказательствах может конкретизировать что-то еще более абстрактно-отвлеченное. Между абстрактным и конкретным жесткой границы нет: как то, так и другое – относительно. 2х2 = 4 – казалось бы, чистейшая абстракция, но она давно стала для нас нагляднейшим примером предельной простоты: «Это просто, как дважды два четыре». Мы можем употребить и другое, равнозначное по смыслу, выражение: «Проще пареной репы». Пареная репа тут обрела некую отвлеченность, стала более понятийно-общей, абстрактной, «дважды два» опустилось до конкретности. Конкретное в нашем сознании способно переходить в абстрактное, абстрактное – в конкретное.
За мыслью прочно признано право быть абстрактной. Выражение «отвлеченная мысль» привычно для любого и каждого, не «отвлеченное чувство» режет слух, находится вне закона. Если его и употребляют, то большей частью иронически, чтобы специально совместить несовместимое. Отвлеченное чувство воспринимается как расплывчатость чувства, недостаточность его, чуть ли не отсутствие такового.
Но вдумаемся, разве мысль «отвлеченней» чувства по своей природе? Мысль не передашь непосредственно, а чувство?.. Я уколол себе палец иголкой, вполне конкретным предметом, испытываю боль, воздействие предмета стало принадлежностью моей психики. И это мое простейшее, казалось бы, конкретное из конкретных чувство нельзя ощутить органами чувств кому-то другому. Другой ощущает не мою боль, а признакиболи, мной проявляемые, – гримаса на лице, выкрик… Невысказанная мысль и непроявленное чувство одинаково неконкретныдля окружающих.
Как мысль мысли – рознь, одна может быть простенькой, сугубо конкретной, другая сложной, весьма отвлеченной, так и чувство столь же может быть отлично от другого чувства уже потому только, что наша способность чувствовать тесно связана с сознанием.
Когда-то утверждение: Земля имеет шаровидную форму – противоречило чувственному восприятию любого и каждого, все ощущали незыблемую Землю плоской. Теперь же большинство людей воспринимает округлость Земли как нечто вещественно-конкретное, не противоречащее личным ощущениям. Кто посомневается, что тут человек не обрел способность отвлеченно чувствовать.
Любая вещь в мире, любое явление как-то осмысляется нами. И если мы чувствуем вещь, то вместе с ней непременно должны чувствовать и мысль, с ней связанную. Мысль стала одним из важнейших – если не самым важным – источником эмоций, а значит, и предметом выражения в искусстве. Без мысли искусство просто не может существовать. Даже те произведения, которые осуждаются как очевидно глупые, тоже пользуются какими-то непрезентабельными мыслишками.
Разные мысли бродят по миру, и чувства тоже разные, связать их так, чтобы эти связи между мыслью и чувством отвечали интересам рода человеческого, – наверное, самая насущная и самая высокая задача на нашей планете.
Мысль сама по себе не ощутима, она может быть передала в искусстве только через что-то конкретное, хотя бы через чувственно-наглядный образ поезда. Но только ли образы зримых вещей служат средством выражения мысли? Нет, ощутить мысль может помочь другая мысль, уже знакомая, привычная, ставшая какой-то конкретностью для зрителя.
Вот хрестоматийный пример:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый,
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит.
Однако ж прав упрямый Галилей.
Обрати внимание, для того чтобы показать весьма абстрактную мысль относительности движения, Пушкин наряду с образной картинкой спорящих «мудрецов брадатых» призвал на помощь другую мысль – о вращении земли, настолько известную и доступно-конкретную, что даже не пришлось ее излагать целиком, достаточно намека на нее и громкого имени великого ученого, которого история связала с этой общеизвестной мыслью.
А в результате вызвано определенное настроение, которое не назовешь ни радостью, ни удивлением, ни горем, оно настолько сложнее этих простых чувственных реакций, насколько мысль об относительности движения сложнее бытовых мыслишек вроде: «Неплохо бы сейчас пропустить чайку». Этот комплекс чувств так отвлечен от конкретности, что не сразу поддается определению, мы даже не подыщем названия, что именно мы тут испытываем, а это может создать у нас впечатление неясности, неопределенности чувства.
Самое время поговорить об одном бытующем заблуждении. Конкретность часто смешивается с определенностью, тогда как абстрактность – с расплывчатостью, невнятностью. Тут нас подводит наш не слишком строгий житейский опыт. Обычно отвлеченное, абстрактное надвигается на нас из науки, именно наука чаще всего преподносит нам такие понятия, которые недоступны нашим непосредственным ощущениям, а потому кажутся невнятными, смутными, расплывчатыми. А в свою очередь и невнятное по причине своей расплывчатости легко создает впечатление некоей универсальности, применимости не к какому-то одному конкретному объекту, а ко многим, что и принимается за обобщение, а значит, и за «абстрактность».
На самом же деле абстрактность ничего не имеет общего с невнятностью. Напротив, необходимость абстрагироваться от конкретных вещей вызывается стремлением наиболее точно понять их, более точно, чем мы это можем сделать нашими органами чувств. Мы «на глазок» лишь весьма и весьма приблизительно можем определить прочность моста или тавровой балки, но инженер с помощью абстрактных формул определит это куда точней.
Как отвлеченная мысль не теряет точности, так и отвлеченное чувство не утрачивает силы и определенности.
Вижу, нюхаю букет – испытываю удовольствие. Тут связь прямая и короткая, а чувство простое и конкретное.
Вижу букет – вспоминаю прошлое, блуждаю по всей прожитой жизни, переживаю ее заново: «Как хороши, как свежи были розы!» Длинные, переплетенные друг с другом ассоциативные связи, а от этого и чувство мое обширно и сложно, шутка ли, раскинулось на всю жизнь, а если я еще свою жизнь приму за образец для всего человечества, то моя грусть, моя тоска, того и гляди, обретут всечеловеческий характер. При этом мое широкое чувство не обязательно должно расплываться в нечто смутное, размытое, скорей всего, оно окажется более сильным, а значит, и более определенным, чем простенькое удовольствие при виде цветов.
Не лучше ли на наглядном примере проследить, как художник идет от конкретного чувства к чувственной абстракции. Возьмем другое стихотворение Пушкина.
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге, вижу я…
«Вижу я» – конкретное чувство, вижу остатки некогда живой плоти, что-то задевается в душе, что-то еще неясное самому поэту. Конкретность далеко не всегда означает очевидность, она не исключает невнятности и расплывчатости.
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя…
Уход от конкретного «вижу», отвлечение от него, но не произвольное, не анархическое – куда хочу, туда и лечу! – а подчиненное внутренней логике, отправной точкой которой явилось «вижу цветок засохший», что-то чувствую смутное, хочу отделаться от смутности, выяснить, что именно чувствую.
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем?
Обрати внимание, чувство отвлекается от конкретности, а форма становится еще конкретней. В ней вещественные понятия – цветения, весны – и категорические, недвусмысленные, конкретные вопросы.
Но вот чувство достигает высот отвлеченности, идет эмоциональное решение необъятно общего, абстрактно-философского вопроса бытия и преходимости всего живого. И это умчавшееся от наглядной конкретности чувство выражено материально образной, осязаемо-конкретной формой:
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
Способность мыслить абстрактными категориями – величайшее человеческое достижение. Наверняка столь же великим обогащением человека является тесно связанная с абстрактностью мысли способность ассоциативно широко, отвлеченно, то есть абстрактно чувствовать.
Кажется, пришла пора нам повернуться лицом к так называемому абстрактному искусству, которое, наверное, и появилось для того, чтобы вызывать абстрактные чувства, иначе зачем бы вывешивать столь громковещательную вывеску.