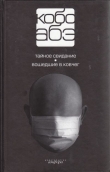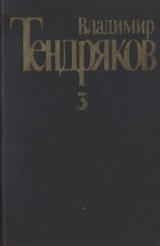
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
– Я стал алчным, мне нужны деньги, чтоб вырваться отсюда и без оглядок нырнуть в настоящую работу. Там и буду услаждать свой вкус.
– Вырваться… Ты наметил – куда?
– Сниму светлую комнату за городом, переоборудую ее в мастерскую.
– Нужны ли сейчас деньги на разбег? Только, пожалуйста, без церемоний!
– А это? – указал Федор на эскиз гастрономической витрины. – Это тоже деньги. На разбег хватит. Да и отступить уже нельзя – договорился, аванс взял.
– Ладно, – буркнул Валентин Вениаминович, взялся за шляпу, еще раз оглядел стиснутую облупленными стенами пыльную комнатушку, продавленную кровать, стол, где лежал гастрономический эскиз. – Да-а… Прикрыл глаза веками. – Путь на Олимп лежит не через райские долины.
Федор усмехнулся:
– А подойдя к Олимпу, увидишь, что мест свободных нет – старые осы свили гнезда, потесниться не в их интересах.
– Старые осы?.. – сердито уставился Валентин Вениаминович. – Кто молод, тот прогрессивен? Кто стар, тот рутинер?
– Я только хотел сказать, что к почестям я славе добираются те, у кого силы на исходе. Скипетры принимают дряхлые руки.
– А я знаю одного старейшего скульптора, который чуть ли не полвека назад удивил всех своими первыми работами. А то, что он сделал после, превосходит произведения молодости. И он не на Олимпе, нет, музеи хранят его произведения, созданные сорок лет назад, а новые шедевры стоят в мастерской. Я знаю и другого старика, он всю жизнь бьется за признание. Ты, кажется, чуть-чуть веришь моей непредвзятости, моему вкусу. Так вот я заявляю – он величайший график нашего времени! А он зарабатывает себе на хлеб случайными заказами. Сколько талантов в живописи, истинных талантов, дожив до седых волос, оттеснены энергичными молодыми приспособленцами. Нет прогрессивной молодости и рутинной старости, есть самозабвенные таланты и воинствующие бездари. Не дели на старых и молодых, граница проходит не по возрастной меже.
– Вы правы. – Федор не удержался, чтобы не съязвить: – Пример этому наш шеф – он ведь еще не очень стар…
Валентин Вениаминович нахмурился, отвернулся, разыскивая глазами шляпу, хотя держал ее в руке. Как всегда, о шефе, директоре института, он предпочитал молчать. И Федор пожалел – удар ниже пояса.
– Однако пора… До свидания.
Федор проводил его до дверей.
– Чернышев окончил картину, – сообщил он.
– И как?
– Зайдите посмотрите. Он будет рад.
– Зайду обязательно… Да, передай привет милейшему Савве Ильичу. Он жив?
– Не то чтоб очень. Болеет старик.
Дверь закрылась, Вера Гавриловна предстала перед Федором.
– Это кто же такой?
– Ангел-хранитель, – ответил Федор.
8
Николай Филиппович оказался самим директором гостиницы – меланхолично-спокойный человек с дряблыми бульдожьими щеками, плотное тело упрятано в отлично сшитый костюм.
– Моя фамилия – Матёрин. Я художник.
– Так, так… – Николай Филиппович вышел из-за сверкающего новым лаком стола. – Очень приятно…
Здесь все кругом было новое, гладкое, стремящееся отразить в себе твою будничную физиономию. На широкой мраморной лестнице, по которой только что подымался Федор, лежала красная неистоптанная ковровая дорожка, на площадках, отмечая лестничные пролеты, стояли золоченые фигуры каких-то задрапированных фей – претензия на старину. Стены холлов и коридоров облицованы под дерево, блестят, словно политы водой. Двери дорогих номеров высокие, тяжелые, перед ними берет оторопь – того и гляди, не хватит сил открыть. Все коричневое, черное, сумрачное, и почему-то хочется здесь говорить шепотом, почему-то тянет спрятаться, да негде.
Николай Филиппович повел Федора коридорами, по пути любовно трогая вялой рукой то скользкую стену, то бронзовые завитки каких-то слоноподобных торшеров с линяло-голубенькими шелковыми колпаками, и его лицо было озабоченным и значительным. Наверное, с таким лицом монастырские прислужники открывали доступ к святым мощам.
«Куда это он меня тащит?» – гадал Федор.
Оказалось, что Николай Филиппович вел его к пустой стене в холле. Остановился, заговорщически значительно, через плечо, поглядел на Федора, скупо кивнул:
– Вот.
Федор ничего не видел, кроме пустой, до зеркального блеска отполированной стены.
– Вот тут, по нашим замыслам, должна висеть картина. Она… – Рука Николая Филипповича в дряблой стариковской коже совершила что-то похожее на латинское знамение: вверх к потолку и вдоль пола. – Она займет вот это все пространство. Ни больше ни меньше. Меньше нельзя, будет портить ансамбль. У нас уже измерено – метр восемьдесят на два двадцать пять.
«Неплохо для начала», – подумал Федор.
– Как вы понимаете, мне нелишне знать, что бы вы хотели здесь увековечить? – спросил он шефа.
– Об этом мы с вами поговорим за столом, – важно заметил Николай Филиппович. – Идемте.
И снова коридоры, забранные в отлакированную фанеру, ковры, скрадывающие шаги, монументальные двери, снова вялая ладонь директора ласкает вычурную бронзу светильников.
– Садитесь, прошу вас, – указал он на кресло, порылся в ящике стола, достал репродукцию, положил перед Федором: – Вот.
На репродукции: под открытым небом длинные столы, заваленные снедью, жареные гуси, горки яблок, вокруг столов – бороды почтенных стариков, галстуки молодых, расшитые косоворотки, девичьи платья городского покроя. Репродукция со знакомой картины директора института «Колхозная свадьба».
– Вам, конечно, известна? – со своей меланхоличностью спросил Николай Филиппович.
– Да, – ответил Федор.
– Автор этой картины – ваш учитель?
– Он директор нашего института. Это еще не значит, что он мой учитель.
– Все равно, все равно, он нам рекомендовал вас как весьма талантливого художника. Нам вполне достаточно словесной рекомендации такого человека.
– Вы хотите, чтоб я для вас сделал копию?
– Э-э, не совсем… – замялся Николай Филиппович. – Копия – это и хорошо и плохо. Копия, к сожалению… Вы сами понимаете…
Грустноватый, чуточку обескураживающий взгляд вылинявших глаз, свисающие щеки, поджатые губы. Федор ничего не понимал.
– Вы же видели, мы связаны определенными размерами: метр восемьдесят на два двадцать пять, ни сантиметра больше, ни сантиметра меньше, иначе нарушится наш ансамбль…
– Не понимаю.
– Формат этой картины совершенно другой. Мы же учитываем: произведение искусства, законченность, так сказать… Обрубать, подгонять – кощунство…
– Ну и что же вы хотите, в конце концов?
– Создайте нам подобие этой картины. Со всем, так сказать, оптимизмом, жизнеутверждением данного произведения… Торжественный праздник в нашей советской деревне, солнечный, радостный. Словом, в духе этой работы, но по-своему, чтобы самостоятельное произведение… Метр восемьдесят на два двадцать пять.
Федор готов был все силы вложить в этот заказ. Все силы, все мастерство, весь талант без остатка. Дайте свободно поразмыслить, и эти лакированные, неуютные стены он сделает фоном своей картины. Пышный холодный холл, казенно украшенный, – пусть! Но тем ярче, тем теплее будет выглядеть его холст, он это в силах сделать! Сюда будут приезжать иностранцы, а язык прекрасного международен. Он напишет так, что заморские гости станут восторгаться даже против собственного желания. В среде художников пойдет молва, начнется паломничество в этот холл. Дайте только свободно действовать, и он удивит. Тщеславие? Может быть. Какой художник лишен тщеславия?
Свисающие щеки, меланхолический взгляд – лицо, не отмеченное ни печатью энергии, ни живой мыслью. Старый, от природы добрый человек, страдающий, верно, болезнью почек или несварением желудка. Метр восемьдесят на два двадцать пять – бород, галстуков, солнечных бликов – такой, как эти новенькие стены, казенной радости. Склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся, и поклоняйся тому, что сжигал, и тебе заплатят деньги.
– Я этого делать не буду.
– Почему? – Щеки дрогнули.
– Просто для такой работы я, кажется, не подхожу.
– Но нам вас рекомендовали как талантливого художника. Мы можем пошевелить только бровью, и к нам прибегут…
– Не сомневаюсь.
– Но мы не можем удовлетвориться каким-нибудь ширпотребом.
– Наверное, придется… Во всяком случае, я отказываюсь.
И голос Николая Филипповича отвердел, в нем проснулся не ценитель искусства, а администратор, человек с деловой жилкой, свято верящий, что все на свете материально, а все материальное оценивается в рублях и копейках.
– Мы платим три с половиной тысячи за эту работу.
– Соорудив такие двери, настелив такие ковры, вы могли бы предложить и больше.
– Хорошо. Я вижу, вы знаете себе цену, – четыре.
– Не собираюсь торговаться с вами. До свидания.
– Послушайте, я же не вотчинник, который распоряжается доходами, как ему заблагорассудится, у меня государственное учреждение. Мне отпущено на такую работу четыре тысячи – и ни копейки больше.
– Для многих этого будет вполне достаточно, уверяю вас.
– Хорошо, хорошо! Четыре с половиной!
– Прощайте.
Федор толкнул податливо тяжелую дверь, вышел в коридор.
По ковру, лежащему на мраморных ступеньках, мимо золоченой бронзы, мимо овальных, на слоновых ногах столов… Метр восемьдесят на два двадцать пять – оптимистическая колхозная свадьба, оцененная администраторским вкусом вполне прилично – четыре с половиной тысячи рублей.
На улице он отыскал телефон-автомат, опустил монету, набрал номер.
– Валентин Вениаминович?.. Говорит Матёрин.
– Ах, это ты, дружок! Ну как?
– Валентин Вениаминович, вы знали, что это за работа?
– Знал одно – заказ на картину, не больше, без подробностей.
– Ну, слава богу!
– Почему – слава?..
– А я уж о вас плохо подумал.
– Совсем неприемлема?
– Я должен был написать полотно по типу небезызвестной вам «Колхозной свадьбы».
На другом конце провода молчание…
– Я этого сделать не могу, Валентин Вениаминович.
Снова на минуту молчание, затем сдержанное:
– Я понимаю, но… боюсь, лучшего не подвернется.
Федор забыл, что Валентин Вениаминович о своем шефе, директоре института, никогда не говорил ни плохо, ни хорошо – ни о нем самом, ни о его работах.
9
Дома все семейство – Вера Гавриловна, Аня и ее муж, Виктор и Сашка – сидели в одной комнате. У Виктора на лбу кровавая ссадина, лицо серое, мученическое, глаза тусклы, при появлении Федора вздрогнул, поежился, Что-то опять случилось в этих стенах.
Аня с презрительно отвисшей губой проговорила:
– Я всегда знала, что она так кончит.
Миша, ее муж, сидит нога на ногу, голова уютно покоится на широких плечах, в черных глазах выжидающе опасливый блеск. Он веско сказал:
– Кислотой бы вытравить эту ржавь. Кислотой. Да.
Вера Гавриловна испустила свой безнадежный вздох:
– И нужно опять Витьке ввязаться. Отметили по лбу, кавалер хороший.
И Виктор взвился, по серому лицу – пятна, в глазах – бешеными искорками выдавленные слезы:
Идите все к черту! Идите все!! Какое вам дело до них, до нее, до меня! Жалеете! Вздыхаете! Упрекаете! Врете! Вам ведь на все плевать! На все! К черту! К черту!!
Отвернулся в угол, вздернул плечи.
Никто не пошевелился, все, в том числе и мать, смотрели на него со спокойным, чуточку презрительным сожалением. Только у матери на стертом лице было больше беспомощной жалости, чем у Ани и у ее мужа.
– В чем дело? – спросил Федор.
– Опять с этой Аллой… Наш дурачок не утерпел, ввязался. Лешка Лемеш – видели? – по лбу протянул, – покорно объяснила Вера Гавриловна.
«Дурачок» лишь передернул плечами при словах матери.
Аня отрешенно глядела мимо Федора. Она не любила жильца, занимавшего комнату, которая, как считала, должна принадлежать ей по праву.
Федор прошел к себе. А через пять минут явился Сашка – на постновато-невинной мордочке нетерпение, под ресницами нехороший веселенький блеск.
– Иди-ка спать, – попробовал его отослать Федор.
– Алку-то продали… – хихикнул Сашка.
– Как продали? Что мелешь?
– Вот и продали.
– Кто?
– Лешка.
– За что?
– За что продают? За деньги.
– Рассказывай быстро да катись.
– Арсения Ивановича Заштатного знаете?.. У которого «Победа». В тридцать пятой квартире живет…
– Знаю. Физиономия круглая, вежливый…
– Он с Лешкой договорился – приводи Алку ко мне. Давно уговаривал, да мало давал. Лешка не соглашался, просил тыщу рублей…
– Не ври!
– А я не вру. Может, не тыщу, может, больше, кто знает. У Заштатного денег чемоданы. Артелью заведует, У него там все жулики, а он самый главный. Еще бы не богач…
– Не мели!
– Вчера Лешка с Алкой пошли к Заштатному как бы в гости. Лешка-то посидел да ушел, вроде за гитарой, а Алка осталась. Заштатный – дверь на ключ… Ночь просидела, на другой день к вечеру только вышла. Хи-хи!..
К вечеру выпустил… Она на Лешку. Хи-хи!.. Царапалась… Дура, никто бы не узнал… Хи-хи!..
Этому мальчишке неплохо жилось во дворе – что ни день, то новое событие, не заскучаешь. В глазах – дрянненький смешок, на губах блуждающая улыбочка человека, знающего житейскую изнанку. Ни возмущения, ни отвращения, напротив, удовольствие: ах, интересно! И это для Федора было страшно, страшней, пожалуй, того, что сейчас услышал.
– Витька узнал – и на улицу. Он ваш ножик схватил. С ножом… Лешка его сначала трогать не хотел: уйди, говорит… А тот лезет, размахивает. Ну, и ножик отобрали и побили. Поделом, кавалер хороший…
– Хватит! – оборвал его Федор.
– Алка-то… Хи-хи!.. Кричала: «Назло всем проституткой буду!» Хи-хи…
Федор взял его за плечи и вытолкнул из комнаты:
– Иди спать!
Утром к Федору пришел Виктор: чистая праздничная сорочка, мокрые расчесанные волосы, лицо бледно до голубизны, на лбу засохшая ссадина, под внешним спокойствием – решительность скрученной пружины.
– Уезжаю, – сказал он.
– Куда?
– Не знаю. Все одно куда. Подальше бы… Может, в Сибирь, может, на Дальний Восток.
– Что ж… – Федор помолчал. – К лучшему.
Виктор сел к столу, кося глаза в угол, сказал вдруг:
– Во время войны в соседний двор фугаска попала…
– А это к чему?
– А к тому, почему не в наш. Все бы на кусочки разнесло.
– И тебя бы, дурака, тогда не было.
– Пускай. Кому я нужен!
– Надеешься завербоваться на работу – значит, нужен кому-то. Ненужного не возьмут.
– Не пойду вербоваться – обойдутся без меня?
– Обойдутся.
– Значит, не так уж нужен.
– А ты хочешь, чтоб мир без тебя жить не мог, великий человек?
– Хочу, – ответил убежденно Виктор. – Пусть не мир, а чтоб кто-то. Хоть один человек не мог жить без меня на свете. Я умру, и он умрет. Вы думаете, я матери нужен? Нужны ей мои копейки, которые я зарабатываю. – Дернул раздраженно головой, спросил неожиданно. – Вам бы хотелось сидеть на месте Сталина?
– Вот никогда не применял себя к его стулу.
– А мне бы хотелось. Посадили бы меня, я бы тогда знал, что делать.
– Что? Интересно.
– Стрелял людей.
– Что-о?
– Собрал бы войска, отдал им приказ: ездите из города в город, ходите по дворам и стреляйте без жалости таких, как Лешка Лемеш или как эта тихая сволочь Заштатный.
Федор стоял над Виктором, разглядывая в упор. Тот сидел перед ним, долговязый, нескладный, болезненно бледный, пугающе убежденный, – мальчишка, безрассудно верящий в случайно подвернувшуюся мысль. Над такими властвует минута, она-то и толкает на преступления.
– Чуть поздновато ты родился, – сквозь зубы произнес Федор.
– А что?
– Был такой правитель, точно по твоему вкусу.
– Кто?
– Гитлер.
Виктор помолчал. И тогда Федор пошел на него грудью:
– Хочешь, сморчок, чтоб тебя любили, чтоб жить без тебя не могли? Хочешь?..
– Ну?..
– А за что? За то, что готов стрелять людей? За что любить? А еще Лешку упрекаешь…
– Я бы за деньги девку не продал, какая бы она ни была.
– Да что тебе девка какая-то, что тебе мать, ты же мечтаешь, чтоб на них фугаска упала! Ты ненавидишь всех! Лешка, по-твоему, гадина, а ты-то хуже.
– Я? Лешки?
– Ему плевать на людей – на тебя, на твою мать, на Алку. Нужно – затопчет в грязь, нужно – пырнет ножом, не задумываясь. Ты за это его не любишь?
– Ненавижу!
– А сам?.. Не нож, так винтовку готов взять против людей. Еще в правители себя ставишь. Такому правителю лешки самые подходящие помощники. Ненавидишь?.. Да тебе целовать его надо в сахарные уста. Ты с ним – два сапога пара!
Виктор съежился, кособоко склонил голову, и Федор почувствовал – пробил, плачет.
– Ну что? Посмотрел на себя со стороны – красив?
– Я ведь так… К слову… – выдавил из себя Виктор.
– И Гитлер сначала всего-навсего орудовал словом, да кончил печами, где детей жег.
– Но что – прощать? Прощать Лешку?
– Нельзя!
– Значит, ненавидеть?
– Да.
– Не пойму. То ругаете, что ненавистник, то говорите – ненавидеть!
– Ненавидеть уметь надо, слепой котенок! Ты же вместе с Лешкой готов ненавидеть мать, которая тебя, дурака, грудью выкормила. Ты порой меня ненавидишь, хотя я тебе ничего плохого не сделал. Разбирайся – кого и за что! Умей глаза держать открытыми.
Виктор молчал, не подымая головы.
– У меня все спуталось, – горестно признался он наконец.
– Ты вот хочешь уехать – езжай, погляди, пощупай мир. Поумнеешь.
Виктор вскинул на Федора красные глаза, сразу отвел, буркнул в сторону:
– А если не поеду, расхотелось вдруг…
– Почему так?
И взметнулись блестящие от слез глаза, и выступил румянец, и, быть может, первый раз в жизни прорвались непривычные слова признательности:
– Кто знает, встречу ли я там такого, как вы. Вдруг да будут попадаться все лешки да заштатные.
– Э-э, дурак, если б на свете жили одни лешки, давно земля стала бы пустой. Люди-лешки вырезали бы друг друга.
Виктор подумал и согласился:
– Верно… Ладно. Поеду. И вы уезжайте скорей отсюда. Вас съедят.
– Кто?
– Анка с муженьком своим. Вы ведь комнату их занимаете.
– Отдам я им комнату. А ты мать свою не забывай.
– Само собой. Анка-то на мать не раскошелится. Вот и скажите мне: любить ее или ненавидеть?
Федор не ответил сразу: любить или ненавидеть – великая наука, не каждый человек постигает ее даже в зрелом возрасте.
В этот день, выходя из подъезда, Федор столкнулся нос к носу с Заштатным. Упитанный багрянец на щеках, рыхлый нос, выражающий простодушие, с конфузливо-ласковым выражением уступил дорогу, из-под припухших век кольнули глазки. Зачесались кулаки, но Федор прошел мимо. Не дано ему право судить и наказывать. Ему не дано, а закон не заметил – сойдет с рук, отделается только конфузом этот конфузливый человек.
А вечером в квартире был большой скандал. Мать воевала с дочерью. Зять время от времени показывался в коридоре, чтоб все видели, какой у него глубоко оскорбленный вид и как он при этом сдержан: не бросается сломя голову в грызню.
Мать и дочь ругались из-за комнаты, которую занимал Федор.
Рано или поздно мать уступит, дочь победит, и Федору придется собирать свои вещи. Нужно уезжать. Нужно найти мастерскую. Нужно полгода независимого времени. Как ни кинь, нужны деньги.
Плох тот стратег, который идет к победе нацеленно по геометрической прямой, не делая обходов, не предусматривая отступлений. Существует картина, пока что созданная лишь администраторским гением директора гостиницы, – метр восемьдесят на два двадцать пять…
И Федор решился…
10
У Герберта Уэллса есть рассказ. Мальчик открыл зеленую калитку – из городского захолустья с пылью, грязью, вонючими лавчонками попал в сад, где бархатные пантеры ласкались, как домашние кошки. Мальчик очнулся на мостовой, среди лавчонок и прохожих, исчезла дверь в стене, кончилась сказка, началась жизнь – школа, колледж, служба, уже маячило кресло в правительственном кабинете. Но зеленая калитка в стене преследовала, ждал ее, хотел открыть снова, вплоть до смерти…
Калитка не зеленая, просто ветхая. Рядом на столбе – кнопка звонка под ржавым жестяным козырьком. Заполнили небо обильной зеленью два старых дуба. И тянет забытым бражным запахом моченых яблок. Федор, придерживая перекинутый через плечо ремень этюд-, ника, медлит нажать кнопку звонка.
За оградой – влажная тень от разросшихся кустов. Шесть с лишним лет тому назад Федор однажды вошел в эту калитку… Шесть лет, оглянешься – довольно-таки пестро. Снилась калитка? Думал о ней?.. Нет, забыто, заплыло, былью поросло. Но где-то в подвалах памяти хранилось: сношенные каменные ступеньки крыльца, сумрак просторных комнат, в которых, казалось, застоялся воздух прошлого века, тяжелая мебель – современница извозчиков-лихачей… Дом, где приходят в голову успокаивающие мысли: жили люди, люди живут, люди будут жить, какие бы страшные слухи ни ходили о водородной бомбе.
Сжимается сердце… Может быть, так выглядит наяву дом Саввы Ильича, счастливая крепость художника, мечтой о которой был в детстве заражен Федор? Непохоже, не то, но мечты детства, если они исполняются, всегда имеют другую физиономию – сразу не признаешь, забудешь сказать: «Здравствуй».
Наверно, у каждого человека есть в жизни своя заветная калитка, в которую хотелось бы войти.
Федор протянул руку к звонку, нажал кнопку…
Где-то в стенах, пропахших вековой книжной пылью, вздрогнула тишина – пришел гость извне, старый гость… Признают ли? Не встретят ли холодным недоумением?
Дремал сад под солнцем. Валялись посреди дорожки забытые садовые грабли. В сонной листве деловито перелетала синица. Пусто… Эти электрические звонки на старых калитках никогда не работают.
Дремал сад, и только на верхушках дубов листва шевелилась от ветра. Забытые железные грабли на дорожке – значит, люди живут, не вымерли, не уехали. Но, может, живут другие люди?..
Федор без особой надежды еще раз нажал кнопку, выждал с минуту и хотел повернуться…
Синица взлетела вверх. Хлопнула дверь, за кустами поникшей от жары сирени бойко-бойко зашуршали шаги.
Девушка, тонкая, как чуткий к ветру таловый куст, загорелые колени играют легким подолом сарафана, летит словно навстречу радости – просто ходить иначе не может, – а лицо выжидательно-серьезное, вглядывается сквозь штакетник.
– Вам что? Входите, не закрыто.
Короткие, от солнца выгоревшие в рыжинку волосы, брови строгого и точного рисунка, голубые глаза с девичьей бессмыслинкой. И в незнакомом лице, как отдельные слова и фразы в забытом стихотворении, припоминаются знакомые черты – линия лба, брови и что-те в крыльях носа… Она! Однако шесть лет с хвостиком – срок немалый.
И молчание Федора ее смутило, брови двинулись к переносице, изобразили строгость.
– Вам что?
Федор развел руками, ответил смущенно:
– Да как тут скажешь сразу…
И она до слез в глазах вспыхнула:
– Вы?!
– Неужели узнали?
– Это вы! Вы такой же.
– А вы изменились. Еще как!
– Портрет?.. Вы, помните, меня рисовали?
– Не помнил бы, не пришел.
– До сих пор висит… Да идемте в дом. Идемте быстрей!
И она пошла вперед, почти на каждом шагу нетерпеливо оглядываясь, как охотничья собака, которая боится оторваться от медлительного хозяина. Синие цветочки на подоле сарафана рябили в глазах.
А Федор глядел на нее, чувствовал и неуклюжую тяжесть своих шагов, и громоздкость тела, и косную медлительность человека, вошедшего в зрелую пору. Она оглядывалась, звала и подгоняла взглядом.
«Выросла-то, вот чудо…»
Чопорный сумрак, запах книжной пыли, вросшее в выщербленный пол медными катушками старое пианино и обширный стол, к которому в напыщенном стиле классических романов хочется добавить – на столько-то персон. Шесть лет… Что шесть лет для этого угла, сумевшего сохранить воздух прошлого века. Ничего не изменилось. Хотя нет…
– А дедушка-то умер, – сказала девушка.
Она это сказала просто, без вздоха, без тени на свежем лице. Дедушка умер – она успела пережить это горе, свыклась с ним. Шесть лет…
Столкнись Федор с ней на городской улице, наверно бы не оглянулся вслед. Светловолосое, светлоглазое, заурядной правильности лицо – сотни таких проходят мимо. Но в пыльной комнате, средь суровых потемневших вещей, в монашеской отрешенности от июльского дня 1952 года, она, загорелая, с оголенными руками, в легкомысленном сарафанчике из веселой ткани, казалась оглушающе яркой. Федор не переставал про себя удивляться: «Выросла. Вот чудо-то!»
Он, пожалуй, ни разу ее не вспоминал. Забыл даже о портрете, который набросал походя плотницким карандашом. Его, как кошку, тянуло к дому, а не к хозяевам.
– Мама работает на старом месте, везет на себе хирургическое отделение… Я учусь в институте… Тоже медицинский. Фамильная традиция… Уже окончила первый курс.
В пять минут было рассказано все, что случилось в этом доме за шесть лет.
– Вы теперь художник?
– Считаюсь.
– Почему считаетесь? Что за слово?
– Для того чтобы стать художником, надо что-то сделать. До сих нор занимался тем, что кормил будущую картину.
– Кормили картину?! Как это?
– Халтурил.
– Что за слово?
– То есть занимался работой ради одних лишь денег. И вот заработал, ищу комнату, где мог бы устроить мастерскую, писать свою картину и ничего другого не делать.
Мать Оли, Ольга Дмитриевна, сообщение, что Федор снимет в их доме мастерскую, приняла без особого энтузиазма. Любая мать испытывает страх за свою дочь перед лицом малознакомого мужчины. Но, видать, в этом доме законодательницей стала Оля.
Федору согласились предоставить громадную столовую.
11
Оля вызвалась проводить Федора: «Все равно мне нужно бросить письмо. Брошу на станции».
Но едва они вышли на крыльцо, как увидели, что над поселком растет и угрожающе разворачивается в черноту синяя туча. На их глазах она дотянулась до солнца и проглотила его. Сразу стало серо и тревожно в мире. Заламывая растрепанные крылья, летели боком, в смятении и ужасе, вороны. Ветер внезапно свалился, разворошил кусты, пригнул их к земле, вырывая и унося листья. Дубы гневно зароптали над головой, заскрипела ржавая крыша. А по дороге неслась пыль, в ее клубах отчаянно метались куски мятой бумаги.
Дождь был короткий и сильный. Плясала неистово листва кустов, потемнел забор. Брызги накрывали дорогу молочной пеленой. А старая крыша дома набатно гудела. И с треском ломалось небо. Бледнела кутающаяся в кофточку Оля.
Что-то надорвалось в грозном небе: гром, прокатившийся над крышей, прозвучал глухо, бесцветно, кусты настороженно подняли листья. Дождь внезапно прошел.
Дождь прошел, и закат поджег тяжкие горы облаков. А внизу, под нависшими раскаленными громадами, в оцепенении переживал кроткую минуту обмытый дачный поселок.
С неподвижной листвы капала вода… Тлели лужи на потемневшей дороге… Блестели железные крыши… Из палисадников, от кустов, от травы, из всех пор размоченной земли истекал сложный запах поздних цветов и подпревающих корневищ.
Казалось, воздух настолько густ и плотен, что стоит привстать, махнуть руками – и поплывешь вверх, любуясь под собой тучным дном океана, на котором ты имеешь счастье жить.
Закат отражался в широко распахнутых глазах Оли.
– Что случилось? – спросила она тихо.
Федор жадно оглядывался вокруг.
– Что случилось? Что случилось? – У нее размягченное лицо и глаза, направленные к закату, подозрительно блестят. – Я уверена – что-то случилось! Особое, не дождь. Простой дождь не запомнишь на всю жизнь. Я чувствую – это запомню!
– Только дождь… – Федор стал нерешительно стягивать с плеча ремень этюдника.
Прошел дождь и принес счастье… Ах, вот так и приходит оно с каким-нибудь дождем, нечаянно.
Падали редкие капли, сверкали в воздухе, искрилась мокрая листва, тлели под закатом лужи…
По дороге шла женщина, тонкое платье обтягивало коренастую фигуру, мокрые слипшиеся волосы упали на Щеки, в одной руке туфли, в другой – увесистая авоська, лицо сосредоточенно, выбирает дорогу, не привыкла ходить босиком.
– Что, если подойти к ней?.. Оглянись – счастье же! Много ли ты видишь счастья в жизни? Оглянись! Что, если подойти?.. Мне почему-то жаль ее.
По дороге шла босая женщина, кипел закат, пылала зелень, тлели лужи. Ощетинясь высохшими сучьями, стояла ель, ее хвоя, смоченная дождем, темная, благоухающая, была привольно раскинута над дорогой. Ель отражалась в луже, сама лужа наполовину раскаленно теплилась, наполовину была по-глубинному черна, как сколок бездонного омута. И шла женщина босиком в мокром платье…
Федор со стуком поставил на крыльцо этюдник, сел прямо на мокрые каменные плиты, опрокинул крышку…
По загрунтованной картонке он не наметил рисунок – некогда, сейчас все исчезнет – уйдет женщина, погаснет закат, высохнет хвоя, увянут лужи. Сейчас все кончится, это минутный каприз, счастливая случайность – безумие пытаться ловить ее. Но уже брошено чуть приправленное киноварью белое пятно – тут будет гореть закат. Взмах кисти – смолисто-черная полоса, она превратится в ствол ели.
Уходит женщина, чуть согнувшаяся под тяжестью авоськи. Исчезнет из глаз, но оставит в памяти след. Память можно овеществить. Пусть уходит, оставляя за спиной истекающие огнем лужи.
Федор отбросил кисти, схватил мастихин, на гибкое лезвие набрал краску, почти со всей палитры – варварское месиво. Прицелился, поколебался и ударил… Кусок дороги, кусок притоптанной, смоченной влагой земли – широкий гладкий мазок. Вытер тряпкой лезвие, на кончик мастихина набрал новую краску – загорелась первая лужа…
Остановись, мгновенье, – ты прекрасно! Ушла женщина, не догонишь. Незнакомая женщина со своими заботами, не обратившая внимания на случайный праздник в природе… Ушла, и мало-помалу потухли лужи, потускнела пылавшая зелень… Остановись! Нет…
Память пока держит все. Пока… но и память стирается, и она невечна. А сейчас она свежа, встревожена, ее тревога передается руке. Рука мечется от кисти к мастихину, мазки густо замешанной краски становятся плотью.
Федор откинулся, издал довольное мычание.
Брызжет кипящий закат на внутренней крышке этюдника, и воздух, густой, насыщенный запахами и парной влагой, и пламенеющая мокрая зелень, и лужи, и мрачная вязкость смолистой хвои, и женщина никуда не ушла, она сгибается под авоськой, босые икры рдеют на закате.
Остановись, мгновенье!.. Что ж, пожалуй…
Федор начал не спеша вытирать кисти и только тут вспомнил, что за спиной стоит Оля.
12
Федор переехал.
Оля ждала новых чудес, но они случаются не часто. Федор завалил старую почтенную столовую набросками с шагающими ногами. Оля разглядывала их, как археолог только что откопанную надпись неизвестной культуры, – почтительно, с предельным любопытством и затаенным мучением – не понять.
– Что это? – спрашивала она.
– Записи для памяти.
– Записи? Мыслей?
– В общем да, мыслей.
– Странно, а их нельзя записать как обычно – алфавитом?
– Пожалуй, нельзя.
И Федор сам удивился вместе с Олей: «Действительно, странные мысли, словом их не выразишь, только линией или цветом».
Перед тем как переехать, Федор проводил на вокзал Виктора. Тот уезжал на Сахалин к отцу. Несмотря на жару, в тяжелом осеннем пальто, в кепчонке, какие носят приятели Лешки Лемеша, и с потертым чемоданчиком, где лежала пара чистого белья да буханка хлеба на дорогу. Мать Виктора вздыхала и утирала глаза платочком. Сын сурово наставлял ее: