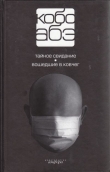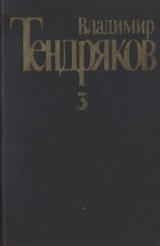
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
– Где уж…
– Есть лучше, есть хуже, но такого, точно такого Льва Слободко нет. Я – личность, я – индивидуальность! Проникни, жалкий реалист, в эту суть – личность! Ин-ди-ви-ду-альность!
В это время в комнате появилась другая личность – мокрый, иззябший, с прозрачной капелькой под красным носом Лев Православный. Он, как пчела, чующая за километры мед, прилетел вовремя.
Слободко, барабаня в грудь кулаком, гремел:
– Должен я выразить себя! Се-бя! Свою суть! Свою индивидуальность! Нет, меня душат, обстригают по образу и подобию некоего заданного наперед художника. Не-е хочу! Пр-ро-тес-тую!..
– Старик, – вступился Православный, не успев вылезти из своего замызганного, с облезшим мерлушковым воротником узкого пальто, – старик, этот пьянчужка говорит умные вещи.
– Пр-равославный! Др-руг! Дай обниму тебя! Дай поцелую!
И Лева Слободко облапил шмыгающего простуженным носом Православного.
Вячеслав Чернышев кивнул Федору:
– Символическая картинка – ярый западник лобызает ярого славянофила. Это доказывает, – что ни поп, то батько, суть одинакова. Хочется плакать от умиления.
Федор, как всегда, молчал и жадно ловил каждое слово.
Лева Православный выкарабкался из жарких объятии своего друга Слободко.
– Сгинь, нечистый! Не мешай трезвым.
– Сгину, сгину, так как свято верю в твою честность. Дай еще раз поцелую…
– Федька, оттащи его к чертям собачьим.
Федор повернул спиной Слободко, легонько поддал коленкой, толкнул на койку Ивана Мыша.
– Я пьян, но я личность… Круши ортодоксов, Православный. Благословляю! Ты, Матёрин, тоже убогий ортодокс. Насквозь вижу. Деревня всегда была ортодоксальна…
– Пошел молоть, – возмутился Православный. – Но он прав, когда говорит о личности. Он прав, старик, – в искусстве личности должна быть предоставлена максимальная свобода.
– А как ты понимаешь свободу личности? – Чернышев сел на койке по-турецки, глаза его поблескивали сатанинской издевочкой.
– Очень просто. Личность должна по возможности наиболее ярко проявить себя, а для этого боже упаси хватать за шиворот и тыкать, словно кутенка в сотворенную им ароматную кучку.
– А не проще ли сказать: свобода есть осознанная необходимость?
– Банально, старик.
– Пятью пять – двадцать пять, тоже не оригинально. Каждая истина по-своему банальна.
– Разговор об искусстве, старик, об искусстве! Оно не терпит банальностей! В нем нет утвержденных законом истин – делай так, а не иначе.
– Вот как! А зачем тогда споришь?
Православный сопел простуженным носом. Вячеслав торжествовал:
– Споришь – ищешь истину, но ищешь в зеленой кроне древа, а она в корнях его.
– Ты хочешь сказать, что истина искусства – в жизни?
– Как ты догадлив!
– Но и в жизни, старик, тоже признают свободу личности, отстаивают ее, вводят особым пунктом в конституции. Ты же хочешь запретить ее в искусстве!
– В жизни больше ограничивают себя. Ты сейчас хочешь жрать, но не пойдешь на улицу, не отымешь у прохожего авоську с продуктами. И не только потому, что на перекрестке стоит милиционер.
– Но искусство… Перейдем к искусству, старик.
– Рано. Мне хочется потолковать о жизни. В жизни ты на каждом шагу постоянно требуешь ограничить свободу личности…
– Я? Требую ограничить свободу?..
– О да, ты демократичен, ты свободолюбив, и все же, когда буфетчица в столовой уходит на целых полчаса поболтать с судомойками, считая, что она свободна, ты стоишь в очереди, негодуешь, кричишь ей о ее обязанностях. Буфетчица, крестьянин, рабочий – не свободны перед тобой, перед обществом. Одна обязана отпускать тебе щи, другой выращивать для этих щей капусту…
В это время Лева Слободко, раскинувшись на койке Ивана Мыша, начал декламировать:
– Ум-ме-реть! Уснуть и видеть сны?..
– А такие вот, – Вячеслав кивнул на Слободко, – стучат себя в грудь: я – индивидуальность, я – неприкосновенен! Неподвластен! Не хочу! Протестую! И такие Православные умиляются, обижаются за него – свободу урезываете!
– И буду обижаться! Буду отстаивать свободу в искусстве! Одно дело – буфетчица, другое – художник. Буфетчица не ищет новых путей в своем деле. Чем точнее она будет исполнять то, что ей установлено заведующим столовой, тем лучше для нее и для общества. Художник перестает быть художником, если не ищет нового, своего, непохожего… Для поисков нужна полная самостоятельность, нужна, старик, свобода!
– Ага! Поисков!.. А для поисков нужна цель. Поиски ради поиска – бессмыслица. Не так ли?
– Кто с этим спорит…
– Ум-мереть?.. Уснуть?.. Уснуть и видеть сны?.. Что благородней духом – покориться… – снова раздался потусторонний глас с койки Ивана Мыша.
– Спроси этого благородного духом, какая у него цель, в чем, собственно, его поиски? Не морщи чело – ни ты не дашь ответа, ни он сам не ответит. Цели нет – ищет нечто. Ему нужна просто свобода. Он личность, он не хочет ни с кем считаться. Нет обязанностей, есть одни права! Он свободен, другие нет. Художник Слободко свободен от обязанностей пахаря, а пахарь, – шалишь, корми его, – пахарь – низшая раса, не равняйся со жрецом высокого искусства!
– Постой, постой!.. Но, старик, это чудовищно!
– Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй!.. – продекламировал Лева Слободко.
– Это ужасно – то, что ты говоришь… Значит, я должен трудиться на потребу пахарю, потому что он трудится на меня?
– В общем, да, для него.
– На потребу!.. Рядовой пахарь не поймет Левитана, Серова. Лети в тартарары искусство, разбивай вдребезги Микеланджело, рви на куски холсты Левитана, – да здравствуют лебеди на лубке!
Лева Православный в ужасе схватил себя за лохматую голову. Чернышев сидел на койке, подвернув под себя ноги, торжественный, как султан на приеме.
А Федор ждал, что он ответит. Федор вспомнил Матёру… Как ни близка она, как ни дорога, но приходится признать, что там, в горницах, по избам, висят маки с конфетных коробок, кипарисы и русалки, пудрящиеся блондинки, – рекламы царских времен. Микеланджело, Левитан, Серов, Ван-Гог, – знать их не знают в Матёре. Жить искусству по вкусам Матёры? Нет!
Неужели Чернышев не прав? Он спокоен, он слушает…
Выждав, пока уймется Православный, Вячеслав произнес:
– Не подделывайся, а поставь себе цель – воспитать вкус этого пахаря. Возложи на себя эту трудную обязанность.
– Для того, чтобы воспитывать, нужно, чтоб тебя понимали. Бессмысленно приниматься за воспитание зулуса, если он не знает твоего языка.
– Учи своему языку!
– Учил поп еврейчика правильно говорить, да сам стал по-местечковому картавить.
– На то ты не поп, а художник. Тут-то и проявись как личность.
Православный сосредоточенно мигал и посапывал, выражение его лица было угнетенно-серьезным.
– За твои добропорядочные слова может спрятаться какой-нибудь держиморда от искусства, – сказал он хмуро.
– Может, – спокойно согласился Вячеслав. – И за более высокие слова пряталась разная сволочь. Ожиревший рантье во Франции, наверное, до сих пор с умилением твердит: «Свобода, равенство, братство», да еще «Марсельезу» со слезой поет.
Пришел Иван Мыш, откидывая мокрый воротник пальто, проворчал:
– Ну и погодка. Собаку добрый хозяин за ворота не выгонит.
Увидел лежащего поперек своей койки в плаще и фуражке Леву Слободко, совсем скис, загудел плаксиво:
– Хлопцы, что же это?.. Тут полночь, изгонялся как легавая, устал, в свой угол спешил, – на вот, занято… Пьян?.. Ну да, пьян… Изволь нянчиться.
– У него, старик, душевная драма, нужно снисходить.
– Какая, к ляху, драма?.. Возьму вот в охапку и выкину на улицу.
– Старик, ты непоследователен. Только что провозгласил: при такой погоде добрый человек собаку не выкинет за ворота. Собаку! А он – учти – творческая личность.
– Ну, а спать-то мне на полу, что ли, из-за этой, будь она неладна, личности?
– Он не меньше тебя нуждается в отдыхе.
– Га… – Растерянность, гнев, изумление Ивана Без Мягкого Знака достигли вершины.
Общими усилиями стали стаскивать «творческую личность» с койки. Она лягалась сапогами, произносила нечленораздельные ругательства. Иван Мыш, увернувшись от очередного пинка, подхватил под мышки, поднял в воздух дюжего Слободко, поставил на ноги в проходе. С минуту все в полном молчании с интересом наблюдали: свалится или нет? Слободко шатало, как тот камыш, о котором любит петь подвыпивший русский человек, и все-таки он с честью вышел из испытания – открыл глаза, обрел устойчивость, спросил:
– Это где я?
Каждый по-своему удовлетворил его законное любопытство:
– В раю.
– На Парнасе.
– Иль в вытрезвиловке – одно и то же…
В поле зрения Слободко попал ухмыляющийся Вячеслав Чернышев, и Слободко стряхнул вместе с хмелем остатки сна, твердо шагнул на Вячеслава:
– Тебя-то мне и надо.
Узрел, ишь ты!
– Давай хохмочки в сторону. Серьезно поговорим. Я считаю твою позицию чисто ренегатской…
Иван Мыш не на шутку забеспокоился:
– То ж он спор зачнет!.. Это в полночь-то. Уймите его – свету невзвидим.
Вячеслав трясся от смеха:
– Стоит кол, на колу мочало, начинай сначала.
– Ну, что вы все скалитесь?
– Старик, ты уже получил свою порцию, нечестно лезть за второй.
– Уже? – Слободко озадаченно почесал в затылке. – Убей, не помню.
– Еще бы…
– Ну и черт с вами. Укладывайте меня спать.
– Сегодня очередь Православного принимать гостей.
– У Православного от ног пахнет.
– Это аристократизм, старик.
– Вались ко мне, – пригласил Федор.
Иван Мыш, уже успевший залезть под одеяло, взбивая под головой подушку, по-домашнему успокоенно бубнил:
– Ну, так-то лучше… Спать будем… Утро вечера мудренее.
15
Слободко, повернувшись к стене, заполнял маленькую комнатушку богатырским храпом. Лампочка над подъездом во дворе бросала в незанавешенное окно робкий свет, он достигал смятой подушки Вячеслава, освещал крутой лоб, по-мальчишески короткую, вздыбленную челку.
Федор не спал, – пристроившись на краю жесткой койки, лежал с открытыми глазами, думал.
Цель… Это слово несколько раз повторил в споре Вячеслав. Слово прискучившее, приевшееся, как нудные старческие сентенции. Сейчас это слово, словно солдат, снявший шинель, надевший штатский костюмчик, представало перед Федором в ином свете, в него стоило пристальней вглядеться.
На заре туманной юности, по ту сторону крутого и тяжелого перевала, называемого войной, Федор шагал по утреннему городу, был глуп, наивен, самоуверен, но имел твердую цель – стать художником. Искусство казалось ему легендарным островом сокровищ. Он, Федор, верил – достигнет заветных берегов, найдет спрятанный клад.
Война… Неизведанный берег, спрятанные сокровища… К чему сокровища, когда и без них славно можно прожить, без них в летний полдень будет хлестать в землю теплый дождь, без них станут лопаться в весенней истоме распухшие почки капать с губ задумавшейся лошади розовые от заката капли воды. Что сокровища, когда под угрозой сама жизнь. Цель – выжить!
И он выжил, мало того, он ступил на заветный берег одной ногой, на самый край. Ступил и оглядывается – где сокровище? А остров велик – горы, скалы, леса, долины, ущелья. Где сокровище? Где цель? Недоступна!
Храпит, отвернувшись от Федора, Лева Слободко, у него крепкая, жаркая спина. Этот парень из тех бесшабашных флибустьеров, которых тянет не само сокровище, а приключения, с ним связанные, не цель, а поиски. Заметил первый камень, решил – здесь клад, стал ковыряться. Поковыряется, бросит, направится к другому валуну… Нет, этот не найдет, но не огорчится, так и проживет, думая, что клад у него в руках.
А Лева Православный?.. Время не повернешь назад, время несет вперед и самого Православного, но только тот сидит лицом к хвосту, умиляется – ах, хороши убегающие в прошлое пейзажи. Что за цель, которая остается позади?
Иван Мыш… Мастерит брошки, добросовестно пачкает холсты…
Один Вячеслав знает – или делает вид, что знает, – где спрятан клад. Если встать за его спиной, послушно следовать за каждым шагом, сделаться его двойником? Он придет к кладу, может, все не заберет, что-то оставит – жалкий расчет. Двойника, копию, слепого последователя в искусстве не чтят. Ищи сам…
Федор лежал с открытыми глазами, думал…
В мастерской он часами простаивал за спиной у Вячеслава, восхищался его широким, вбирающим в себя пространство мазком – каждый удар кисти или выдвигал вперед кусочек холста, или отталкивал назад, погружал в воздух.
Сам Вячеслав за мольбертом становился немного помешанным, что-то ворчал про себя, глядел голодными глазами на натуру, краски размешивал на палитре судорожно, отходя, всматриваясь в работу, гримасничал.
Почти всегда после двух часов, отведенных на живопись, он был вял, неразговорчив, под глазами проступали синяки. Через несколько минут отходил, начинал балагурить.
Федор под впечатлением его работы старательно лепил – чтоб бок самовара был выпуклым, чтоб чайная чашка в глубине не лезла вперед, чтоб между ней и глиняной крынкой на переднем плане ощущался воздух. И вроде получалось, только мазки не такие широкие и точные, как у Вячеслава, – ватные. В самом начале, едва приступив к работе, Федор видел какие-то «вкусные» куски – глина крынки и бок самовара, голубовато-гладкая чашка и суровая скатерть. Он надеялся – то-то «полакомится», но вечный страх – как бы не утерять форму – заставил забыть обо всем. Натюрморт кончен, а Федор так и не испытал «вкуса».
Валентин Вениаминович на обходе сказал:
– Зайди сюда после второй лекции. Поговорим с глазу на глаз.
Сразу же после звонка с лекции Федор бросился в мастерскую.
Валентин Вениаминович ждал, сидел перед его мольбертом, перекинув ногу на ногу. Внизу прислонен первый холст Федора – бутылка с лимонами.
– Садись, – пригласил Валентин Вениаминович.
Долго молчали, вглядывались в обе работы. Бутылка с лимонами – она не так уж плохо написана, хотя форма не вылеплена, нет воздуха, плоскостность, лезут в глаза назойливые блики. Как-никак за это время Федор ушагал вперед, но что-то есть…
– Ну, видишь? – спросил Валентин Вениаминович.
– Что?
– То, что теряешь. Лавры Чернышева покою не дают. Обезьянничаешь, Матёрин.
– Чернышев опытнее меня. Учусь.
– Резонно. Но не забывай того, что есть и у тебя.
– Не понимаю.
– Вглядись, как ты написал нижнюю часть… – Валентин Вениаминович указал на первую работу: – Как взял лимоны к бутылке… Точно?.. Нет, помимо точности тут есть еще кое-что. Тут уж какой-то намек на поэзию…
Это был тот кусочек, когда брошенная на холст Федором зеленая краска стала цветом спелого лимона.
– А здесь?.. – Валентин Вениаминович кивнул на последнюю работу. – Все цвета приблизительны… Рисунок, форма соблюдены более или менее, а где живопись, где цвет? Раскрашено.
Федор молчал.
– Зависть съела, насилуешь себя. И вот результат – ни пава, ни ворона.
– Долго еще будет стоять эта натура? – спросил Федор.
– Послезавтра… снимаем.
– Послезавтра… Не успею переписать.
– Я как раз этого и не требую. Лишь бы намотал на ус.
Федор после ухода Валентина Вениаминовича задержался у своих работ. Бутылка и лимоны… Закрой лимоны, станет тусклой картина, заслони ладонью верх бутылки – вместо лимонов невыразительные зеленоватые пятна, а все вместе хранит и запах лимонов и свежесть их.
Через день – новая постановка.
Опять на помост взобрался человек, – желтолицый, скуластый, в черном костюме, в белой манишке, белые манжеты высовываются из рукавов. Белое, черное, сдержанно-желтое, ярко освещенная стена за спиной…
16
Из дому пришли письма, сразу два. Их в один день написали и в тот же день бросили в ящик, одним поездом они прибыли в Москву. От Саввы Ильича и от отца с матерью.
Савва Ильич писал мелким, плотным почерком, буква тесно липнет к букве, ненужные слова аккуратно вымараны:
«Дорогой мой Федя!
Я долго ждал этого дня. Очень долго – всю жизнь. Для меня на старости лет зажегся свет. Первый раз в жизни меня похвалили по-серьезному серьезные люди. Не стыжусь признаться – я плакал. Глядел на свою работу, на которой сзади стояла драгоценная для меня надпись, и не мог сдержать слез. Эту работу я окантую под стекло, повешу на самом видном месте. У меня теперь есть мериле}, я буду равняться на эту работу…
Говорят: беда не приходит одна, я начинаю убеждаться, что и счастье сваливается кучей. Во-первых, я ухожу из школы!Ты знаешь, я никогда особо не любил преподавательской работы, на уроки шел как на пытку. Встану утром и представлю, что нужно идти в класс, что ученики на моих уроках будут ходить чуть ли не на головах так и охватывает тоска. И жаловаться некому, сам виноват, директор, учителя выслушают и упрекнут: не умеете поставить дисциплину, не найдете контакт с классом. Меня не то чтобы не любили, а просто не ставили ни во что. Теперь мне на уроки ходить не надо. Но и это не все… Мне будут выдавать пенсию!Конечно, маленькую, но как-нибудь проживу. Что деньги по сравнению со свободой. С полной свободой! Я могу целиком отдать себя искусству, отдавать каждый свой час. Кажется, этого хватит, кажется, и так судьба избаловала меня подарками, но нет, не все…
Так как пенсия маловата, на станции прожить мне будет трудно, то я решил – счастливая мысль осенила меня ночью! – снять жилье в деревне. И я снял по соседству с домом твоего отца, так сказать арендовал, пол-избы у известной тебе бабки Марфиды. Она одинока, не стара, ей просто необходимо, чтоб кто-то жил рядом с нею. У бабки Марфиды – усадьба; у меня пенсия и довольно еще крепкие руки. Наши интересы обоюдны.
Ты, Федя, удивишься: вот, мол, старик радуется, а чему? Усадьбе, пристанищу, сытости, благополучию. Так нет же, угол в избе бабки Марфиды для меня – исполнение великой мечты. Ты, наверное, помнишь, я тебе когда-то давным-давно говорил о желании иметь дом среди нолей и лугов, дом на берегу реки, чтоб в окна были видны закаты, чтоб вставать до восхода солнца, уходить с красками… Ты помнишь?.. Я уже, признаться, махнул рукой – что там, не сбудется, умру при своей мечте. Ан нет! Неважно, что изба принадлежит бабке Марфиде, а не мне. Разве обязательно – свой дом, обязательно собственность? Собственников я всегда глубоко презирал. А есть крыша над головой, есть луга и поля, река почти под окном, будут закаты на небе, есть свободное время, много времени, а если спать поменьше, вставать пораньше, его будет еще больше. Что еще нужно для счастья? Твой старый Савва Ильич стал свободным художником! Невероятно! Не опомнюсь! Хожу по улице, гляжу на людей и удивляюсь: почему они мне не завидуют, почему не замечают моего счастья? Ох, люди, люди! Они-то ко мне всегда были равнодушны – и в беде и в счастье. Они и не подозревают, что в этом их страшное несчастье. Они равнодушны к закату, к радуге после дождя, к осеннему ясному березнячку, равнодушны друг к другу, добрая половина человеческих радостей проходит мимо них, потому-то жизнь у многих скучна, потому у нас много пьют, чтоб как-то обмануть скуку. И жаль их, и стыдно перед ними за свое счастье. Быть может, потому, что я не привык быть счастливым. Нарядному человеку всегда не по себе среди бедно одетых. А тут еще, как с неба, твое письмо, похвальный отзыв о моей работе. Мне даже страшно становится – так много сразу! Мне одному! Как бы после жаркого ведра не ударила гроза. Страшно, хотя понимаю – бояться мне нечего. Кто отымет у меня то, что я наконец получил, – маленькую пенсию, стариковский отдых, крышу бабки Марфиды, закаты и радуги? Кто отымет? Не найдется таких.
Как я желаю тебе удачи! А они будут, не сомневаюсь. Если меня хвалят, то представляю, какие похвалы ты слышишь от своих товарищей.
Передай от меня привет с великой благодарностью Вячеславу (не знаю его отчества – ты не написал) Чернышеву. Как приятно жить среди умных, глубоких, понимающих людей, так же, как ты сам, любящих искусство. Я счастлив, а ты вдесятеро счастливее меня. Кажется, себя бы заклеил в конверт, перелетел к вам, чтоб минутку, одну минутку посидеть среди художников, поговорить с ними. Мне очень недостает тебя, Федор! Обнимаю тебя…»
Витиеватая, годами отработанная, знакомая Федору по акварелям подпись Саввы Ильича.
А ниже напыщенно-важное: «P. S.».
И снова буква липнет к букве:
«Огорчает меня, что отец твой меня недолюбливает. Как-то бросил фразу: „С пустого цвета не завяжется огурец“. То есть я, по его мнению, – пустоцвет. Знакомые слова, сколько мне их пришлось выслушать…
Не сочти за бахвальство, я показал ему твое письмо и пейзаж с радугой, где стоит надпись Чернышева…»
Второе письмо писано рукой отца. У него – буквы округлые, широкие, плохо связанные друг с другом, каждая – сама себе – князь, прочно стоят по отдельности.
«Здравствуй, Федор!
Мать тебе бьет челом, и я тоже. Встретил я намедни Пашку Грачева – помнишь ли, с тобой учился? И он кланяться велел. Потом кланяется тебе тетка Марья и еще сестра Груня. От Дашки и Насти писем покуда не было. А Пашка Грачев работает теперь в сельпо, на фронте ногу отхватило, так что марширует на костылях.
Дела в нашей деревне идут плохо. Ржи гектар восемьдесят до сих пор лежит не убрано, а скоро снег. И овес не убран, и ячмень – все погнивает, а рук нету. Все ждали – война кончится, придут мужики. Кой-кто пришел, да в деревне особо не засиживается. И по всей Матёре, почитай, два мужика – я да Алексей Опенкин, обое седьмой десяток разменяли.
Крепко думал я, Федор, о чем мы с тобой толковали в твой приезд. И надумал – ты не прав. Может, и нужны твои картинки каким-нибудь барышням, для которых урожай не урожай, а хлеб есть. А людей попроще прежде надо накормить, а то картинками на пустое брюхо любоваться негоже. Картинками можно жизнь украсить, а стоит она на хлебе. Хлеба не жди, коли здоровые парни, вроде тебя, пойдут искать легкое счастье на стороне. Прости за прямоту, не говорил бы, ежели б считал тебя плевым человеком. Пригляделся – нет, ты не плевый, в душе неспокойство носишь. Только неспокойная душа – тоже опасна. Смотри не спохватись, как отец спохватился: жизнь прожита, а толку – чуть.
В одном ты прав – помнишь ли разговор наш на повети? Скучно для себя одного жить. Но сдается мне – ты сам этими словами себя остегиваешь. Еще раз прости, коль обидное написал. Но таить от тебя не хочу – человеком тебя считаю.
А посему находимся в добром здоровье, что и тебе желаем. Твой отец Василий Матёрин.
Мать просит написать: прислать ли тебе валенки? Коль нужны, то я их кожей обошью, можно будет ходить и в ростепель и в морозы».
А ниже вкривь и вкось с трудом выведено:
«Ты старого дурака не слушай. Все-то дни о тебе думаю, Феденька. Матёрина Анна».
Федор, не снимая гимнастерки, валялся на койке, курил папиросу за папиросой. Вячеслав Чернышев, наморщив лоб, читал его письма. Отложил в сторону письмо Саввы Ильича, сказал:
– Да-а… Провинциальный трагик в своем амплуа – смеется от счастья, а мне хочется плакать.
– Каждому свое, – хмуро ответил Федор. – И не надо жалеть, а то песню испортишь.
– А я жалею и готов полюбить его.
Федор сел на койке.
– И я его люблю. Но отец-то прав: жить ради никому не нужных картинок! Это же преступление – разбазаривать без пользы целую человеческую жизнь!
– Вырви свой язык!.. Или лучше оставь его, чтобы каждый день повторять вслух по нескольку раз: я стану художником и этим обязан трагику из деревни Матёра.
– То-то и оно – стану!.. А если нет? Если я стану таким же Саввой Ильичом, пусть не в масштабе Матёры, а в масштабе Москвы. Человек-пустоцвет?
– Конкретно, как ты это представляешь?
– Очень просто. Сейчас я третьестепенная фигура на курсе, останусь третьестепенным до конца института, а там – отбор построже, придется меряться с более сильными талантами. Там я окажусь художником десятого разряда, а это в лучшем случае – серая посредственность. Но я-то при этом окончу институт, кой-чего понахватаюсь, святого неведения, каким живет сейчас Савва Ильич, у меня не будет. Значит, я стану зол и завистлив, значит, мне придется отстаивать право на место в жизни среди талантов… Ты понимаешь, воевать против талантов! Представь Савву Ильича не блаженненьким, а воинственным, озлобленным, считающим, что его не понимают, его душат.
– Ты таким не будешь.
– Это почему?.. Только не успокаивай, что я талантлив. Только не становись в позу того мифического безумца, который навевает золотой сон.
– Ты таким не будешь. И дело тут не в том, талантлив ты или нет. Тебя уже сейчас беспокоит совесть. А это значит – ты можешь трезво оценить себя со стороны. А это значит – в тебе закваска настоящего человека.
– Успокоил. Совестливая бездарь, пустоцвет, но безобидный, да здравствуют блаженные! А я не хочу, Вече! Ты тоже знаешь, что такое фронт. Я слишком долго ходил бок о бок со смертью, чтоб не ценить жизнь. Мне пять раз простреливали шинель – удача, остался жив. Я мог остаться в снегу под Ворапоновкой, а меня вытащили – удача. В нашу землянку попал снаряд, всех ребят на куски, а я в это время ходил на кухню – удача. И после этих невероятных удач прожить бесполезно, ненужно, безвредно, только безвредно! Зачем?.. Ты видишь – руки. Думаешь, они не смогут пахать? Смогут! А отец пишет – рук не хватает, хлеб гибнет, мы с тобой сидим на карточках, щелкаем зубами. Прав отец, презирая Савву Ильича. Прав, когда упрекает меня!
– Ну и что делать? – спросил Вячеслав серьезно.
– Вот те раз!.. Я же это как раз и хочу у тебя спросить.
– Бросай институт, Федька.
Федор глядел в серьезное, бесстрастное лицо Вячеслава.
– Рискни, брось к чертям собачьим… А Иван Мыш останется.
– Он мне не пример.
– Верно. Брось. В стране будет парой крестьянских рук больше.
– Уже кое-что.
– Крестьянином каждый может быть, а художником…
– Но кто-то должен быть крестьянином. Чем я чище других?
– Что ж поделаешь, талант не так часто встречается, как мускулистые руки. И не таращь сердито на меня свои очи, не считай, что я заражен позорным презрением к простому труду, к простым бесталанным людям. Именно эти-то простые люди и нуждаются в талантах. Таланта ради таланта не существует, как бессмысленно пахать поле ради процесса пахоты.
– Если б я был уверен, что талант есть…
– Ах, хочешь непременно стать золотом, боишься быть рудой, отбросом. Ничего не попишешь, все гениями не вырастают, кто-то должен оказаться и породой. Без породы нет золота.
– А я не хочу быть породой. Не хочу, и все!
– Ишь ты, оригинал. А кто хочет? Я? Иван Мыш? Лева Слободко? Все, как и ты, надеются стать самородками. И ты надеешься и никуда не уйдешь из института, – просто созрел для интеллигентских рефлексий.
– Тем более что интеллигентность в моей крови…
– Ничего, вчерашние мужички, едва став интеллигентами, чему-чему, а рефлексированию учатся быстро. Это еще Чехов в свое время отметил. Брось институт… Что же ты молчишь?
– Пошел к черту, – проворчал Федор, снова заваливаясь на койку.
Письма в надорванных конвертах лежали на тумбочке. Между запрокинутым лицом и потолком висел табачный туман, а со стороны доносился голос Вячеслава Чернышева, бодрый, сильный, несущий счастливую веру в то, что, как бы ни сложилось будущее, все хорошо.
– Этот трагик бездарен, – говорил он о Савве Ильиче. – Да. Но ведь я и ценю его не за талант. Я ценю его за тягу к искусству. Тянуться к тому, к чему вокруг тебя все равнодушны. Тянуться всю жизнь, пренебрегать насмешками, презрением, выносить упреки – нет, что ни говори, а это подвижничество. Слышишь ты, рефлексирующий мужик, знаешь, кто он для тебя и для меня? Если мы с тобой станем сколько-нибудь стоящими художниками, то люди типа этого славного трагика – наша пешая разведка. Среди Матёры он первый заинтересуется нашим делом, первым станет пропагандировать наш труд. Счастье человечества, что в его среде есть такие фанатики, они-то и пробивают всеобщее равнодушие и косность. Эй ты, рефлексирующий, хочешь, порадую – мне долг отдали, не шути, двести монет. Вставай, пойдем выпьем за здоровье твоего Саввы Ильича, да пребудет он до конца дней в своем золотом сне, да не откроются у него глаза на горькую правду… А ну, долго я над тобой буду торчать? Приказываю: вставать!
– Я не пить, я жрать хочу.
– Ну, это роскошь, мой друг. На выпивку с грехом пополам хватит, а на еду, кроме легонькой закусочки, не рассчитывай. Шевелись!
Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет…
Они, подняв воротники, вышли на мокрую под унылым дождем мостовую. Этот же унылый, скучный дождь, который на днях должен смениться снегом, мочит полегший хлеб на полях деревни Матёры.
17
Жить в войну – значит ненавидеть сегодня, значит всей душой, каждой клеточкой тела любить завтра, верить в него, как в царствие небесное. В дни войны даже дряхлые старики произносили слова: «Вот будет мирное время…» – с той наивностью и надеждой, с какой дети говорят: «Вот вырасту большим…» Будет мирное время – будет счастье.
И мир наступил – с тощими авоськами, с жидким пшенным супом, выдаваемым по талонам в рабочей столовой, с барахолками на задворках городских базаров, где можно было купить и поношенные армейские галифе, и модное драповое пальто. Мир наступил, поезда забиты вербовочными артелями, едущими и в разбитый Киев и в Сибирь, где за войну не слыхали свиста снаряда. Вся страна в строительных лесах, а в деревнях заколачивали досками двери и окна изб. Мир наступил, но люди по-прежнему с надеждой смотрят в завтра.
Подошла двадцать восьмая годовщина Великой Октябрьской революции.
Утро было серое, но без дождя. Студенты собирались возле института на демонстрацию, выстраивались в колонну. Над головами качались портреты, знамена, плакаты, нежной весенней расцветки бумажные цветы.
Федор – в своей старенькой шинели, во фронтовой ушанке, на которой еще остался след звезды, зато сапоги со сбитыми каблуками начищены до блеска. С Вячеслава хоть пиши картинку – темная шляпа, толстого велюра пальто. Лева Православный неизменен – тесный обдергайчик с облезлым каракулевым воротником застегнут на одну пуговицу, под носом уже висит застенчивая капля, притопывает рабочими ботинками, ораторствует:
– У нас еще мало ритуалов, мало торжеств в жизни. В старое время помимо рождества и пасхи были троицын день, масленица, у каждого села свой престольный праздник…
Иван Мыш Без Мягкого Знака до сих пор, как и Федор, ходил в замызганной шинелишке, в другом его никто и не видел. А сегодня он вытянул из недр своего объемистого чемодана пальто коричневой кожи – пространство на пять шагов в окружности заполнено солидным скрипом. Сам Иван, казалось, вырос на целую голову, глядит на всех сверху вниз с добродушной снисходительностью Гуливера. И даже Лева Православный над ним не подшучивает – славословит троицын день и масленицу.
Растревожена Москва. Тесны улицы. Под гром радио, в переплетении разноголосых песен медленно текут бесконечные людские реки – величавое человечье половодье, – только в праздники понимаешь, какой громадный и вместительный этот город.