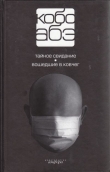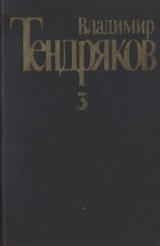
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)
– Браво, старик! – крикнул Православный.
Иван Мыш обдал его отсутствующим затуманенным взором, повернулся и отчалил. Плыл по запруженному кучками курящих и болтающих студентов коридору, как баржа сквозь затопленный кустарник.
– Раскололся.
– Не водоплавающий.
Федор высказал догадку:
– Кажется, он уже с кем-то посоветовался, растоптал площадку. Не примерится – не ступит. Не из тех, чтоб рисковал.
А в стороне стоял Лева Слободко. Он похудел за эти дни, крылья челюсти выступали углами, но лицо какое-то выглаженное, ничего не выражающее. На него пытливо оглядывались…
Массивная фигура Ивана Мыша на трибуне – примелькавшаяся в институте картина.
– Товарищи! – внушительно, веско, значительно, словно сейчас прозвучит великое открытие – слепой мир станет зрячим.
Зал приготовился к дремоте.
– Товарищи! Я недавно попал в гости…
Уже интересно, не успевшие задремать возвели очи…
– Попал в гости вместе со студентами нашего курса. Считаю нужным назвать их. Значит, был я, был Вячеслав Чернышев, был Матёрин, был Шлихман и был Слободко. Нас приняли честь честью, не скрою, усадили за стол – лососинка, рюмочки, разговорчики… Да, разговорчики! Дело в том, что хозяин дома собирал картины. Какие картины, товарищи!..
Затылки, затылки, затылки… Каждого студента и каждую студентку Федор может узнать по затылку. Стол президиума под зеленым сукном, лица за столом, почти дежурные, не меняющиеся от собрания к собранию. За спиной президиума – гипсовый бюст Сталина, по бокам, как в почетном карауле, пыльные фикусы, по степам картины, оставшиеся от прошлого года с выставки дипломных работ: «Смерть партизанки», «Счастливое детство», индустриальный пейзаж, вовсе недурной… И возвышается на трибуне Иван Мыш. Все знакомо, все намозолило глаза и – новое ощущение… С таким ощущением на фронте Федор глядел на заминированные поля – рытвины, овражки, кусты полыни, – привычные до скуки, но не доверяй – каждый полынный кустик прячет смерть…
Иван Мыш говорит – заученные значительные интонации:
– Был спор, товарищи. Прямо скажу, бой. Должен заявить: достойных людей выращивает наш институт. Правильных! Не собьешь с позиции! Лососинка, рюмочки, ласковое обхождение, но не собьешь. Чернышев Вячеслав – гордость нашего института. Он грудью защищал нашу честь. Общипал, прямо скажу, хозяина, как гусака. А недавно раскрылось…
Иван Мыш выдержал значительную паузу.
Затылки, затылки…
У Вячеслава заострившееся, как у хорька, лицо.
– Товарищи! Раскрылось! Гусак этот не совсем простой!..
Иван Мыш всей своей массивной фигурой, подавшейся через трибуну на слушателей, изображает ужас. И много ли надо – действует, в зале тишина. Затылки, затылки, каждый выражает внимание…
– Гусак этот с заморской начинкой. Он недавно арестован как враг!..
Вячеслав дергается, растерянно оглядывается на Федора.
– Но кто поддерживал этого врага? Слободко поддерживал! Чернышев нападал, Чернышев защищал нашу общую позицию. Нашу с вами, товарищи! А Слободко бил в спину. Да, в спину! Дошло до того, что Слободко заявил, что хочет дать в морду Чернышеву. Вот до чего дошло, товарищи. И уж после этого Чернышев бросил правильные слова, святые слова, товарищи: «В искусстве стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг!» Баррикады… Слободко по ту сторону баррикад…
Вячеслав лязгнул зубами:
– Гад!
– Я был искренне убежден – гнать надо в шею таких Слободко, гнать из института!.. Убежден! Но недавно Вячеслав Чернышев спросил меня: «А так ли виноват Слободко? Признаюсь, товарищи, я сначала опешил. Чернышев заступается за Слободко! Чернышев! Наша гордость… Непримиримый… И он заступается… Не верю своим ушам…
Голос Ивана Мыша ласково обволакивался вокруг имени Чернышева, а Вячеслав обернулся к Федору, стискивая зубы, сдерживая дрожь, выдавил:
– Эта горилла не так глупа, как мы думали… Эта горилла смеется над нами…
– Я задумался, товарищи! Крепко задумался! И у меня раскрылись глаза. А ведь Чернышев-то прав… Слободко, как на ладони, со всех сторон виден. Настоящий враг напролом не полезет. Он прячется, он толкает вперед простачков вроде Слободко. Чернышев открыл мне глаза, и я вспомнил… Слободко не сам познакомился с этим гусаком, его кто-то привел к нему за руку… Его привел и вместе с ним и нас! И мне стало ясно, товарищи… Ясно! Я понял, кто он!..
У Вячеслава словно пылью припорошено лицо, колючий, злой взгляд, сидит вытянувшись, мнет рукой горло.
– Кто он? Я назову… Пусть не удивляются – он тих, неприметен, он – рубаха-парень… Это Шлихман привел Слободко за ручку к врагу, Шлихман, товарищи…
Федор почувствовал, что деревенеет.
Федору было лет тринадцать. Бригадир попросил привезти с маслозавода пустую тару – несложное поручение для деревенского мальчишки.
Был знойный полдень, тень пряталась под колеса двуколки. Косматая от пыли трава на обочине. Большое поле начавшего белеть овса. Вдали – старый, неопрятный, как унылый нищий, ветряк без крыльев. Он заброшен с тех пор, как над ссыпкой во время раскулачивания повесился хозяин. Не бился в воздухе жаворонок, не гудели шмели, молчали даже неистовые кузнечики, метелки овса висели в воздухе не шелохнувшись. Тихо так, что слышно, как течет кровь в ушах. Тихо – колеса смазаны. Тихо – копыта старой брюхастой кобылы утопают в горячей пыли. Яркий день, и нет жизни. Яркий день и знакомая дорога, каждый вершок которой истоптан Федором босыми ногами. Но все кажется ненастоящим, выдумкой. Ждешь – вот-вот яркий день лопнет, как радужная пленка мыльного пузыря. И что-то будет! Что-то страшное!.. А ветряк, растрепанный, неряшливый, упрямо шагает сбоку, не отстает. И глохнешь от тишины, и страх растет…
И вдруг… Ничего не случилось, просто он увидел рядом с дорогой перепелку, утопившую голову в серые перья. Бусинки глаз остро смотрели на Федора. Странно – она не двигалась, не боялась, только пронзительно смотрела. И это показалось чудовищным, ударило по нервам.
Федор закричал, хлестнул лошадь. И лошадь, словно давно ждала выкрика, рванулась вперед, обычно ленивая, равнодушная к кнуту – не раскачаешь.
Заражая друг друга ужасом, они мчались от чего-то неведомого. Бескрылый, сутулый ветряк некоторое время шагал сбоку, потом стал отставать. Опомнились только в селе. Лошадь была в пене.
Федор рассказал это Пашке Матёрину, парню на три года старше. Тот выслушал, подумал и авторитетно заявил:
– Такого не бывает.
И сейчас безотчетный, смутный ужас и кругом молчащие люди…
А сегодня вечером Иван Мыш придет в комнату общежития:
– Почаевать, хлопцы, не дурно бы…
И все улягутся спать, и будет раздаваться храп Ивана Мыша. Все, как всегда…
Такого не бывает!
Но затылки, затылки, стол президиума, тощие фикусы по бокам гипсового Сталина – мороз по коже, словно нечаянно попал на минное поле. Мороз по коже, и деревенеют члены. А кроме Вячеслава, все кругом будто спокойны.
Вячеслав сорвался с места, наступая на ноги, натыкаясь на колени, – натянутый, высоко подстриженный затылок, пламенеющие уши. Бросился к столу президиума, потрясая выброшенной вперед рукой:
– Слово! Дайте мне слово!
Председатель – пятикурсник Гоша Сокольский, деловитый, степенный, розоволицый мальчик. Он пятнадцати лет окончил школу, был безумно влюблен в живопись, не выделялся способностями, учился заочно еще в двух институтах, где поражал профессоров эрудицией. За ним держалась слава – честный, принципиальный, прямой.
Он остановил сейчас Вячеслава звонким, чистым, непререкаемым голосом:
– Товарищ Чернышев! Что за фокусы?
– Прошу слова!
– Вы в первый раз на собраниях? Существует общепринятый порядок!
– Я настаиваю!
– В списке выступающих уже записано…
– Я настаиваю!!
– В списке выступающих – пятнадцать человек. Извольте, я запишу вас шестнадцатым… Слово предоставляется студенту первого курса Чижову.
Чижов, известный всему институту по прозвищу „Свистуня“, уже был наготове. Он занял трибуну.
– Товарищи! Можно ли подумать…
Он поражен открытием, он считал себя добрым товарищем Шлихмана Левы, никак не может опомниться…
Вячеслав повернулся и, понурившись, побрел обратно.
Собрание затянулось, и на двенадцатом ораторе после Ивана Мыша Гоша Сокольский поставил на голосование – подвести черту.
– Я требую слова! – снова поднялся Вячеслав.
Гоша Сокольский – человек строгих правил: каждый имеет право требовать, и если собрание разрешит… Он поставил на голосование – дать слово или отказать?
Все были утомлены, все рвались домой, но велика сила любопытства: Чернышев рвется в бой, значит, держит камень за пазухой, значит, ударит… Большинство проголосовало дать слово и подвести черту.
11
Чеканя по паркету шаги, с напряженно заострившимся лицом Вячеслав пробежал по залу, взлетел на трибуну.
– Безобидная птица попугай… – начал он. – Но когда попугай выступает в облике человека – он страшен. Двенадцать ораторов выступили после Ивана Мыша, двенадцать человек, как попугаи, повторили за ним его ложь. Не задумываясь, не оглядываясь, не понимая, что втаптывают в грязь человека – пусть тонет, пускает пузыри…
Затылки, затылки, нельзя отказать им во внимании. Но до чего бесстрастны эти затылки! Но Федор верит в Вячеслава – Вече умеет доказывать, редкий боец в студенческих спорах не падал под его ударами на обе лопатки. Давай, Вече, давай, друг! Вот где понадобилось твое мастерство спорщика – докажи всем!
– Милга арестован, – продолжает Вячеслав, – значит, он враг! Предположим на минуту, что Лев Шлихман знал об этом. Предположим, что он намеренно, с вражеским расчетом решил втянуть всех нас, в том числе и Слободко, в расставленные сети. Намеренно, сознательно!.. Обвинение чудовищное, за такое полагается наказание, как и Милге. Может, к этому и призывает Мыш – под конвой Шлихмана, в тюрьму его! А Иван Мыш жил со Шлихманом в одной комнате без малого четыре года, спал бок о бок, спорил, работал – всё вместе. До сих пор Иван Мыш и Шлихман были добрыми приятелями, у них не было секретов друг от друга. Иван Мыш знал и такую, казалось бы, незначительную деталь, что Шлихман познакомился впервые с Милгой за день, всего за один день до того, как все мы с ним познакомились. Пусть Иван Мыш ответит, что это не так, тогда можно провести расследование и его ложь станет очевидной. За один день стать вражеским сообщником? Смешно! Нелепо! Кто этому поверит? А если Шлихман не сообщник – намеренный и расчетливый, то его вина полностью равна моей вине, вине Слободко, Матёрина, вине самого Ивана Мыша. Иван Мыш тоже встречался с Милгой, знал о нем ровно столько, сколько знал Шлихман. До того, как словно гром с ясного неба не свалилось известие, что Милга арестован, ни Шлихману, ни Ивану Мышу и в голову не пришло бы назвать этого видного ученого врагом народа. В чем Шлихман виновнее Мыша?..
Затылки, затылки… Федор чувствует – все верят Вячеславу, уж слишком нелеп поклеп на Православного. Затылки, затылки, но они бесстрастно молчаливы.
Глаза раскрыть нетрудно, не надо для этого обладать даже особым талантом, но кому охота лезть на рожон! Вячеслав Чернышев говорит сам от себя, а Иван Мыш вряд ли… Кто-то поручил ему, кто-то заинтересован, а этот таинственный Милга под арестом – темна вода в облаках.
И уже принят закон – подвести черту. Можно высечь искру, можно обжечь кого-то, но огонь не займется – поздно.
Однако за столом президиума сидел человек, который имел право переступать законы.
Едва Вячеслав сошел с трибуны, как Гоша Сокольский чеканно объявил:
– Слово предоставляется директору института…
Директор, как и Вячеслав, был невысок ростом, так же утопал в трибуне. Говорить он начал спокойно, вдумчиво, с нотками суровой искренности.
– Нам всем свойственно ошибаться. Всем, в том числе и мне. Не скрою, товарищи, что я как директор для себя окончательно решил: распахнуть перед Слободко дверь и указать – вот бог, вот порог! Слышите вы, Слободко? Вы можете оценить человеческое отношение к вашей не столь достойной персоне? Целый ряд ваших товарищей оказались людьми чуткими, они не рассудили с кондачка – худую траву с поля вон! Студент Чернышев открыл глаза Ивану Мышу, а Иван Мыш, как член партбюро, пришел ко мне. Я лично тронут таким человеческим отношением. Человеческому отношению я готов идти навстречу. Человеческому! Но не бесхребетному всепрощению! Вы меня слышите, Чернышев? Как понять ваш выпад с трибуны? Миловать и правого и виноватого? Простим под сурдинку?..
– А кто виноват? Вам ясно? – крикнул с места Вячеслав.
– Мне неясно только одно – ваше поведение, – с непоколебимым спокойствием ответил директор. – Обозвать огульно всех выступавших попугаями! Подстричь Шлихмана и Ивана Мыша под один уровень! Снивелировать вину на том основании, что никто не знал, не мог предусмотреть! Как это назвать? Мне думается, название этому – гнилой, преступный либерализм! Вот вы заявили: Шлихман не был прямым помощником той вражеской личности, которая, к счастью, сейчас обезврежена. Верю, представьте, верю – не был, не помогал сбывать секретные сведения за границу. Если б я думал иначе, то вряд ли понадобилось бы так много обсуждать поведение Шлихмана. Его вина в другом – он разносчик заразы, он не диверсант-отравитель, а энцефалитный клещ. Но и клещ весьма вреден, хотя и творит свое черное дело несознательно. Вы задумались, почему Шлихман, едва познакомившись с этим растленным типом, поспешил незамедлительно познакомить вас, своих товарищей? С каждым, с кем он встречается случайно, знакомит вас? А?.. Что вы молчите, Чернышев?.. Уверен, не с каждым. А с этим сразу познакомил, потому что близок по духу, потому что тянется к таким, испытывает внутреннее желание тянуть других. И, конечно, среди этих других найдутся неустойчивые вроде Слободко. И, конечно, такие Слободко дальше понесут заразу. И если мы не примем мер, то захлебнемся в диком смраде западных влияний. Дорогой доморощенный либерал Чернышев, вам изменило святое чувство бдительности. Зато нам – нет, не изменило! Мы не собираемся косить подряд всех заблуждающихся. Мы вдумчиво выберем самый опасный сорняк. Вдумчиво!.. А уж тогда – вон с нашего здорового поля!.. Мы подвели черту. Я понимаю – время позднее, все утомились. Но нельзя торопиться. Нужно выслушать еще одного человека, который прячется, который не подает признаков жизни. Попросим на трибуну Шлихмана и выслушаем его, терпеливо, не отмахиваясь… А там решим сообща. Я во всем полагаюсь на вас, товарищи, на вашу бдительность. Я не хочу решать самолично.
Директор кончил, снова занял свое место в президиуме.
И звучный, ясный председательствующий голос Гоши Сокольского объявил:
– Товарищи, докладчик Белявкин отказывается от заключительного слова. Поступило предложение – выслушать студента Шлихмана. Если возражений нет, то я попрошу Шлихмана занять место на трибуне.
И через весь зал, спотыкаясь на ходу, слепо уставясь перед собой очками, сгибая спину, медленно прошел Православный – штаны свисали с худого зада, громоздкие ботинки гулко стучали по ковровой дорожке. Через весь зал, стыдясь самого себя.
На лесенке, ведущей к трибуне, он снова споткнулся, ударился коленом, захромал.
Он долго не начинал, водил недоуменно по залу очками и молчал, а зал в нетерпении ерзал и кашлял.
– Время дорого, Шлихман, – суховато напомнил Гоша.
– Товарищи… Я… я не знаю… не знаю, в чем виноват…
И опять тяжкое молчание.
Федор сейчас чувствовал за Православного – чувствовал близорукость, жалкую бледность, стягивающий плечи мятый пиджачок, красные, вылезающие из рукавов руки. В такие минуты так стыдно за самого себя, что веришь – а ты виноват, сомнений нет. Только в чем, вот беда?..
Нужно говорить. Он занял место, где нельзя молчать. А он молчит.
Сотни глаз ощупывают, оценивают, сотни глаз – не спрячешься – требовательно ждут. Как оправдываться, когда тебе уже знают цену?
Время дорого.
Время дорого, а он тянет – одно это непростительная вина.
– Я не знаю, в чем…
Директор пришел на помощь:
– Вы первый познакомились с неким гражданином Милгой, недавно арестованным органами безопасности?
– Да. Случайно.
– Это вы привели к нему Слободко и всех остальных?
– Да.
– И все-таки вы не ведаете, в чем вы виноваты? Не притворяйтесь дурачком, Шлихман.
Он виноват, он готов со всем согласиться, отпустите его – будь что будет, лишь бы не трибуна…
И когда Православный спустился в зал, Федор вместе с ним почувствовал изнеможенную усталость.
Вячеслав словно проглотил аршин – спина натянута, голова вскинута, лицо зеленое, воспаленно блестят глаза.
– Итак… Кто за то, чтобы ходатайствовать перед дирекцией – исключить студента четвертого курса Шлихмана из института за тесную связь с вражескими элементами, за распространение чуждой нашему духу идеологии?
Гоша Сокольский, чтоб считать голоса, вышел из-за стола на авансцену – костюм, словно из журнала мод, ботинки на толстой подошве, ворот свитера подпирает подбородок, – начавший уже полнеть мальчик из хорошей семьи, у него узкие плечи и широкие бедра.
– Кто – за, прошу поднять…
Затылки, затылки впереди Федора, над ними вырастают руки.
Когда-то Игорь Гольцев поднял руку против родного отца – крупно ошибался Ежов. Поднял тогда и Федор. Сейчас он не шевелился… Затылки, затылки, руки, руки… До чего он чувствовал себя одиноким.
– Кто воздержался?
Тишина в зале.
– Кто против?
Тишина.
Но Гоша Сокольский неожиданно объявляет:
– Один голос против!
Федор вытянул шею: затылки, затылки – руки не видно. И вдруг, словно кто толкнул, обернулся – рядом, сплющив губы в жесткую складку, тянул вверх руку Вячеслав.
Федор дернулся…
Но Гоша Сокольский уже отчеканивал:
– Подавляющим большинством голосов общее собрание студенческого и преподавательского состава…
Игорь Гольцев, где твоя наука?
12
Теснясь выходили из конференц-зала. На всех лицах одно и то же оскорбляющее Федора нетерпение – скорей в раздевалку, скорей на улицу, к троллейбусу, домой, наконец-то все кончилось.
Вячеслав судорожно вертел головой направо и налево, искал Православного.
– Оденемся. Выйдем. У входа подождем, – слабо попросил он.
На улице падал мокрый снежок. Вячеслав, натянув на лоб шляпу, подняв воротник, постукивал зубами, отбивал по мокрому асфальту ботинками. Федор уловил: „Жил Чарли безработный…“ А Православный все не выходил. Пачками выскакивали студенты, громко говорили, слышался девичий смех. Исчезали в темноте.
Наконец показались трое – в середине патлатая шапка, собачий мех. С одного боку Слободко, с другого – Нина Худякова выступает вальяжно. Федор знал: Нина любит или героев, или несчастненьких, неудивительно – сейчас опекает Православного.
Слободко первый заметил Вячеслава, подался вперед, плечом загородил Православного.
– Ждешь? – бросил он. – Погляди, Православный, он ждет. Хочет услышать похвалу – герой, не жалея сил защищал, один из всех руку поднял. Один из всех приметен.
Потеснив Вячеслава, Слободко потащил Православного. Собачья шапка удалялась. Рядом смутно колыхались плечи Нины Худяковой.
Вячеслав стоял, облепленный снегом, покорно смотрел вслед.
Хлопнула дверь, выплыло монументальное пальто, увенчанное пыжиковой шапкой, – Гоша Сокольский, с честью справившийся со своими председательскими обязанностями. Остановился, подтягивая кожаные перчатки, сурово сказал Вячеславу:
– Ты вел себя сегодня глупо и оскорбительно… Узколобое донкихотство!
Вячеслав глубже втянул голову в воротник, ничего не ответил, двинулся шляпой вперед навстречу вяло кружащимся крупным хлопьям.
Ни Слободко, ни Гоша Сокольский не упрекнули Федора. Никто не заметил, что он не поднял руки – ни „за“, ни „против“, ни „воздержался“. Ничем не выделился, в глазах других вел себя как все, а все не могут выглядеть глупо. Ни „за“, ни „против“, ни „воздержался“ – отсутствовал.
Вячеслав, порывисто подавшись вперед всем телом, шел дергающейся походкой, Федор едва поспевал за ним. Снег ложился на мокрый смолисто-черный асфальт и таял.
Неожиданно Вячеслав обернулся:
– Горилла перехитрила!.. Она далеко не глупа!..
Федор ничего не ответил.
Они идут в общежитие. Ночью будет раздаваться привычный храп Ивана Мыша.
А завтра комендантша общежития, дама с кремневым характером, пачкающая накрашенными губами мундштуки папирос, попросит Православного:
– Милый мой, вы теперь не студент.
И в обшарпанный чемодан будет втиснуто заношенное белье, и Федор поможет увязать пыльные этюды.
– Не так глупа эта горилла!..
Комната общежития – родной дом. Старая куртка Православного висит на стуле, и торчит из-под его койки штанина кальсон с завязками. Комната общежития – все по-прежнему.
Едва успели скинуть пальто, опуститься на койки, как за дверью в коридоре послышались размеренные, тяжелые шаги.
Федор и Вячеслав переглянулись – к ним шагал Иван Мыш.
13
Неужели он войдет, как всегда: „Почаевать, хлопцы, недурно бы…“ Или станет прятать блудливо глаза?
Грузные шаги на секунду смолкли под дверью, на одну секунду.
Слышно – рука нащупала ручку…
Федор всего ждал, но только не того, что увидел.
Дверь осторожно открылась…
Граненое лицо Ивана Мыша было пепельным, каким-то квадратно-угловатым. В немигающих глазах стыла тоска.
И с ходу:
– Хлопцы…
Голос осевший, сиплый.
– Хлопцы…
Большой человек с могучим разворотом плеч под кожаным регланом, у него дрожат подобранные тонкие губы и глаза пугающе неподвижны, тусклы. Такие глаза Федор видел в госпиталях, у тяжелораненых, для которых страдание стало привычкой.
– Хлопцы… Я не хотел этого… Выслушайте.
Федор и Вячеслав очнулись от оцепенения.
– Это интересно, – горловым голосом произнес Вячеслав.
– Говори, – приказал Федор.
Но вместо того чтобы рассказать, Иван Мыш стал торопливо, казалось даже радостно, стаскивать с себя пальто. Шуршала кожа, слышалось сопение, и Федора взорвало:
– Ты, может, спать ляжешь, гад?
Иван Мыш вздрогнул. Большой, плечистый, дернул локтем по лицу, как ребенок, над которым взмахнули кулаком.
– Я не хотел этого, хлопцы…
– Слышали! Дальше!
– Я Слободко не люблю! Я Православного люблю… Честное слово.
– Заткнись в лирике! К делу!
– Так я ж к делу… – Лицо Ивана Мыша порозовело, лоб залоснился испариной, глаза ожили, покрылись влагой, они по-собачьи преданно останавливались то на Федоре, то на Вячеславе. – Я к тому – вы ж просили защитить Слободко. Просили же…
– Держись, Федор! Горилла опять смеется над нами!
– Выслушайте, выслушайте! Какой тут смех… Беда случилась. Кто мне теперь поверит? Кто?
– Ты, гнида, плакаться будешь или рассказывать?!
– Не хотел я… Что мне Православный дурного сделал? Что? Я Слободко не люблю… А этот меня толкнул…
– Кто толкнул? Слободко?
– Да нет же, директор.
– Директор? На Православного? Сам?
– Я же к нему пошел выручать Слободко… Будь он трижды проклят, этот Слободко! Все из-за него…
– Ну?!
– Стал говорить: Слободко не виновен… А на Слободко-то уже приказ был… Не ждал я, что так… Если б знал, от порога шарахнулся… Все обо мне думают – детина великая, кулаки что гири. А какой толк мне в больших кулаках? Я же боюсь кулаком на курицу замахнуться… И все-то меня бездарью считают. Все – и вы и директор. Самое страшное, что никак не пойму – почему я бездарь? Погляжу на свой холст – мне нравится, кажется, что лучше-то и не сделаешь. А кто ни поглядит – нос воротит, словно сговорились… Самое страшное – не могу понять почему?..
– Зубы не заговаривай!
– Кто я для директора – козявка! Раздавит и не поморщится. А тут он осатанел… Право слово, осатанел, когда услышал, что я Слободко защищаю. Приказ же написан… Пошел меня чесать: „Дружка спасаешь! Приятельские отношения!..“ Это Слободко-то мне приятель? За кого терпеть должен?.. Вот как обернулось…
– Обернулось, что ты Православного в пасть сунул?
– Сволочь я! Душа у меня заячья! – Собачий преданный взгляд. Заглядывает не в глаза, а в рот.
Федор почувствовал уже знакомую ему брезгливую неловкость, процедил:
– Я не в первый раз слышу это. Хватит!
– Кляните, хлопцы, бейте, ругайте – сам морду подставлю… Не хотел я Православного! Не хотел! Случайно вырвалось.
– Что вырвалось?
– Директор-то упомянул: Слободко с Милгой связан, с этим элементом…
– Ну?
– Сволочь я! Дурак последний! Дернуло меня за язык… Хлопцы, дайте мне в морду! Сорвалось, честное слово, сорвалось… Ляпнул я не подумавши, что это Шлихман первым Милгу нащупал и нас со Слободко привел к нему…
– Та-ак. – Вячеслав с Федором переглянулись.
В глубине серых глаз Вячеслава – что-то тоскливое, скулящее, осунувшееся лицо заморожено, он, должно быть, испытывал такую же тоскливую неловкость, как и Федор. Он, Вячеслав, боится Ивана Мыша. Еще немного, и придется простить, Мыш выйдет победителем.
А Мыш униженно, просяще ласкает влажным взглядом:
– Хлопцы… Я ж не думал, что он вцепится в мои слова. А слово-то не воробей – вылетело… Я было туды-сюды, а он жмет, юшка из меня течет… Не хотел же, не хотел! Против воли случилось. Сам себе не хозяин… А уж сказал – верую, скажи и – господи.
Влажно-обволакивающе глядит Иван Мыш, обычно граненое лицо его размякло, порозовело, на лбу, на крыльях носа – испарина. И Федор чувствует тошноту от влажного взгляда. Собака легла на спину, подняла лапы, рука не подымается ударить. Да и как ударить? Ни Федор, ни Вячеслав – не власть для Мыша. Могут лишь плюнуть в физиономию, а на физиономии готовность – утрусь, не извольте беспокоиться. И чувствуется, что Иван Мыш угадывает их беспомощность, и где-то в уголках его ласковых глаз чудится насмешка.
– Держись, Федор! Хитра горилла!
Федор поднялся с койки, одернул пиджак, тихо сказал:
– Вот что – проваливай.
Иван Мыш преданно мигал и не отвечал.
– Проваливай отсюда. И сейчас.
– Куда?
– Куда хочешь. На все четыре…
– Как же это, хлопцы?
– Больше на „сволочь“ не купишь. Не выйдет.
Иван Мыш продолжал недоверчиво мигать. Федор придвинул к себе стул, сбросил с него куртку Православного, повторил так же тихо:
– Ну!
Невозможно слушать его храп по ночам, его привычную фразу: „Почаевать, хлопцы, не дурно бы…“ Или Иван Мыш – или самому придется уйти. Драться будет?.. Ну, поглядим. Федор вцепился в стул.
– Да кто вы такие, чтоб гнать? – В глазах еще не высохла влага, но губы скопчески поджались. – Кто вы такие?
– Собирай манатки!
– Ты не пугай… Я по-хорошему…
– Вот именно по-хорошему. Проваливай!
Минуту назад ласковые, преданные глаза округлились, из мутноватой роговицы – буравящий зрачок, нижняя губа поползла вперед лодочкой.
– Да я ж вас… – Шипящий шепот: – Я ж вас обоих в крупу, вместе со стулом… Вы ж меня знаете – обоих в крупу!
– Ну вот, – Вячеслав вздохнул облегченно, – наконец-то обезьяна показала свое лицо.
И этот облегченный вздох и спокойный голос оглушили Ивана – глаза по-прежнему округлены, рот раскрыт, немота на физиономии.
– Федор, оставь стул, – сказал Вячеслав. – Пусть ляжет… Ложись, голубчик, но помни, что спать опасно. Возле тебя не ангелы-хранители.
Иван Мыш обмяк:
– Хотя бы эту ночь переночую.
– Попробуй, если не боишься.
– Ну, куда мне сейчас?
– Адрес точный – на все четыре стороны.
– Сволочи вы!
Молчание. Стояли и глядели в упор друг на друга. Федор держал на весу стул. Наконец Иван Мыш не выдержал, пошевелился, сопя, пряча глаза, стал натягивать пальто. Шуршала кожа. Федор не опускал стул, следил за каждым движением. Вячеслав опустился на койку, закурил, перебросил ногу на ногу. Впервые в этот вечер его лицо выразило удовольствие.
Выдвинут объемистый чемодан, из тумбочки полетели в него отвертки, коробочки, мотки проволоки, точильные бруски. Иван Мыш взял в руки лампу с тумбочки, стал вертеть в руках, разглядывать.
– Ребята, может, подобру… Подобру-то бы лучше…
Никто ему не ответил.
Федор поймал себя на том, что он вместе с Мышом любуется его лампой – подставка из небрежно обрубленного, отполированного куска дерева, легкий изгиб ручки, крытый черным лаком колпачок – и все это из обычного кухонного половника. Золотые руки…
Вдруг Иван Мыш с силой бросил лампу на пол:
– Сволочи! Вы – сволочи! Не лучше меня!.. Жалеть я должен! А меня жалеют? Вы же все на меня как на стенку глядите! Что я вам? Стенка! Вещь!.. А каким мне быть? Добреньким? Меня с детства никто не жалел. Даже мать… Брата жалела. Он – хиляк, я – здоровило, ему – пряник, мне – кусок хлеба! – Иван Мыш в ярости повернулся к Вячеславу: – Ты – первая сволочь, тебя я больше всех ненавижу! Красивым хочешь выглядеть! Ух, ненавижу!.. Дай, мол, спасу Слободко, пусть поглядит, какой я благородный… Чужими руками. Пусть себе эта дубина синяки да шишки получит, а тебе – добрая слава. Я ведь слышал, как Православный-то сказал… Слышал! „Порядочный человек!“ Ты – порядочный, а Иван Мыш – мразь, вонючая тряпка, подтирай им чужое дерьмо, не стесняйся… На вот – сам утрись! И Православного вашего нисколечко не жалко! Утрись!
– Ты бы не ораторствовал лишка, а шевелился, – перебил его Федор.
– Успеешь. Ты тоже сволочь особая. Откуда в тебе-то спесь? Не умнее ж меня. Деревенщина! Лапотник! И везет же таким. Потычет кистью – все ах да ах! А чего? Тьфу!.. Стул взял. Огреть бы тебя этим стулом! Огрел бы – красная лужа осталась. Только страдать за дерьмо не хочется… Уйду, но вы вспомните еще Ивана Мыша. Еще, бог даст, оступитесь как-нибудь. Оступитесь, а там я уж вас подтолкну, легонечко, незаметно – косточки хрустнут…
Иван Мыш подхватил свой чемодан, отбросил носком сапога покалеченную лампу, в дверях обернулся:
– Я памятливый. Я не забываю!..
Через полчаса он вернулся – без пальто, без шапки, гимнастерка по-домашнему распояской. В какой-то комнате для него нашлась свободная койка.
– Хлопцы, раз не люб, чего уж… Только зря мы сволочили друг друга. И тут черт-те что наговорил я. Не верьте, вгорячах это… Право, совестно…
Вячеслав и Федор молчали, не обернулись в его сторону.
– Говорить не желаете?.. Ладно уж, снесу. Только я на вас зла не имею.
Он поднял разбитую лампу, оценивающе оглядел ее со всех сторон.
– Я ведь прост. Зла долго не держу. Вгорячах-то чего не случается…
Вышел, бережно прикрыв дверь, унес лампу.
– Хитрость гориллы, – проворчал Вячеслав.
Они долго не спали, ждали Православного, а он так и не пришел в эту ночь.
14
День, как всегда, начался с того, что на возвышение взобралась (в который уже раз!) натурщица с распущенными льняными волосами.
На улице ночью выпал свежий снег, и все мостовые города белы, и загроможденная мольбертами мастерская заполнена чистым, покойным праздничным сиянием. Такое ощущение, что выпал не сотый в эту отходящую зиму снег, а лишь первый… Первый снег, умывающий землю! Первый снег, прячущий осеннюю усталость! Первый снег – тихое счастье, бывающее раз в году. Но, увы, подделка, фальшь – февраль за широким окном, первый снег в прошлом, как забытое детство.
Вячеслав, словно после похмелья, тупо уставился в свою работу, на палитре выдавлены свежие краски, а кисти чисты.