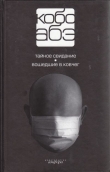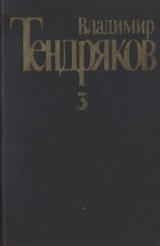
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
Православного нет, а еще стоит его холст с почти законченным портретом – натурщица с накрашенными губами чем-то напоминает монашку. Снимут холст, ничто не станет напоминать Православного – умер для института.
Не явился опять и Слободко. И по-прежнему его работа с ободранной краской вопит о бесчинстве.
А Иван Мыш богомазничает: мазочек к мазочку – складочки, пуговки, расчесывает волосы, чертит губки. Федору виден его холст, и у Федора чешутся руки: взять бы широкий флейц, набрать бы на него побольше краски и, ляпая, пройтись, стирая мазочки и складочки, – хватит сюсюкать, нагруби!
А своя работа?..
Почти две недели изо дня в день взбиралась на возвышение девица, две недели вглядывался в нее Федор, трудился…
Сегодня в первый раз задумался – что за человек сидит перед ним? Кому-то верила – ее обманывали, и еще верит – молодость не прошла; хочет выглядеть умной, а ее ловят на манерности; хочет быть доброй, а получается сентиментально… И эти распущенные волосы, и эти девственно-голубые топа, и это помятое, истасканное лицо. Люди, посочувствуйте ей, она так мало видела сочувствия в жизни!
И пойман свет, упавший на волосы, и вылеплены скулы, в рука на голубом платье прописана не без изящества – а для чего? Нет биографии на портрете, нет человека, ничего не сказано – живописная бессмыслица. Ничего уже нельзя переделать, толстым слоем краски покрыт холст, как-никак трудился над этой бессмыслицей две недели. Начать бы сначала, а зачем? Опять получится то же, нет желания, да и завтра последний» день позирует эта девица.
Мастерская залита чистым светом, сияют белые мостовые за окном – фальшивое впечатление первого снега, праздничности в природе.
…А к вечеру опять развезло. Хлюпала под ногами грязная жижа, с крыш падали на лицо холодные, крупные, липкие капли – от них брезгливая дрожь по всему телу. Прохожие, спрятав лица в поднятые воротники, спешили убраться из-под унылого неба.
Плохо на улице, а в общежитии стоят две койки с содранными матрацами – нежилой вид, разгром, запустение. Вячеслав наверняка куда-нибудь сбежал. И очень хочется увидеть Православного, услышать хотя бы: «Старик, дай трешник в долг…» Лишь бы его голосом.
Плохо на улице, а в общежитии сейчас еще хуже.
Федор остановился перед подъездом.
На стене соседнего здания, с которого четыре года назад сняли плакат «Родина-мать зовет!», все еще висела реклама, уже вылинявшая, примелькавшаяся, но по-прежнему необъятная по размерам: «Пейте Советское шампанское!» Черная бутылка с этикеткой кажется величиной с кремлевскую башню.
А напротив магазин… В его витрине недавно появился плакат: устрашающего вида космополит держит перед лицом умильно улыбающуюся маску. Под витриной у плаката топчется тощий, промерзший насквозь человечек в поношенном пальто, у него лилово-красный от мороза нос и брюзгливо-скорбная складка губ. Он торгует с лотка брошюрами Сталина «Вопросы языкознания».
Как был понятен и прост для Федора мир, когда висел плакат «Родина-мать зовет!». Как он стал запутан и сложен, когда повесили – «Пейте Советское шампанское!». На плече автомат: «Родина-мать зовет!» – и было все ясно. Теперь предлагают «Вопросы языкознания».
И в мастерской остался холст – бессмысленное изображение. Сколько за последнее время Федор выписал лбов, глаз, бород, локонов, сколько тарелок, драпировок, букетов цветов, а во имя чего?..
Иван Мыш бездарен, Федор способен, он лучше Мыша выпишет яблоко на тарелке, точнее передаст насыщенность цвета. Ну и что? Так ли уж велика разница между ними?.. Не все ли равно – на дне водоема вода под мельницей или же она доходит до половины плотины. Ни та, ни другая не достают до лотка. Сух лоток, не вертятся жернова, стоит мельница, нет пользы от разницы уровня. Только полный водоем бросает воду на лопасти колеса, только тогда жернова начнут перетирать зерно, только тогда люди ощутят пользу.
Во имя чего он взял в руки кисть? Во имя какой цели, какой пользы? Чего он обязан достигнуть? Нет ответа – бессмыслица на холсте, сух лоток, неподвижны жернова.
Но раз так, то зачем жить? Слушать лекции, изводить краски, есть хлеб, который добыли из земли руки таких людей, как твой отец? Нет пользы – видимость! Зачем жить, к чему учиться?
В общежитии – четыре стены и воспоминания, раздирающие совесть. Федор побрел бесцельно по мокрому тротуару. Бежали мимо прохожие, забаррикадировав лица поднятыми воротниками пальто, обгоняли друг друга – непрекращающийся человеческий кросс, финиш которого четыре стены и потолок, футляр, отделяющий от неуютного мира.
Бегут, и никому нет дела, что среди них идет потерянный, отчаявшийся человек. Помогите, подскажите, как жить! Нет дела, и упрекать людей не за что. Один ли Федор среди них потерянный да отчаявшийся, редкое ли это явление?
Небо лежало на крышах домов, липкий воздух пах перегаром бензина…
Федор свернул в ближайшую пивнушку-погребок. И тот встретил его прокисшим теплом и шумом голосов.
15
Пластмассы и пластикаты еще не вошли тогда в быт. Светлые кафе в стиле модерн еще не появились. Вместе с сырыми и темными «забегаловками» как-то исчезает мало-помалу самая доступная свобода тех лет – пить водку на свои трудовые деньги. «Пейте Советское шампанское!» Шампанское?.. Шалишь, не тот градус.
Не раздеваясь, становись в очередь к стойке, а затем с кружкой пива в одной руке, с тарелкой в другой ищи место среди грязных мраморных столиков.
На тарелке в граненом стакане нервно мерцает влага, лежат кусок хлеба и сосиски. Место всегда найдется – потеснятся.
Здесь легко сходятся, легко расстаются, целуются и скандалят, жалуются и философствуют, матерятся и читают стихи.
И всегда можно услышать, как какой-нибудь хмельной баритон за соседним столиком вещает о светопреставлении:
– Сто самолетов налет – эка, сиживали и не под такими бомбежками! А нынче не сто, а десять самолетов с атомными бомбами – пыль да пепел, вся страна – могилка. Вот мы беседуем, а быть может, кто-то сейчас нажмет кнопку – вылетай! И шабаш – были, да изошли паром. Штучно не занимаемся, оптом торгуем… Так-то…
– Федька!
Из табачной мглы, окутавшей склоненные над пивными кружками головы, вынырнула щуплая фигура, сияя щербатинкой в зубах, раскрыла объятия.
– Что таращишься, сучий сын? Не признаешь, что ли?
– Вот те раз! Матвей Иваныч! Штука!
– Голубчик ты мой! Собака! Истинно собака! Забыл начисто! Дай я тебя поцелую!
От Штуки густо тянуло перегаром, сразу и не признаешь – где былая стариковская подтянутость, рабочий форс? Одет в старый ватник, на голове заляпанный краской картузик, лицо сморщилось – не лицо, а кукиш в щетине. И эта щербатина в зубах… А на глазах слезы, не понять только – от нахлынувших ли чувств или от выпитой водки, скорей всего и от того и от другого.
– Ах, Федька! Туды твою растуды! Ах, злодей!.. Ну-ка, для встречи – шевелись! Ты ведь, гордыня, верно, богатым стал?
– Ротшильд.
– Давненько мы с тобой не виделись. Давненько. Считай, года два, ежели не более.
Через пять минут они разговаривали через початую бутылку.
– Рад тебя видеть, старик, – улыбался Федор. – Рад… – И осторожно спросил: – Как житье?
Штука помедлил, помигал куда-то в сторону, ответил веско, солидно, не без гордости:
– Пропадаю.
– Что так?
– Спиваюсь.
– Беда какая случилась?
– Ты испортил меня, занудь ученая.
– Я? Тебя? Опомнись!
– До тебя я беды не знал. Делал что приказывали.
Делал, и довольны были. Ты ведь знаешь, какой я мастер. Лучший в Москве по колеру – нюхом доходил, где другие умом взять не могли. Писаных рецептов не признавал… Да-а, было времечко, было, да прошло… Федька! Сучий сын, веришь мне – не жалею об этом! Я – пьяница, я – босяк, дети презирают, старуха из дому гонит, а я не жалею. Я теперь гордость имею… И берегу эту гордость… Свято!
– Толком – что стряслось?
– Да я ж тебе, дураку, вбиваю: стряслось – с тобой встретился! С тобой, подлецом!
– При чем тут я?
– А кто мне все время долбил: уважай себя, пиши свою малярскую профессию с большой буквы, не потакай глупости. Накатец просят, морскую волну – презри и втолкуй: глупцы вы. Кто мне говорил, что я умней всех в своем деле? Ты говорил, божья ты тварь! И спасибо тебе большое за твои слова! Кто говорил, что люди портят себе жизнь, потому что не понимают доброго? Кто говорил: втолкуй, научи, заставь принять это доброе? Ты, раздери тебя пополам! И золотые твои слова! В нутро они мне вошли, в самое сердце!
– Так какая же это беда?
– Ты, мазилка, забыл – мой характер не знаешь? Раз вошло внутрь, то прочно. Перестал я потакать людям! Они мне – сделай под шелк, а я им – пошлость, в шелка теперь не расписывают. Пош-лость! Твое слово, вспомни-ка! И скажу, великое слово – сам проверил, корежатся от его люди. Недавно я его влепил одному архитектору, толстый такой, ученый из ученых… Тоже позеленел… А тут еще бригадир меня стал подбивать, – мол, олифу и краску схорони. Чтоб я! Я! При моей-то гордости – воровать!.. Отовсюду меня теперь гонят, Федька, дурная слава идет… И пусть! А я уважаю себя – не собьешь! Прежде думалось: кто я – маляришка. Ан, пиши с большой буквы… И вот спиваюсь… Да, спиваюсь! Пусть люди об этом жалеют. Они по своей глупости наилучшего из маляров лишаются. А без маляров что за жизнь – в сараях, среди серых стен, как скоты. Лишаются, Федька, пусть им плохо будет!.. Ну, чего уставился, словно у меня на лбу икона писана?
– Вот не знаю – прав ли ты?
– Это ты-то сомневаешься?! – В подернутых слезой глазах Штуки плеснул ужас. – Федька! Прохвост ты эдакий! Заткни свою пасть! Ведь ежели ты меня осудишь, то мне одна дорожка – на чердак и в петлю! Не-ет, не собьешь, я свято верю в гордость. Великое это дело – гордость в душе иметь… Выпьем за гордых! Ну!
– Выпьем…
– Нет, прежде ты скажи, прежде ты успокой меня – ведь я прав? Говори, жучок охристый, прав я или нет?
– Ты прав, старик.
– То-то… Ну, будь здоров, золотко.
Штука перекосился, понюхал корочку, не закусил, отдышавшись, спросил:
– Ты-то о себе скажи – как живешь? Высоко, видать, взлететь собираешься?
– Плохо живу.
– Да ну? А что?
– Я, Матвей Иванович, недавно за товарища руку не поднял.
– Били, что ли, парня?
– Били.
– И боялся, что тебя изобьют?
– Да и не боялся вроде, а как-то не сумел.
– Что-то не похоже на тебя… А человек-то стоящий?
– Товарищ.
– Ясно. Не-ет, что-то не похоже… Ты ведь не трус. Помнишь, как к нам за городом, ночью на пустыре двое подкатили. Я-то тогда трясся, как овечий хвост, а ты – нет, не испугался… Били товарища, и руку за него не поднял. Не верю… Давай-ка выпьем… За твое здоровье, браток.
– За твое, старик.
А у соседнего столика продолжал самозабвенно, похмельному куковать баритон:
– Все не вечно. Солнце не вечно. Земля не вечна. А человек что? Человеку тоже свой век отмерен. Придет время – все вымрут. Может, вот оно, это время. Может, завтра все сообща от своей же глупости загнемся – моря будут пустые, земли пустые…
Матвей Штука презрительно скривился, показывая щербатину:
– Развелось тут…
– Что – развелось?
– Да этих – молельщиков. На смерть молятся, болваны. Что толку о могиле думать? Будет конец, нет ли – там видно, а пока живешь, думай, как жизнь устроить. Нет, смерть, видишь ли, щекотливее для беседы. Пустобрехи… Ну, по новой, за твою жизнь, охристый…
Еще стопка, и язык Штуки стал заплетаться:
– Накатец под шелк, морскую волну, а я им святое словцо – пошлость, выкусите…
– Морскую волну… Слышь, Штука, ты не бывал у них?
– У кого?.. Накатец… Не-ет, выкусите!
– Помнишь, у кого мы первый раз работали? Там дочка и мать. Дочка высокая, а мать толстая с усиками, золоченые багеты еще заставила нас прибить.
– Не помню… Мало ли у кого работал.
– В морскую волну настаивала стены выкрасить.
– Морскую волну… Не-ет, святое слово – пошлость… Пошлость, разлюбезные…
Дюжий буфетчик с гневливо-багровым лицом тащил за шиворот к дверям вконец окосевшего пьянчужку.
– Морскую волну… Уж не-ет, выкусите…
На улице Штука чуть протрезвел. Федор усадил его в полупустой трамвай. И когда увидел его с улицы через освещенное окно, маленького, растрепанного, заросшего, от которого брезгливо сторонились пассажиры, стало до боли жалко этого пропащего человека, и снова появилась крамольная мысль: «А прав ли? Плохой маляр лучше, чем хороший, но вконец спившийся».
16
Сыпал мелкий дождь и тут же застывал. Такое впечатление, будто мостовые покрыты рыбьей слизью.
И по-прежнему бежали прохожие – мимо, мимо, к себе, к своим стенам.
У Федора нет ни стен, ни семьи, он в последние годы только и делал, что рвал с людьми. Была мать, был отец, была родная Матёра… Вся война – цепь сроднений и безвозвратных разрывов. А Савва Ильич?.. Он и до сих пор предан. Но Федор для него – что облачная планета Венера для астронома: видна, но не понятна.
И думалось – в институте обрел новый дом, новую родню. Видимость! Не дом, а купе поезда дальнего следования, не родня, а временные попутчики. Православного высадили на полустанке, остался Вячеслав. Но скоро конечная остановка, взмах руки – будь здоров, вспоминай… и со своим багажом по разным дорожкам.
Прохожие, прохожие – тесно в вечернем городе. Бегут и не могут разбежаться, кажется, цепляются друг за друга.
Спросил у Штуки про дом, где под золочеными багетами царствует мамаша-фараонша, спросил ради той, смахивающей на Нефертити. Для чего спросил?.. Ничего не было и быть не могло – дым, выдумка, запах, отуманивший на минуту. К несбыточному тянет, чтоб на старости лет вспоминать легенду: «Как хороши, как свежи были розы…»
Да и может ли быть у него что-нибудь, кроме несбыточной легенды? Ему некогда оглянуться в жизни, он несет оковы. Первая постановка на экзаменах, бутылка с лимонами, – первый страх: кто он, на что способен? А сейчас, четыре года спустя, все тот же страх, прежний, не-притупившийся: кто он, на что способен? Оковы, которые нельзя сбросить, все силы уходят на то, чтобы нести их, все силы, вся душа без остатка.
Встречались женщины и отходили в сторону – легко ли любить человека в оковах! Нина Худякова первая почувствовала – не до нее, недостаточно внимателен. Если б Федор оставался героем, она, быть может, снесла бы равнодушие; если б он оказался несчастным, нуждался в ней, – осталась бы, поддержала как могла. Но быть постоянно героем невозможно, а несчастным не позволяет гордость – нес оковы, не жаловался… И после лекций Нину стал поджидать высокий парень в спортивном костюме с самоуверенной физиономией бретера.
А наверно, только через женщину можно стать близким к людям. Женщина, дом, дети, ответственность за них, незримая связь с будущим – привычная колея, по которой катится род человеческий.
И для этого не обязательно нужна Нефертити…
Уже намечаются залысины, уже морщины у глаз, и «годы проходят, все лучшие годы…». Кончается молодость, и сух лоток, и стоят жернова… На минуту хоть сбросить оковы, пойти к Нине, сказать не скрывая: «Одинок. Прими обратно, не отталкивай, не найдешь более нежного, более верного, более нуждающегося в тебе…» А почему бы нет? Стыдно показать себя слабым, сказать правду?..
Полузабытой дорогой к древнему особнячку с облупленной штукатуркой, по скользким мостовым, под липким холодным дождем… Мокрый, промерзший, он подымался по темной широкой каменной лестнице с кислым запахом, который не могли истребить года.
Прежде чем нажать на звонок, замялся.
Сумасшедший, ты же забыт в этих стенах. И свято место не бывает пусто, – наверно, сидит там сейчас какой-нибудь парень в спортивном костюме… Проваливай, ты лишний, ищи другого пристанища. Зачем тебе идти на унижение?
Но он стоял перед тяжелой дверью, когда-то обитой толстым ковровым материалом. Обивка облезла, торчит пакля в прорехах, кой-где тускло поблескивают крупные шляпки медных гвоздей. Если сейчас повернуться и уйти, будешь казнить себя за малодушие, будет тянуть тебя сюда, рано ли, поздно – придешь, снова станешь перед этой дверью. Так лучше сейчас пережить недоумение, неловкость, косые взгляды, чтоб раз и навсегда стало ясно.
Федор позвонил.
Прошло минуты две, прежде чем за ободранной дверью послышались шаги, щелкнула задвижка и выросла женщина с повязанной щекой и мученическим выражением лица.
– Не скажете ли, Нина Худякова дома?
Женщина ничего не ответила, равнодушно отошла, оставив дверь открытой, – нелюбезное приглашение: входи, если хочешь. Значит, Нина дома.
Знакомый, как чердак, заваленный пыльным хламом, коридор. Густое, потное тепло перенаселенного жилья.
В байковом халатике до пола, небрежно причесанная, с обычным выражением сонливого покоя на лице, Нина предстала в дверях своей комнаты. Свое удивление она выразила лишь тем, что с минуту стояла молча, с величавым спокойствием разглядывала Федора.
– Как ты поздно! Он уже спать ложится, – сказала она так, словно Федор заходил каждый день.
Он!.. За спиной Нины кто-то зашевелился.
– Извини… Я на одну минутку. Вот шел мимо…
– Да нет, заходи, заходи, будем рады.
– Пожалуй, я лучше пойду… Право, поздно.
И вдруг знакомый голос из глубины:
– Старик, я сейчас оденусь!
Вот те раз!.. Нина отступила в сторону, давая Федору пройти.
В чистой нижней рубахе, в наспех натянутых брюках, босой, сидел на койке Православный, сконфуженно жмурил близорукие глаза.
Нина удалилась на кухню, чтоб поставить чайник.
Комната не изменилась, по-прежнему она походила на просторную пещеру – серый, давно не беленный потолок с пыльными лепными украшениями, раскоряченный, смахивающий на малярские козлы мольберт, исчезла только железная труба, да в старой, в три бронзовых рога люстре горела не одна, а все три лампочки, на каждую из них надеты самодельные колпачки из разноцветной гофрированной бумаги – красный, желтый, синий. Красные и синие размытые пятна падают на стены, в углах по-прежнему полутьма.
Православный водрузил на нос очки, но в глаза Федору глядеть боялся – смущенно улыбался, шмыгал носом, прятал босые ноги под койку. Но выглядел он непривычно: чистая рубаха, сам чистый, выпаренный, даже вихры не торчат – улыбается… Несчастный? Нет, не скажешь.
– Старик! Она – святая, – сглотнув от волнения, произнес Православный.
– Рад, что ты так думаешь.
– Старик, мир полон прекрасных людей. Мы только их не замечаем.
– Не будем преувеличивать.
– Я говорю о людях, старик, о людях! Иван Мыш – ублюдок среди людей. Берегись его.
– Спасибо за совет. Жаль, что он запоздал.
– И не будем о нем вспоминать. В этих стенах запрещено произносить его имя.
– Поговорим о тебе.
– Обо мне?.. Не надо соболезнований. Я легко все перенес. Мне помогли, старик!
– Кто? Она?
– Она.
– И еще?
– Левка Слободко.
– Во то-то и оно. Тебе помогли – кто-то, а не мы, которые четыре года жили вместе.
– Вы славные ребята!
– И только-то. Славные, но в вашей помощи не нуждаюсь. Мы ждали тебя у дверей – ты прошел мимо. Мы ждали ночью – ты не явился.
– Я не мог явиться туда, старик. Там бы я встретился с ним.
– Мы его выгнали.
Православный серьезно и удовлетворенно кивнул головой: «Понятно».
– Ты что-то недоговариваешь, – сказал Федор. – Говори!
– Старик, мне нечего от тебя скрывать.
– И все-таки недоговариваешь чего-то.
– Мне с тобой легко, а вот с Вече теперь было бы трудновато.
– Почему?
– Он честный, он умный, он готов сломя голову идти на помощь – не продаст… Но понимаешь, считает, что его взгляды самые правильные, даже единственно правильные, его вкус безупречный и уж решение, что созрело в его просвещенной башке, – самое наилучшее, род человеческий должен пользоваться только им. Пророк! И я бы готов, старик, идти за пророком. Готов! Сам Америк не открою. Но за этим пророком бегут вприпрыжечку Иваны Мыши. Вспомни, как Мыш смаковал его «баррикады»! Вот в этой компании не хочу быть. Я лучше, старик, пойду за Слободко.
– Но Иван Мыш, поднатужившись, может процитировать Маркса или Гегеля. Ты что же, после этого заявишь – к черту всю классическую философию, если ее такой Мыш смакует?
– Сравнил.
– Поганый червь всегда норовил влезть в съедобный гриб.
– Старик, а так ли уж съедобно то, чем пичкает нас и себя Вячеслав? Мне не по вкусу его баррикады. Баррикады – вражда! Вражда, а не содружество.
– Тогда води дружбу и с Иваном Мышом. Он ведь тоже скоро влезет в искусство, даже больше – станет командовать! И – да здравствует содружество! Он тебя в уста расцелует за такой лозунг.
– Но пока, старик, Иван Мыш с Вече по одну сторону баррикад, а я и Слободко – по другую!
Федора взорвало:
– А кто выступал против Мыша? Кто поднял руку за тебя? Один из всех! Твой Слободко кричал потом – красуется! Ложь! Слободко оправдывает свою трусость. Презираю его! Презираю, как самого себя! Я тоже не поднял руку – ни «за», ни «против», ни «воздержался». Но я хоть не оправдываюсь, мне стыдно за это!
Вошла Нина с чайником. Православный сказал:
– Замнем, старик. Считай, что я не прав.
На шатком столике появились чашки. Одна из них была хорошо знакома Федору – саксонский фарфор, наследство Нининой матери, на донышке марка – синие перекрещенные мечи. Сейчас эта чашка была передвинута Православному.
Нина священнодействовала – в тени под ресницами манящая влага глаз, высокая грудь, белые руки плавают над столом, по-домашнему позванивает посуда. Заводить при Нине разговор об Иване Мыше, ворошить грязную полову – кощунство.
Православный глядит на Нинины руки, и глуповатая улыбка растягивает рот – тает парень. Он даже стал красивее – крепче лицо, не заметно обычной мешковатости, и плечи развернуты, и грудь вперед по-петушиному, хотя и блуждает глуповатая улыбка, но не скажешь – гадкий утенок. А Нина чувствует его восхищение, гордится собой, гордится им, плавают руки над чашками.
– У меня есть один знакомый, – не спеша, с убежденностью заводит она разговор, – главный редактор в издательстве. Я поговорю с ним, и он примет Леву на постоянную работу – художником-оформителем…
– И все врет! Все врет! – восторженно перебивает ее Православный. – Никакого знакомого у нее нет.
– Есть, – голос Нины загадочен и мечтателен.
– Если и есть, то там нашего брата – что мух вокруг меда. Все врет!
– И первое, что мы купим с тобой, – ковер на пол. Большой такой, мохнатый, чтоб ноги тонули.
– Все врет! Ну, все врет, старик! Никакого ковра не купим.
Федору бы хотелось, чтоб не Православному, а ему пододвинули чашку саксонского фарфора. Жаль себя и почему-то жаль счастливого Православного, грустно… И уютно от этой грусти.
С каким-то смирением он вышел снова в сырую ночь.
17
Он дернул дверь в свою комнату.
Рядом с Вячеславом поднялся сухонький длинноволосый человек в куцем пиджаке, в застегнутой до подбородка рубахе в полоску, в сапогах с широкими голенищами.
– Ты?..
Федор прирос к полу. Перед ним стоял Савва Ильич, морщил лицо в несмелую улыбочку, виновато и растроганно помаргивал. В деревне он все-таки казался шире, плотней, здесь. же совсем ребенок с лицом старичка. И выстиранная, наверно в поезде надетая, рубаха в полоску, и этот древний неловкий пиджачок, и эти громоздкие, старые, с рыжими голенищами сапоги. Сам себе в Матёре он казался франтом. У Федора сжалось сердце при виде старости, бедности и откровенной беззащитности.
Жидкие седые волосы старательно расчесаны, и морщинки, морщинки, знакомые, изученные, полузабытые.
– Ты?.. Здравствуй… Как же так? Каким ветром?
– Да вот взял да приехал… – Руки смущенно разошлись в стороны, словно попросил: прости, если можешь.
– Мы уж давно тебя ждем, – с упреком произнес Вячеслав. – Наконец-то!
– Вот решился… Может, умру скоро, так хоть настоящих людей увижу.
– Савва Ильич извелся весь. Каждую минуту на дверь оглядывался.
Не часто видел Федор на лице Вячеслава ничем не прикрытую доброту и жалость. Он даже поглядывал на Савву Ильича с какой-то размягченной, робкой нежностью.
– Извини, но кто знал, кто знал?
– Да что ты, что ты! Я тут так душой угрелся, что и не заметил, как время пролетело. Мы с Вячеславом Алексеевичем беседовали… Ох ты господи! За такую радость еще извинения выслушивать… Меня извините, что упал как снег на голову. Жил себе, жил да испугался: а вдруг умру и ни разу вас всех не увижу? И вот…
– Ну, еще раз…
Обнялись. Под руками Федора – острые, по-старчески хрупкие плечи. Савва Ильич поспешно отвернулся, высморкался в платочек, скомканный узелком.
– Сядем, старик. Даже угостить тебя не могу.
– Обожди, обожди, у меня целый чемодан гостинцев… От матери тебе. – И Савва Ильич суетливо стал выкладывать на стол пироги из серой, грубого помола муки – пряженики, коржи, загибуши. – Оно конешно, не городская снедь, где уж – не красно живем. Но родное… Мать старалась.
Вячеслав опять с непривычной услужливостью вскочил:
– Кипятку принесу… Федор, если задержусь, не начинайте без меня.
Но он не задержался, где-то раздобыл бутылку, разлил себе, Федору, Савве Ильичу самую малость на дно кружки, так как тот отмахивался обеими руками.
После глотка водки у Саввы Ильича в глубине мор-щипок стал копиться румянец. Он туманно-радостными глазами поглядывал то на Федора, то на Вячеслава, казалось, не верил, что все это с ним происходит наяву – сидит в Москве, в хорошей компании, с ним предупредительно вежливы, подсовывают лучшие куски, даже водки достали ради встречи.
– А я, Федюшка, водку-то, поди, второй раз в жизни пью, – недоумевая, сообщил он. – Первый раз лет сорок назад, когда еще парнем был, по глупому делу хватил. Тоже ведь хотелось казаться ухарем.
– И это, когда вокруг озера самогону выпивают, – пояснил Федор Вячеславу.
– Не пил водки, не курил вовеки табаку, да что скрывать, и от женского пола, считай, всегда в сторонке. Так и не женился… И разносолов не едал, и мягко не спал, и одевался кой-как… Вы скажете: никудышная жизнь, не позавидуешь. Ан нет, не пожалуюсь… Слышь, Федюшка, умер Платон Муха.
– Это тот, который вывески писал?
– Он самый – плотник, маляр, на все руки мастак. Умер на крещенье… Грех вспоминать недобрым словом, а все-таки скушно жил, для копейки. Всю жизнь норовил урвать длинный рубль – и пил запоем, и гулял. Не жизнь, а угар, так в угаре-то ничего и не увидел. Не было у него настоящих радостей, а на белом свете пятьдесят семь лет проторчал, и бела-то света не заметил, и умер пьяным. Как подумаешь – страх берет… А моя жизнь – не-ет, не похожа. Я каждый день был пьян-пьянешенек не от вина, от радости. Утречком, как проснешься, как вспомнишь – день впереди, целый день, и без ума счастлив, что этот день-то не почат. Выскакиваешь на крыльцо, да в поле, а там – на траве, ее словно морозец прижег, роса никем не тронутая, сбереженная для тебя, шагаешь по ней, а за тобой след мокрый такой, зеленый-презеленый, кажись, течет эта зелень ручьем. А тут еще в небе, высоко, у самого солнышка за пазушкой, жаворонок кипит… И аж зашатаешься, аж заплачешь от радости. Стыдно сказать, стоишь дурак дураком, и слезы текут… Вот ведь какое. Разве Платон Муха знал это? А потом сядешь перед березкой, положишь на колени бумагу, краски вынешь… Ты и березка – никого больше, никто тебя не обидит, дурным словом не обзовет. Ты и березка, а меж нами беседа неслышная, по душам. У нее ветка коленом идет, и она говорит мне: «Вглядись, неспроста это, смысл есть». Говорит, а я ее понимаю… Понимаю ведь, смысл улавливаю, великий смысл. Тут уж я сам себе царь Соломон, мудрей меня нет никого на свете. Стыдно сказать, гордость душит… Каждый день такое счастье, каждый день, шутка ли…
Вячеслав в самом начале разговора поднес ко рту кусок пирога, поднес и не донес – застыла рука в воздухе, широко раскрытые глаза уставились в мечтательные морщинки Саввы Ильича.
А у Федора все перевернулось в душе: Иван Мыш, одинокий и жалкий пьяненький Штука, суматошные прохожие, цепляющиеся друг за друга, бегущие по неуютному, тонущему в сырости городу, – ах, все ерунда, суета сует. Забыл о росе, морозно подернувшей траву, забыл о кипящих где-то «у солнца за пазушкой» жаворонках, забыл о том, что еще много, много непочатых дней впереди, забыл, что жизнь – это радость. Ах, родной Савва Ильич, по-прежнему твои Федька-дошколенок перед тобой. Ему суета сует стала важной, растравила жизнь… А ведь презирал тебя тайком, старый мудрец, – бесталанен, простоват, дорог только старой дружбой… И Вече сидит оглушенный, не донесет пирог до рта.
А журчащая речь Саввы Ильича текла дальше:
– Каждый день… Но ведь в жизни еще и удачи бывали, да еще какие! Бы-ва-ли! Разве не удача, Федюшка, что ты мпе попался? Мог и не встретить тебя, мог запросто не приметить – столкнулся бы да мимо прошел. Всяко случается. Ан нет… Удача… Я слаб, я стар, да и, поди, не шибко-то талантлив. Ты молод, в тебе силушки на пятерых, и в тебе бес сидит, демон, нечеловеческое. Верю в тебя! Верую! Великим живописцем будешь! Слепые глаза распахнут, Платона Муху прошибешь!..
При слове «верую» у Федора шевельнулась тоска, стала расти, тягучая и удушливая. «Верую», а в мастерской сейчас стоит бессмысленный, никому не нужный холст. «Верую», а он, Федор, завяз, словно паук в смоле, не знает, как выкарабкаться.
– Великий живописец! А кто его подтолкнул? Я!.. Иль не так, иль кто-то был другой, не Савва Ильич Кочнев? Я – не отымешь! Значит, и на мое имя кусочек спа-сиба приходится. Крохотный кусочек большого спасиба. Разве не удача? Разве не подарок? В бога бы верил, сказал – благословение господне!.. А плох стал… болею… И находит временами – не мил свет, да и только. А как вспомню, что ты на свете живешь, – ты – молодой, здоровый, талантливый, ты – моя веточка зеленая, отросток от сухого пня, – так и светло станет. Дожить бы до того времени, когда ты в силу войдешь. Эх, дожить бы!.. – Савва Ильич, погасив блеск в глазах, погрустнел. – А плох стал – рука к кисти не тянется…
И Вячеслав выдохнул сквозь стиснутые зубы.
«Рука к кисти не тянется…» – и невольно содрогаешься от несчастья, сваливающегося на человека. Нечему радоваться, отнимается то, чем жил, рука к кисти не тянется – бессилие! И пусть это бессилие мешает немногому —, не станут появляться на свет прилизанные пейзажики с елочками и березками, ватными облачками, – но все равно – непоправимое несчастье!
Савва Ильич пригорюнился, замолчал.
Вячеслав встал, прошелся по комнате, остановился возле стены, продекламировал в стену:
…Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой…
Повернулся, расстроенный, с остановившимся, устремленным внутрь себя взглядом, спросил:
– А что такое святая правда? Как бы ее пощупать?.. Может, золотой сон и святая правда – одно и то же? Не ущупаешь. – Помолчал, сердито ответил сам себе: – Золотой сон… Сон и правда?.. Враки!
18
Спать легли под утро. Федор не мог уснуть. Припомнилась пастораль Саввы Ильича, которую слышал в детстве.