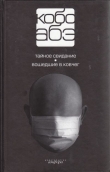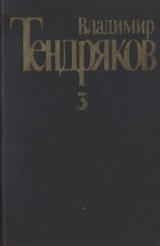
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц)
Сейчас Федор слушает спор замирая, словно заглядывает в пропасть. Чуть-чуть, еще усилие – и упрямая Вселенная ляжет у ног…
Ах, Вече! Ах, золото!..
Барынька, чванливо несущая икону… Вот-вот, кажется, хватает за хвост!
Вглядись в эту барыньку, вникни, и она выбьет искру в мозгу. Искру! Мысль! Ради этой искры и живет искусство. Искра – вот она, истина!
Ах, Вече! Ах, молодец! Еще чуть-чуть! Еще чего-то не хватает…
Барынька, монстры в армяках, батюшка в золотой ризе, кнуты – искорка за искоркой, и уже пламя, уяме фп-лософпя. Как просто, как ясно – все стало на свои места. Нет путаницы.
Ах, Вене! Варнт котелок!
Но «Стога»?.. Нет барыньки, нет монстров – стога, луна, мокрая трава… Запахи, а не мысли.
И Федор спросил:
– Мысль, Вече? А может, что-то другое?
Вячеслав насторожился – Федор не часто нарушал молчание.
– И ты, Брут?.. Но ты-то хоть признаешь, что живопись не дух и – нюхнул, насладился, забыл. Должно же искусство как-то совершенствовать человека?
– Должно.
– А чем можно еще совершенствовать мыслящее животное, как не развитием его мыслительного аппарата? Только через совершенствование человека искусство и участвует в истории, только так оно помогает социальным преобразованиям.
– Блин! – снова возразил Эрнест Борисович. – Послушай вас – и перестанешь различать паровую машину Уатта от шедевров Делакруа.
– Верно, Вече, – согласился Федор. – Машина Уатта заставила поумнеть как рабочего, так и фабриканта. И, наверное, больше, чем работы Делакруа.
– Куда ты гнешь, Брут?
– К простой мысли: человек совершенствует не только свой мыслительный аппарат, но и какие-то другие качества…
– А именно?
– Ну чуткость, ну честность, ну то, что обычно называется человечностью. Мало ли встречается людей – умны, но сволочи, – пробы ставить негде.
– И как же, по-твоему, искусство лечит от сволочизма?
– Скажем, по принципу – удивись и вздрогни.
– Это еще что за принцип?
– Я – зритель. Я в жизни тысячу раз видел лунными вечерами стога сена. Видел, но как-то не так, не по-левитановски. Проходили мимо без следа. И вот картина – вздрогни и удивись, сколько ты пропустил мимо, как много не заметил. На меня, зрителя, как бы находит, прости за высокопарность, озарение. Я после этого и в жизни начинаю замечать больше, становлюсь более чутким…
– К стогам в сумерках, к вечеру, к луне?..
– К стогам, к вечеру, к природе… Эта чуткость западает, становится привычкой, моей натурой, переносится с природы на людей, мое поведение в жизни меняется…
– Армия Спасения на мою бедную голову, – произнес Эрнест Борисович.
Все обернулись к нему.
– Один заподозрил меня в скудности мышления, другой – силой навязывает нравственность, – продолжал Эрнест Борисович. – Я, быть может, недостаточно умен и не совсем нравствен, но ум я как-нибудь приобрету, читая научные книги, нравственность прививается законами морали. Кстати, моим нравственным багажом я обязан не великим художникам, а моей доброй маме, которая, увы, не была сопричастна ни к какому виду искусства.
– Вам хочется просто нюхать духи? – спросил Вячеслав.
– Когда я покупаю билет в консерваторию на концерт Чайковского, то меньше всего думаю, чтобы получить за свои десять рублей пуд лишней нравственности или килограмм общественно полезного ума. Я иду, чтоб насладиться. Моя жизнь становится красивой, приятной, заполненной. А если это произойдет со всеми, то можно ли сомневаться, что композитор и исполнители совершили общественно полезное дело? Тот, кто способен доставить наслаждение народу – не низменное наслаждение, а высокое, – такая же социально полезная фигура, как прогрессивный философ.
– А это вы повесили тоже для наслаждения? – спросил Вячеслав, указывая на картину – дохлая лошадь с поднятым копытом.
– Она по-своему действует на меня, – спокойно ответил Эрнест Борисович.
– И как? Приятно?
– А разве только приятное заставляет наслаждаться? В ваши годы я уходил из МХАТа в слезах, перестрадавший, измученный и благодарный за эти мучения. Перед следующим спектаклем я снова стоял в очереди за билетами. Есть наслаждение в бою…
– В бою, в действии, в жизни! Но если человек наслаждается видом падали, то я неизбежно начинаю подозревать в нем наличие патологического извращения.
– А скажите, чем приятны кровавые злодеяния леди Макбет? Всякий нормальный человек в жизни старался бы избегать такого, а на сцене смотрит, деньги платит, и не потому, что рассчитывает поумнеть или возвыситься нравственно. Ему интересно, доставляет удовольствие. Назовите это извращением.
– Мне интересны действия леди Макбет – действия, жизнь, а не распухающие в могиле трупы ее жертв.
– Все дело в привычке. Когда-то ценителей искусства мутило от вида босоногого мужика на картине. Здесь… – Эрнест Борисович обвел рукой стены, – разные направления, и вы все их отметаете?
– В общем, все, – согласился Вячеслав.
– Не считаясь с тем, что многим это доставляет неподдельное наслаждение?
– То-то меня и поражает.
– Это потому, что вы, мой молодой друг, – ровесник моему отцу, петербургскому присяжному поверенному Борису Моисеевичу Милге.
– Снесу, – согласился Вячеслав. – Меня называли и ровесником питекантропа.
– Я, например, – продолжал Эрнест Борисович, – но могу пользоваться душевным комфортом моего отца. Для меня – сумерки, стожки, овечки, деревеньки, вся эта дедовская аркадия – анекдот с бородой. Скучно! Я живу в век с сумасшедшинкой, а потому и мой душевный комфорт должен быть с бесноватинкой. Видите ту картину? Не большую, поменьше…
– Вижу. Бесноватинка умеренная, – ответил Вячеслав.
– И она вам не нравится?
– Сначала скажите, что это?
– «Испанский танец».
– Почему? Откуда это видно?
– Не задумывался. Сочетание черных, красных, желтых пятен напоминает вихрь одежд испанок.
– Почему именно испанский, а не цыганский, не алжирский? Почему именно танец, а не пожар в кустарнике? Тоже ведь похоже. Впечатляет просто бесформенное сочетание цветов. Да, да, и меня впечатляет, и мне нравится. С удовольствием бы голосовал, чтоб наш ширпотреб выпускал такой расцветки галстуки и драпировки на окна.
– Ага!
– Но тогда ваше искусство потеряет право глубокомысленно называться абстрактным, а примет свое законное название прикладного конкретного искусства.
Лева Слободко взвился с места:
– О! Чушь! Баста!
– Доставлять наслаждение похвально, но этого мало, Эрнест Борисович!
– Вече, ты профанируешь!
– Вот, вот, – торжествовал Вячеслав. – Слышите, Эрнест Борисович! Этому прогрессивному деятелю мало доставлять одни лишь услаждения. Хочется большего. Только не знает – чего?
– Свести абстракционизм к драпировочным коврикам – мещанская башка способна такое придумать!
– Старик, чиновник остался без места, – провозгласил Православный.
– Ты-то что подпеваешь? – накинулся на него Слободко.
И Православный ощетинился:
– Спасибо говори, старик, в ножки кланяйся, что твой абстракционизм к делу пристроили.
– А музыка? – Слободко потрясал дюжими кулаками. – Музыка, черти, тоже абстрактна! Абстракт-на!
Эрнест Борисович попытался пробиться:
– Дайте мне сказать… Минуточку…
Какая там минуточка – над спутанной шевелюрой Православного качаются кулаки Левы Слободко.
– Музыку не только как подкладку приштопывают по ходу действия к кинофильмам, к словам песен! Музыка, остолопы, существует и в чистом виде!
– Изобразительное, старичок, изобразительное. Изображать можно не звук, не стон, не содроганье, а что-то вещественное.
– Нас-тро-ение! Самое неуловимое – настроение изображается!
Остро блестят очки Православного, зудяще отзываются оконные стекла на негодующий рев Левы Слободко, рассекают воздух увесистые кулаки. Эрнест Борисович без надежды просит:
– Минуточку…
Иван Мыш все время возвышался, как шкаф, как буддийский бог, только глаза бегают с одного лица на другое. Сейчас он, не меняя серьезной мины, деловито поднялся, шагнул к Православному, взял под мышки, поднял в воздух. Православный извивался и кричал:
– Музыку, старик, не подтасовывай. У каждого искусства своя специфика!..
– Остынь, не рыпайся. Человек спросить хочет.
Но в это время из-за дверей раздался голос жены Эрнеста Борисовича:
– Молодые люди, стол накрыт! Можно и за столом продолжать ваши милые диспуты.
…Чуть осоловевшие от выпивки и плотной закуски, шли вперевалочку по темным и уже опустевшим улицам. Погромыхивали в тишине ботинки Православного.
Слободко дулся на Вячеслава, выставив грудь из расстегнутого пальто, выступал индюком.
– Рассудить по совести, мы изрядные сволочи, – философствовал Православный, – напились, наелись, ковры истоптали, книжки посмотрели и мимоходом обложили хозяина – неумека ты, паршивый любителишка. Старик, ты не чувствуешь угрызений совести?
– Ничуть.
Вячеслав – шляпа набекрень, пальто застегнуто до подбородка, поступь враскачку – и ростом не вышел, и в плечах узковат, а встретишь – дорогу уступишь. Федор позавидовал: никогда не сомневается в себе, ни в чем не раскаивается, прет вперед, не стой на пути – прошибет лбом.
У остановки троллейбуса, под окоченевшей липой, Лева Слободко повернулся грудью на Вячеслава:
– Шабаш! Не возьму тебя больше к Эрнесту.
– Ай, ай, запл а чу.
– Порог не переступишь, сукин сын.
Слободко навис над Вячеславом – выше на полголовы, массивнее, но Федору почему-то жаль его.
– Эх, простота святая, – Вячеслав широко улыбнулся в лицо Слободко. – Все еще ходишь в гениях? А ведь, пожалуй, теперь мой черед с Эрнестом на брудершафт пить.
Слободко стоял, распахнув пальто, смотрел круглыми, остекленевшими глазами.
– Знаешь что?
– Пока нет.
– Давно меня подмывает в морду тебе съездить.
И резко повернулся, толчками пошел прочь, полы пальто летели над подмороженной мостовой.
– Самый веский аргумент, – произнес Вячеслав, глядя вслед убегающему Слободко. – Иван Мыш, перейми опыт, у тебя большие данные.
Православный, ковыряя притоптанный снег носком ботинка, сказал:
– Эх, старик! Не хватает тебе чего-то. Мягкости, что ли.
И Вячеслав не сразу ответил, оглянулся на Федора;
– Ты тоже так думаешь?
– Есть, Вече, в тебе что-то от рельса.
Подошел троллейбус, ярко освещенный, заиндевелый, внутри по-ночному пусто и как-то грустно. Укутанная по глаза кондукторша с неохотой очнулась, выдала билеты.
Отъехали остановки три, прежде чем Вячеслав заговорил:
– Разве вы не чувствуете – мы раскалываемся? Один на одну сторону, другие на другую. В искусстве всегда стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг.
– Голос рельса, старик, голос рельса, даже Федька признал.
– Считайте как хотите. Нельзя торчать между баррикадами. Кончилось у нас со Слободко корешкование.
4
Уже четыре года Федор стоял у мольберта, много холстов покрыто красками. Исполнилось двадцать шесть лет, лоб пробороздили морщины.
Каждое лето заглядывал в родную Матёру.
Мать, казалась, время не брало, по-прежнему распевала:
Березыньки-то зак у ржавели,
Елочки-то зам о зжевели…
Отец седел и темнел лицом, у него появилось какое-то неподвижно-кремневое выражение, по целым дням молчал.
Он бригадирствовал. Утром обходил деревню от избы до избы, стучал под окнами:
– Настасья, собирайся… Кочкарев луг докашивать.
Бабы его боялись, председатель колхоза тоже побаивался.
Председателем был поставлен из района некий Великанов, тощий, невзрачный, на юношески хрупких плечиках громадная голова, рыжие глазки, рыжие брови, рыжие ресницы, рыжая щетина на одутловатых щеках, – светится, словно мартовское солнышко, безобиден, если и отчитывает, то тонким обиженным голоском. Вчуже становилось почему-то жаль его.
Как-то Федор подслушал – отец угрюмо говорил председателю:
– Ты для нас – зверь хищный.
И председатель, вместо того чтобы обидеться, стал слезливо оправдываться;
– А разве ж я хочу зверовать?.. Рад бы навострить лыжи, да не пускают.
– Все одно беги, пока колхоз не съел. – Рад бы в рай, да грехи не пускают. Сам не хуже моего знаешь.
Великанов прежде работал на лесопункте, получал оклад тысячу сто рублей. Перебросили в колхоз на укрепление, но чтоб не был в обиде, оклад оставили за ним, только выплачивать обязали из колхозной кассы. А в кассе хоть шаром покати – одни долговые расписки, год от году забирали кредиты. Каждый месяц выводили из скотного корову, забивали, везли продавать, чтоб выплатить председателю положенную зарплату. Тощий, застенчивый Великанов «съел» едва ли не треть стада. Одна надежда, что сам норовит навострить лыжи, долго не удержится…
Матёра слепла. Половина изб стояла с заколоченными окнами. Парни, уходившие в армию, не возвращались обратно. Мужики работали на сплаве. Девчата, подрастая, норовили поступить в ремесленное училище.
Деревня Матёра – избы, ставленные в прошлом веке, мхом позеленевшие крыши. По-прежнему летает надпей тополиный пух, в речке под родниково-прозрачной водой – золотое песчаное дно, и пышный ивняк бросает влажную тень, и горят кувшинки звездочками, и за полями, за ромашковыми лугами в мутноватом мареве голубеют леса… Куда ни глянь – все просится на холст, в руках зуд. «Это русское приволье, это Родина моя…»
Но едва схватишься за этюдник, чувствуешь взгляд отца, молчаливое, угрюмое, медвежье недоброжелательство: «Баб да старух на поле гонишь, мужичью работу ворочают, надрываются, а тут сынок – косая сажень в плечах, загривок бычий – красочками забавляется…» Добро бы отец один так смотрел, а то сядешь под кустом, откроешь этюдник, идут с покосов женщины, начинают похохатывать: «Приноровился в холодке…»
День за днем убывает лето – святое время, когда ты из ученика становишься свободным художником, – твори как хочешь и что хочешь. Каждый студент возвращается с каникул более зрелым, с багажом новых работ.
Лето убывало, а Федор ходил с косой на лесные, зарастающие кустарником покосы, метал на стога сено, гонял жатку в парной упряжке. Работал с ожесточением, порой его даже одергивали бабы:
– Не надрывайся шибко-то, миленький. Не жди, не озолотят.
Отец молча ставит «палки» против его фамилии – трудодни, которые оплатят или нет – бабка еще надвое гадала.
Только рано по утрам, совсем рано, или вечером после работы, чтоб ухватить сбывающий закат, торопливо стучал во врастающее в землю оконце избы старой Марфиды. Высовывался Савва Ильич, бросал радостно:
– С-час.
Выскакивал мгновенно, одной рукой засовывал в карман горбушку хлеба, в другой держал фанерный ящичек с красками, собственноручно сколоченный на манер этюдника Федора.
Бабка Марфида разменяла восьмой десяток в закутке за печью, лишь изредка вылезала греться на солнышко под бревенчатую стену. Прокопченные мощи, всегда пахнущие кислыми щами и дымом, из неподвижного сплетения мудреных, как древняя арабская вязь, морщинок торчал острый пос и не менее острый подбородок. Савву Ильича она звала сыночком, Федора каждый раз с любопытством разглядывала удивительно ясными, не слинявшими глазами, спрашивала:
– А это чей такой молодец?
Спрашивала, если даже видела его вчера.
Савва Ильич год от году ссыхался, глаза и рот ввалились, скулы выпирали в стороны, но по-прежнему проворен, все ощутимей казалось, что от его сухого беспокойного тела идет бесплотный шелест. В колхозе он не работал, на пенсию кормил себя и бабку Марфиду, испытывал всегда острый недостаток в бумаге, изводил ее пудами, в окружающих деревнях почти в каждой избе висел подаренный им пейзажик – неизменные елочки да березки на голубом небе. Иначе где бы хранить ему такую прорву работ?
Как-то он прочитал письма Ван-Гога. О них упомянул мимоходом в письме Федор, а уж где Савва Ильич раздобыл этот двухтомник, который и в Москве-то разыскать трудновато, – один бог знает. Но разыскал, сам рассказывал, что плакал над каждой страницей, наиболее трогательные места выписал в ученическую тетрадку, портрет Ван-Гога срисовал, повесил на стену. Ван-Гог на этом портрете смахивал на покойного Алексея Никифоровича Опенкина, соседа, жестоко болевшего последнее время язвой желудка.
– Вот человек! А? – восхищался Савва Ильич. – Что моя жизнь? Курорт! Не признавали, в шею гнали, гнушались, а не сгибался, пока в сумасшедший дом не упрятали…
Он считал, что его судьба и судьба Ван-Гога чем-то схожи. И однажды даже стыдливо обмолвился Федору:
– А ведь может случиться… И мои работы, которые сейчас навалом лежат в кладовке, будут расхватывать… за большие деньги…
Ввалившиеся глаза в эту минуту сияли робким счастьем.
Федор не разубеждал его.
Федора Савва Ильич считал великим, по-собачьи преданно смотрел в рот, но некоторые этюды Федора, написанные резко, размашисто, пугали его. Пугала кажущаяся небрежность, которую Савва Ильич, написавший за свою жизнь многие тысячи аккуратных пейзажиков, не мог выносить. И он, страдая за Федора, боясь за его судьбу, начинал с робостью остерегать:
– Одного бойся – самого себя потерять, стиль свой… Труд-то вроде бы легкий, долго ли избаловаться… Мол, мне все можно – шлеп, шлеп и в дамки. А там спохватишься, да поздно.
Федор подарил ему один из этюдов – темный склон пологой горки в клочковатом кустарнике, на нежно-зеленом закатном разливе – осевшая банька, – все написано пастозно, в корявых замесах краски. Савва Ильич повесил его на стенку, по в угол, подальше от портрета Ван-Гога, походившего на рыжего материнского мужика Алексея Опенкина. Работ Ван-Гога Савва Ильич не видал не только в оригиналах, а даже в цветных репродукциях, если не считать плохоньких в двухтомнике.
Отец Федора по-прежнему не любил Савву Ильича – не человек, а пустое место. Не любил и не замечал, глядел как сквозь воздух. Мать Федора его привечала – безобидный, блаженный, подобие деревенского дурачка, которого как не пожалеть бабьим сердцем.
То, что Федор работал в колхозе без отказа, смягчало отцовское сердце. По вечерам он присаживался к постели сына, но никогда не заводил разговора о деле, которому Федор собирался отдать свою жизнь, – что с него взять, пришиблен. Отец снисходил лишь до прощения.
Как запев, каждый раз у него были одни и те же слова:
– Что бы ни было – духом не падаю. В плохом – что смысл искать? Смысл-то должен быть в хорошем… – И уж после такого вступления заводил глухие жалобы: – Семена каждый год забирают в счет поставок – добро это? Худо! Обратно везут по грязи, рассыпают по дороге, сколько потерь, а труда лишнего сколько?.. Бабы работают, работают, а домой несут крохи – по триста граммов на трудодень еле вытянули. Добро это?.. Худо! – И кончал опять: – Духом не падаю. В плохом-то смыслу мало, в хорошем ищи…
И было видно, как ему трудно. Не тем, что щи в доме пустые, что в хлебе недостача, – другим трудно – не разглядит хорошее в жизни. Так и умрет, не разглядев… Подбадривал себя – духом не падаю…
А где-то внизу под поветью слышалось:
Березыньки-то зак у ржавели,
Елочки-то зам о зжевели…
Матери всё – трын-трава.
Осенью открылась очередная Всесоюзная выставка графики и живописи. Так что из Матёры – сразу в Третьяковку.
Что ни зал, то обступают размашистые полотна, словно художники задались целью одними лишь размерами холста прославить величие эпохи.
Наткнулся на картину директора своего института. Ему, известному и старому художнику, отведено видное место. Полотно тоже от пола до потолка, нисколько не уступает другим – эпопея: «Колхозная свадьба».
Длинные столы под открытым небом, бутылки, жареные гуси, горки яблок, цветы, бороды почтенных стариков, галстуки молодых, раскрытые газеты с портретом Сталина, расшитые косоворотки, какие давно никто не носит, девичьи платья городского покроя, часы на запястьях, боевые ордена на лацканах, вдохновенные лица, поднятые с тостом стаканы, еще раз жареные гуси, еще раз горки яблок, каравай хлеба на вышитом рушнике, сноп пшеницы в загорелых руках, а в перспективе – улица села, столбы электролиний, окна с узорными наличниками, и ни одно не заколочено.
Какой труд, чтобы выписать все это! Даже серьги в ушах черноокой девицы схвачены так, что, наймется, вот-вот сорвутся, со звоном упадут на паркет.
Зрители, взглянув, проходили мимо – еще один праздник, еще один поднятый тост. Федор стоял – какой труд!
Он вспомнил отца. Что, если б Федор написал такую картину и отец бы увидел ее? Жареные гуси, косоворотки мужиков – виноват, нет мужиков, есть мужчины! – мужчин больше, чем женщин, едят, пьют, блестят орденами, ведать не ведают, что по деревням все еще поют после-военную частушку:
Вот и кончилась война,
И осталась я одна —
Сама лошадь, сама бык,
Сама баба и мужик.
Что было бы, если б отец увидел?.. А матери, наверное, понравилось бы.
Березыньки-то зак у ржавели,
Елочки-то зам о зжевели…
Трын-трава…
Зрители проходят мимо чужого праздника.
Вече Чернышев сказал: «В искусстве – баррикады. Кто не с нами – тот наш враг». Лева Слободко не реалист – по ту сторону баррикад. А директор института, того самого, в котором учатся и Федор, и Слободко, и сам Вячеслав?.. Как написана сережка со стеклышками в розовой мочке девичьего уха! Как написана! Ждешь: сорвется – нагнись и подбери с пола.
А с директором по одну сторону баррикад?..
Кто враг и кто друг? И что есть истина?
5
Помнится, спор начался давно…
Помнится, из окна общежития было видно – рабочие снимали со стены соседнего здания военный плакат: «Родина-мать зовет!» Вячеслав сказал тогда: «Москва шинель снимает», а у Федора на гимнастерке еще виднелись невыгоревшие следы от погон.
Тогда-то впервые и заспорили – Чернышев и Слободко не сошлись мнениями. Спор продолжается вот уже четыре года. Федор всегда был на стороне Чернышева.
Нравилось, что Вече хранит в чемодане под койкой комплект журналов «Былое». Нравилось, когда он время от времени снимал с гвоздя гитару и пел:
Слезами залит мир безбрежный.
Что наша жизнь? Тяжелый труд!..
У Вече была какая-то серьезная человеческая основа.
И курсовую работу по композиции он представил: «Кибальчич в тюрьме». Темная мрачная одиночка, саль-пая плошка освещает кусок каменной степы, на которой углем набросан чертеж летательного аппарата. И бородатый человек в грязном тюремном халате перед чертежом в глубоком оцепенении. Человек, приговоренный к смертной казни за террор, изобретает машину, которая вознесет людей над землей.
Вячеслав сказал: «Кончилось у нас со Слободко корешкование». Его словам можно бы и не придавать особого значения. Не первый раз они ругались, но всегда мирились, всей компанией делали налеты на пивнушки и, конечно, снова спорили, снова не соглашались, но по утрам как ни в чем не бывало здоровались, становились плечом к плечу за свои холсты – один подражал Модильяни, другой – Серову.
И, наверно, снова пошло бы так, как было, если б на следующий день не разразился скандал…
Работали в мастерской. На возвышении уже много дней торчала девица с анемично-бескровным лицом, распущенными волосами, в голубом платье. Она насквозь изучена, приелась – все уже мечтали о новой постановке.
Стояла рабочая тишина, слышался скрип выщербленного паркета под ногами, скребущие звуки мастихина; как всегда, стучал чей-то плохо прикрепленный к мольберту подрамник. Натурщица осоловело мигала, преодолевая дремоту.
Рабочая тишина, добросовестность и еще раз добросовестность. Создавались картины, которые не будут висеть на выставках, о них не станут с пеной у рта спорить критики, ни одной из них не суждено прославиться в веках. Их все свалят в пыльные институтские кладовые – братские могилы многочисленных ученических работ.
Федор писал вяло. Что-то не ладилось у него. Он все сделал, что мог, – где надо, брал подмалевочкой, где надо, лепил пастозно, и тональность соблюдена, и форма вылеплена, и цвет к цвету как будто подобран верно. Все сделано, но опускаются руки, пишешь, словно читаешь знакомый, много раз читанный и перечитанный роман. Пахнет холст свежими красками, глядит с холста девица с невыразительно-бледным лицом, с претенциозно распущенными волосами. А натурщица преодолевает дремоту…
И не от кого ждать помощи. Валентин Вениаминович? Ей-ей, он знает теперь не больше Федора – за четыре года все секреты успел выложить.
За последнее время Валентин Вениаминович что-то сдал. Жидкие волосы еще больше поредели, приобрели какой-то сухой сажевый оттенок, щеки втянулись, нос выдался, казалось, стал крупней, нижняя губа отвисает больше, и уже протез свой носит он устало и наставляет брюзгливо:
– Не бойтесь повторять природу, учитесь у классиков. Шишкина не признаете, а он был великим мастером.
Федору возле картин Шишкина почему-то всегда лез в голову назойливый стишок: «В лесу родилась елочка…» А за словами: «Не бойтесь повторять природу» – вспоминается давний, унылый призыв Саввы Ильича: «Нужно учиться у природы…» Слов нет, нужно, но… «Лошади кушают овес и сено, Волга впадает в Каспийское море».
Кто-то встал за спиной Федора. Оглянулся – Лева Слободко. Поверх старого офицерского кителя накинут вылинявший застиранный халатик, лобастое, широкое лицо преисполнено угрюмой значительности – ноль сносим, два – в уме, как говорит в таких случаях Вячеслав Чернышев.
Никогда не привыкнешь к тому, что из-за спины глядят на твою работу, которая самому не нравится.
Федор сказал:
– Жую жвачку, дожевать не могу.
– А не пора ли ее выхаркнуть? – спросил Лева.
Он это сказал не слишком громко, но с таким вызовом, что все обернулись от своих мольбертов.
– В каком смысле? – не понял Федор.
– Всех нас пичкают жвачкой, старой, заплесневелой… Одни ее едят потому, что не способны представить – существует нормальная пища. Другие, как верблюды, надеются жирок отложить на загорбок. Жирок на жвачке – капиталец на будущее.
Кое-кто охотно положил кисть и палитру, подошел поближе, предчувствуя – будет спор, заварится каша.
– Опять проповеди к вере праведной. А не надоело? – отмахнулся Федор.
– А ты погляди, кто за веру Чернышева держится? Патентованные жвачные, вроде вот него – Ивана Мыша. Им легко, тебе трудно – не тот человек, чтоб сидеть над жвачкой…
Мягким шагом подошел Вячеслав с палитрой в руке:
– «Приди, пророк, и виждь и внемли…» А нельзя ли от пророка попросить вежливости?
Слободко не двинул в его сторону и бровью, только по скулам поплыл румянец.
– Чернышевым это на руку, – продолжал он. – Ты все еще не можешь раскусить этих высокопринципиальных типов?.. Принципиальны потому, что их принципы разрешены уставом, охраняются начальством…
– Ты зарываешься, пророк!
– И так будет всегда у них – дорожка от принципа к принципу под высокой охраной. И такие далеко пойдут, до кресел Академии художеств. Это они потом станут на старой закваске сочинять новую жвачку. Тебе страдать от нее несварением желудка…
Вячеслав шагнул вплотную к Слободко. Федор никогда прежде не видел, чтоб Вячеслав бледнел. Лицо у него стало серым, каким-то старческим. На сером лице колючие глаза, подбородок вздернут, шея вытянута – мальчишеская стройная шея.
– Слушай, ты! – клокотнул горлом. – В старые добрые времена за такие слова становились к барьеру!
Карман старенького халата у Левы Слободко вздулся от сжатого кулака.
– Твое счастье, что теперь этого нет. Влепил бы в твой медный лоб… с наслаждением…
– Слушай! То, что ты сказал, – гадость! Злобная, гнусная гадость без повода.
– Уж не попросить ли мне у тебя прощения?
– Именно!
– А если нет, что тогда?
– Ты сказал гадость. Будь добр извиниться за нее при всех!
– Съел и катись…
– Что ж…
Вячеслав дернулся, никто не успел сообразить, – раздался мокрый звук пощечины. У Слободко на помидорно-спелом лице льдисто плавились выкаченные глаза. Вячеслав с брезгливостью вытирал о грудь пиджака ладонь.
– Что ж… если слов не понимает…
Слободко с усилием качнулся, пригнул голову, раздул ноздри, медленно двинулся на Вячеслава – застывшие без мысли, без жизни белесые глаза, приподнятые к ушам круглые плечи, напружиненные руки со сведенными кулаками. – А Вячеслав брезгливо вытирал ладонь, тщедушный по сравнению со Слободко, беззащитный…
И тут раздался сдавленный возглас:
– Директор!
В мастерской началась легкая суматоха. Все бросились к своим холстам.
Открылась дверь, вошел директор, за ним, сутулясь, Валентин Вениаминович.
Пряча лицо, задевая мольберты, Лева Слободко двинулся к своему месту. На щеке пламенел след пощечины.
Директор на секунду задержался у двери. По-прежнему язычески суров, по-прежнему горделиво вскинута кудлатая крупная голова на вздернутых узких плечах. Знакомый скупой кивок всем вообще и… очередной директорский осмотр начался.
Три шага отступя, следует за директором Валентин Вениаминович. Он – его привычная тень.
Только два дела в своей жизни знал Валентин Вениаминович, только два: войну и живопись. Рассказывают – он был отчаянным командиром пехотного батальона, не боялся лезть в огонь, принес с войны набор орденов и медалей, которые никогда не носил, – принес ордена и оставил руку. Он был неплохим командиром и посредственным живописцем. И все-таки любил живопись – любовь без взаимности, самая чистая, самая бескорыстная, самая преданная. О своем именитом шефе, директоре института, Валентин Вениаминович никогда ничего не говорил – ни плохого, ни хорошего, ни о нем самом, ни о его работах. Молчал и много лет покорно сопровождал при обходах…
Директор остановился у мольберта Федора; чуть поодаль – сутулясь, Валентин Вениаминович.
Широкий нос, крупные губы, топорные черты человека из простонародья – ни одна складка не дрогнула на директорском лице, в глазах, устремленных на холст, лишь холодное, тяжелое внимание. Нравится или нет? Осуждает или прощает промахи?
– Здесь переморозили… – директорский палец обвел пространство на холсте где-то под подбородком девицы.
Это случалось: скупое замечание, мимолетный совет – и всегда удивительно точный, тонкий, не всякий-то заметит. Но это не значит, что не понравилось, даже наоборот – совет, какая-то благосклонность.
Директор двинулся дальше с величием языческого вождя. Следом за ним качнулся Валентин Вениаминович.
Остановились возле Слободко. Тот, с розовым пятном во всю щеку, стоял, опустив к полу голову, широко расставив ноги, заложив руки за спину. Он не пошевелился при приближении директора, не взглянул на него, не посторонился, чтоб высокому начальству было удобнее лицезреть его произведение.
Директор долго молчал, и уже всем казалось – постоит и отвернется, двинется дальше. Никто и никогда не мог разгадать, что творится под директорским черепом, какие мысли рождаются у него в мозгу, когда он стоит у мольберта. Все ожидали – постоит и уйдет, никем не разгаданный, таинственный.
Но директор, не оборачиваясь, позвал:
– Валентин Вениаминович!
– Да?
– Что это?
– Парень способный, но с загибами.
– Слушайте, как вас… Слободко… Где у этой дамы лицо?
Слободко молчал, смотрел в пол.
– Я вас спрашиваю! Очнитесь!.. Где лицо?
– На такие вопросы не отвечают, – глухо выдавил из себя Слободко.