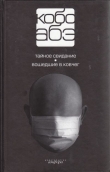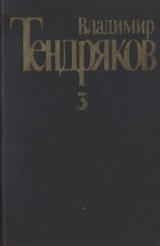
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
А он, Федор, помнит пустынный утренний город, осчастливленный солнцем. Город, находившийся по ту сторону его жизни… Тогда в этом городе, красивом, как сон, как сказка, он узнал о ее существовании: губы, таящие улыбку, и три тысячи лет за спиной…
Он даже изменял ей, забывал временами, как живой живую. Да и как не изменить – виновата сама жизнь, слишком грубая, слишком жестокая, чтоб можно было верить – таесть, тасуществует. Раздувшийся на солнцепеке труп и ее губы – вместе, в одно время – нелепость, бессмыслица!
И тихий переулок, сумрачный дом, четвертый этаж… Нефертити двадцатого века живет не в царских покоях – в тесной квартирке с облупленными стенами, с потолком, который давно просит побелки. И ты перед ней предстал не в парчовых одеждах, не под звуки литавр – подручный маляра, латанные на коленях штаны. В двадцать три года не так страшны рубцы на теле, как неуклюжие заплаты на коленях. Латаные штаны – это почти уродство, это физический недостаток.
Снег лепится на карнизах слепых фасадов, снег усыпляюще кружится в воздухе. Похоронен под снегом еще один день жизни…
А день был особый – она пришла издалека, из тысячелетий, и он встретил ее. Особый день, но бесполезный – прошла мимо.
Латаные штаны – и Нефертити! Нет, чуда не жди, не случится.
Но чудо случилось, хотя и не такое, на какое рассчитывал Федор, – куда более скромное. Чудо свершилось незамедлительно.
У общежития, возле троллейбусной остановки, Федор увидел убеленную снегом одинокую фигуру, прячущую лицо в воротник пальто. Пробегая мимо, он узнал.
– Нина? Ты?
Печальный вздох:
– Я.
Нина Худякова – студентка одного курса с Федором.
– Где же ты так поздно засиделась?
– У Красавиной в общежитии. Девочки со второго курса задержали.
– Но прошел уже последний троллейбус.
Покорный вздох вместо ответа.
– Где ты живешь?
– У Зубовской.
– Придется пешком?..
Снова вздох.
– Боишься? Может, проводить?
– Проводи.
– Ну, тогда пошли.
И они двинулись вместе, плечо в плечо, через спящий город, сквозь вкрадчиво летящий снег.
Нина Худякова в мастерской подолгу преданно следила из-за спины Федора за его рукой. Когда-то она так же долго простаивала возле Вячеслава Чернышева, теперь на курсе – новый кумир. Нина Худякова, добрая, вяловатая, на розовом полном лице – дремотные глаза. Сама она писала слащаво, с готовностью слушалась любого совета, никогда не впадала в отчаяние от упреков… В ее обожании было что-то бескорыстное, что-то такое, что напоминало Федору Савву Ильича. Тот, наверное, точно так же бы стоял за спиной и млел от восторга, радуясь чужим успехам.
Подруга Нины Худяковой, Нина Красавина, длиннолицая, жесткие волосы взлохмачены, черные глаза колючи, говорила:
– Нинка, вот увидите, сто лет проживет и тому долгую жизнь устроит, кто с ней рядом будет. Не упускайте счастья, ребята.
И Худякова не возражала, лишь улыбалась дремотно…
Снег рождался где-то рядом, в темноте, в пустоте, над самыми головами. Он мягко окутывал, отделял их двоих от остального города. От его ровного, однообразного полета на душе становилось лениво и спокойно. Не хотелось спешить. Временами казалось, что не снег опускается сверху вниз, а они локоть к локтю подымаются медленно вверх вместе с припорошенной землей.
Нина молчала, и это нравилось ему. Она умела молчать не просто с невозмутимостью, а даже с какой-то величавостью. Ее плечи, воротник, меховая шапочка, волосы, выбившиеся из-под шапки, были белы. Плавно выступает она в невесомом наряде. Вблизи мокро лоснится тугая щека, выпуклый глаз блестит таинственно, как ее молчание. Таинственным казался и город, затканный снегом, загадочен неторопливый снежный полет.
Нефертити, латаные штаны, чувство собственной неполноценности – пусть завтра все это снова станет важным, а сейчас хорошо.
Но всему есть мера, даже покойному молчанию. Захотелось услышать ее голос:
– О чем думаешь?
Помедлила, мечтательно улыбнулась в плывущий снег.
– Сейчас мы придем ко мне домой…
– Положим.
– Мы подымемся на второй этаж… У меня свой ключ, и никому нет до нас дела, и нам ни до кого… Я щелкну выключателем, и вспыхнет люстра под потолком… Я надену туфли на гагачьем пуху, чтоб не пачкать ковер…
– А я от испуга перед этим ковром поверну оглобли обратно.
– Я тебе тоже дам туфли, и тоже гагачьи… Я усажу тебя в кресло и извинюсь. Мне нужно будет оставить тебя, ненадолго… Ты, конечно, посидишь без меня десять минут… Я пойду в ванную комнату… Я очень люблю свою ванную – там все бело, там всегда празднично, если даже на улице снег, слякоть, грязь… Я напущу полную, полную ванну… Знаешь, в белой ванне вода кажется зеленой, как в море… А потом я надену свой халат, он длинный, до полу, японского шелка, длинные с вырезами рукава. Ты увидишь, он очень идет мне… Я сварю тебе кофе… Ты какой больше любишь – со сливками или черный, по-турецки?.. Лучше по-турецки. Мы сядем на тахту возле низенького столика, будем пить кофе из маленьких чашечек саксонского фарфора… И беседовать…
Голос ее плавный и тихий, убежденно счастливый. Федор представил себя: в своей малярской гимнастерке, в латаных штанах, в гагачьих туфлях на босу ногу среди ковров… Бог с ним, с кофе по-турецки, с беседой, с компанией Нины в длинном халате, который скрывает разрумяненное горячей ванной тело. «Доведу и раскланяюсь», – решил он.
Старый особнячок в два этажа в нескольких местах осклабился облупленной штукатуркой. У него был доверительно-нищенский вид. Подъезд с широкой грязной лестницей скудно освещался пыльной лампочкой, пахло чердаком и кислым запахом городской бедности.
Нина действительно жила на втором этаже, у Нины действительно был свой ключ.
– Тише только, соседи ворчать будут.
Щелкнул выключатель, вспыхнула под потолком люстра, вернее, остатки ее, три голых потемневших бронзовых рога, и только в одном горела ничем не затененная лампочка. Комната большая, высокая, на сером от копоти потолке остались лепные украшения, вся она со своими мрачными стенами походила на пещеру. На самой середине стоял раскоряченный мольберт, как малярные козлы во время ремонта. В углу прислонена большая ржавая железная труба – должно быть, осталась от буржуйки, которой пользовались во время войны.
Федор повеселел:
– А где ковер? Где гагачьи туфли?
– Какие гагачьи туфли? – искренне удивилась Нина.
– Ты обещала.
– Вот уж нет, не обещала. Ты меня спросил: о чем я думаю? А я тогда думала об этом. О туфлях, о ванной… Могу я думать, о чем захочу?
– А кофе по-турецки в чашках саксонского фарфора? Я даже согласен со сливками.
– Я чай вскипячу. У меня сахар есть.
– Валяй.
– Одна чашка у меня саксонская…
– В мечтах?
– Нет, на самом деле. Старинная, мамина. И ты сейчас будешь из нее пить чай.
– Уже кое-что.
За шатким столиком они пили жидкий чай. У Нины было мокрое, разрумяненное морозом лицо, светлые глаза, полуприкрытые ресницами, глядели дремотно и призывно, платье плотно обтягивало полные плечи и грудь.
Она поднялась из-за стола, начала передвигать чашки. Поднялся и он. Руки ее, опустив старинную – мамино наследство – чашку, застыли, краешек щеки разрумянился, спина напряглась. Она ждала, что он шагнет к ней. И он шагнул.
Она распрямилась, взглянула потемневшими глазами, покорно подалась к нему, теплая, содрогающаяся от робости и ожидания. Ее волосы были влажными, от них еще пахло морозной улицей…
Комната залита пещерной темнотой. Только тускло маячит широкое окно. За ним, должно быть, все еще опускается снег, отделяет город, весь мир от них.
Нина тихо дышит, уткнулась в плечо, но не спит, так как время от времени ее ресницы щекочут его кожу. У нее и в самом деле счастливый характер – не надоедает разговорами, не требует обещаний. Молчит себе и, верно, мечтает о ванной с зеленой водой или представляет, что рядом лежит принц из заморской страны. Она по обратила внимания на залатанные брюки своего принца…
Уходит чувство, что ты отверженный в жизни. Великое дело верить в себя. Спасибо тем, кто, не зная того, одаривает этой всемогущей верой. Спасибо согревшим…
Щекочут плечо ресницы. За туманным окном летит снег.
24
После ночного снегопада город казался умытым. На карнизах домов снег, как брови деда-мороза.
Общежитие спало – день-то воскресный. Православный поднял с подушки всклокоченную голову:
– Старик! Не говори, что работал всю ночь напролет. В такое время приходят только со свидания.
– А если так оно и есть? – ответил Федор.
– Тогда ты большой оригинал, старик. Свидание в гимнастерке, заляпанной мелом, не говоря уже об элегантных брюках…
Проснулся Вячеслав, зашевелился Иван Мыш.
Федор встал посреди комнаты.
– Ребята! Внимание!..
– Сорока что-то принесла на хвосте! – объявил Вячеслав.
– Принес задачку, которую должны решить сообща… Прежде всего дан человек, который считает, что его призвание – нести людям красоту.
– Он не одинок в своем желании…
– Но при этом он придерживается правила – потворствуй вкусам толпы, угождай, ибо красота в том, чтоб нравилось.
– Вариант убогой позиции – «о вкусах не спорят», – сообщил Вячеслав.
– Старик! Что я слышу? В твоем голосе осуждение? – воскликнул Лева Православный.
– Ты не ошибся, мой чуткий друг.
– Ты не последователен, старик! Ты же – народник! Ты мечтаешь отдать свою палитру на службу народу.
– Мечтаю.
– Значит, ты должен приноравливаться к его вкусам.
– Вывод ошибочный.
– Но как же так? Служить кому-то и делать вопреки его вкусам, гладить против шерстки? Да такого слугу турнут под зад коленкой.
– Наивный мальчик, я не хочу просто прислуживать…
– А что хочешь?
– Учить.
– Чего-чего, а менторство у тебя из ноздрей лезет, старик.
– Да, учить, потому что я опытнее в своем деле любого и каждого. В своем! Во всяком другом пойду на обучение к рядовому члену общества, готов смиренно склонить перед ним немудреную голову…
– Не отвлекайтесь! Слушайте дальше! – оборвал Федор.
– Слушаем. Дан поборник искусства, и дана толпа в ее типичных представителях, – подсказал Вячеслав.
– Да, толпа в лице дамы с усиками, владеющей двухкомнатной квартирой, давным-давно требующей ремонта…
– И что же нравится толпе?
– Золотые багеты на стенах.
– Варварство!
– Ни в коем случае не допускать!
– Предлагаю составить петицию, – продолжал Федор, – в виде эскиза, дабы посрамить лакействующего поборника красоты…
– И спасти толпу с усиками от безвкусицы. Ясно! Заметано! За дело, ребята!
Вячеслав и Православный вскочили с коек. На тумбочку лег лист бумаги, Федор набросал расположение комнат, наметил окна, из которых падал свет. Началось бурное обсуждение малярных работ в двух комнатушках тесной московской квартиры.
– На Западе теперь стали окрашивать стены и разные цвета. Смело! Не нужно этого бояться, – предлагал Вячеслав.
– На Западе! Что нам Запад! – вопил Православный. – Просто белые стены с веселым орнаментом!
– Орнаментом из петухов?
– Почему только из петухов? Я сейчас набросаю вам простой и красивый орнамент. Не орнамент, а веселая геометрия!
– А помните, мы как-то разглядывали трехцветное пятно у меня на палитре? – спросил Федор. – Что, если решить в белом, лиловом и в черноту краплак?
– Белый потолок… – подсказал Вячеслав.
– Стены сиреневой…
– Все стены – уныло. Одну стену, между нею и потолком – красный в черноту бордюр!
– А остальные стены – белым, с петухами по Православному?
– Старик, ты профанируешь?
– Остальные стены – в серый нейтральный цвет!
В стороне, вытянувшись под одеялом на своей койке, слушал Иван Мыш. У него было уныло-сонное лицо – опять все в куче, он в стороне.
Эскиз был быстро закончен – взяла верх партия Вячеслава. Лева Православный остался при особом мнении.
За окном набирал силу поздний, мутно-синий дворовый рассвет.
Федор свернул эскиз трубкой.
– Ну, мне пора на работу. Мой шеф уже ждет… Нет ли чего-нибудь перехватить? Меня угощали в одном аристократическом доме кофе в саксонском фарфоре, но не догадались предложить кусок хлеба.
– Старик, у меня, увы…
– Догадывался. У тебя, Вече?
– И у меня, Федька, всюду пусто, в том числе и в карманах.
– Иван Мыш, ты не богат?
– Я в прошлый раз спустил все, – угрюмо напомнил Иван Мыш.
– Что ж делать, – смирился Федор. – Говорят, черный кофе поддерживает силы, особенно если его пьют из старинного саксонского фарфора. Оревуар!
На улице, над величавыми домами, разливалась робкая, освежающая зорька. Среди белоснежных скверов купались фигуры праздных прохожих. И воздух пропитан праздничной свободой воскресного утра. Не верилось, что вчера вечером небо казалось в рогожку…
Что-то делает сейчас Нина? Спасибо ей… Ей спасибо, а другой он несет подарок – свернутый в трубку эскиз. Ради ее матери он вряд ли стал бы особенно усердствовать: хочет золотые багеты – получи. Но царица, прославленная в искусстве, в окружении безвкусицы – явление вопиющее. Царице – плебейский подарок!
Нина Худякова и Нефертити… Одной – спасибо за себя, другой – за то, что она есть.
Штука долго жевал губами, морщил лоб под козырьком заляпанной побелкой кепчонки, разглядывал эскиз.
– Ты не рехнулся, жучок охристый, – стены красить разным? Это все одно, что штаны носить с разноцветными штанинами.
– Считаешь – плохо? – в упор спросил Федор.
– Не плохо, а чудно как-то.
– Порви, если не нравится. Ты здесь старший.
– Ну, так уж и порви. Больно горяч. А ты вглядеться дай, обмозговать, привыкнуть… Не говорю, что некрасиво. На бумаге всегда получается, хоть пальчики оближи. Но где видано – стены разным…
– Вот и увидят.
– Гм… То-то подивятся… Только ты думал, умная голова, где мы такой краски найдем! Тут колер нужен ясный.
– А где ты найдешь красок для морской волны? Сам же хотел прикупить плакатной гуаши. Купи фиолетовой, разведем с мелом.
– Гм… Дай обмозговать… Гм… А право, будет иметь вид. Котелок у вашего брата варит… Иметь вид будет… То-то слава пойдет… А ну обожди, матушке-начальнице покажу.
Матушка-начальница выплыла в своем несвежем халате – грудь вперед узорной подушкой, голова нечесана. Долго не понимала, глядела в эскиз, как сорока на оброненный гривенник, наконец уразумела и взметнула брови:
– Вы что – в насмешку?.. Дикая фантазия! Какая безвкусица!
Из соседней комнаты появилась она.В лыжном костюме, в громоздких лыжных ботинках; нежную шею закрывал шерстяной, в клетку, шарф. Легким, летящим шагом она пронесла к двери свое бесплотное тело.
– Доченька! – крикливо наставляла ее вслед мать. – Ты не задерживайся допоздна. Слышишь? Не задерживайся!
– Ладно, – раздалось из-за дверей.
Эскиз был небрежно сунут на грязный подоконник.
Наедине с Федором Штука вдруг неожиданно раскипятился:
– Ах, разорви тебя! Без-вку-си-ца!.. Тоже мне, наша фря за попа обедню служит. Без-вку-си-ца! Что ты понимаешь, толстомясая?.. Морскую волну тебе выдай! Да в морскую-то волну нужники нынче красят!..
Федор молчал. Он понимал: у мамы-фараонши вкус древнеегипетский – нравятся золотые багеты. Глупо обниматься.
25
В мастерскую явилась девица-старшекурсница – короткая стрижка, обтянутая джемпером грудь, резкий сипловатый голос – активистка с будущим.
Хлопнула в ладоши:
– Внимание! Внимание!.. Маленькое объявление! Я из профкома. На вашем курсе до сих пор нет профгрупорга. Необходимо срочно наметить кандидатуру. Сами подскажите – кто будет.
– Православный, есть шанс выдвинуться, – подбросил Лева Слободко.
– Старик, я однажды в жизни был уже на руководящем посту – председателем пионерского отряда. Меня с треском сняли, теперь предпочитаю оставаться в тени.
Девица снова властно хлопнула в ладоши:
– Шутки в сторону! Прошу отнестись со всей серьезностью! Предлагайте кандидатуру!
Иван Мыш добросовестно сутулился у своего мольберта, не обращал внимания на настойчивую девицу. Как всегда – все в куче, он в стороне. И Федору пришла в голову мысль: «А почему бы и нет…»
– Выдвигаю! – объявил Федор. – Мыш Без Мягкого Знака!
– Я сказала – шутки в сторону!
– А он и не шутит, – подал голос Вячеслав. – Мыш, покажись кошечке.
– Старик, на авансцену!
– Тащи его!
Увидев мощного парня с покатыми плечами, профсоюзный деятель сменила гнев на милость.
– Возражений нет? – спросила деловито.
Возражений не было. Сам Мыш смущенно чесал концом кисти переносицу и тоже вроде не давал отвода.
– После лекций явитесь в тридцать седьмую комнату.
– Старик, с тебя магарыч. Перед тобой мы открыли новую дорогу.
А неделю спустя на общефакультетском собрании в конференц-зале, к некоторому удивлению Федора, Православного и Вячеслава, Иван Мыш решительно вылез на трибуну.
– Ордера-то, товарищи, любят все получать. А вот как членские взносы платить – охотников нету. По пятам ходишь, выканючиваешь: заплати, Христа ради, у тебя задолженность за четыре месяца. Отмахиваются… А профсоюз, товарищи, играет очень важную роль в нашей жизни…
Иван Мыш говорил длинно и обстоятельно. Лева Православный, сперва слушавший с предельным вниманием – шутка ли, Мыш Без Мягкого в роли оратора, – мало-помалу дремотно сник, заметив Федору:
– Он, без сомнения, способен, старик. Неделя, как избран, а толкает речугу, как будто всю жизнь только этим и занимался, даже в сон сразу бросает…
Федор был доволен и горд. Он спросил Православного:
– Скажи: какая самая благородная профессия на свете?
– Художник, – ответил Православный. – Хорош я был бы, если б иначе думал.
– Нет, врач-исцелитель.
– А ты к чему это, старик?
– Себя сейчас чувствую исцелителем. Любуюсь на Мыша и радуюсь – на трибуне, а еще недавно жаловался: «Все в куче, а я в стороне».
– Радуйся, а я пока подремлю немного.
26
Маляр Штука отвел беду от Федора. Золотые багеты на радость маме-фараонше были прибиты на стены, Федор рассчитался с долгами, купил новые брюки. А новоявленная Нефертити так и ушла в прошлое…
Федор часто провожал Нину, возвращался от нее к утру. Нина жила одна – мать умерла в войну, отец, инженер-строитель, работал на Севере, присылал деньги. Кажется, там у него была новая жена.
Нина об отце не вспоминала, о матери говорила охотно. По ее словам, мать была знаменитой актрисой, в детстве они жили за городом, в старом особняке с запущенным парком, среди кустов малины росли одичавшие розы, дикие белки прыгали по дорожкам… Федор не возражал, особняк так особняк – девчонка любит путать жизнь со сказкой.
Маляр Штука отвел беду, и все стало на свои места – собственные холсты радовали, новые штаны еще не протерлись, долгов, считай, нет, правда, сыт не каждый день, но так ли уж это важно… Наверное, такое и называется счастьем.
Весной к майским праздникам Штука нашел работу за городом.
– Выпускать из рук жаль – пять комнат подновить, и хозяева сговорчивые. Только за три дня не справимся, освободись как-нибудь еще деньков на пяток.
Федор пошел к Валентину Вениаминовичу, объяснил то, что и не требовало объяснения: «Не свожу концы с концами, не подзаработаю – протяну ноги. Помощи из дому нет…»
Отпустили.
От станции шли нагруженные нехитрым скарбом – мешок с рабочей одеждой, с банками краски, бутылью олифы, пачками купороса и казеинового клея да насос-опрыскиватель, завернутый в тряпье. Темнело. Вместе со сгущающимися сумерками крепла пьяная горечь распускающихся почек, замирали звуки.
Стиснутые оградами улочки были пусты, где-то за кустами, за запертыми калитками теплились окна. Вечер – спать еще рано. Вечер, те часы, когда большинство людей на время перестают быть членами великого всечеловеческого общества, забывают о том, что днем они служили в учреждениях, работали на заводах, подбивали смету, управляли рычагами машин, делали совместное дело, чтобы все могли жить. Вечер отдан семье. Вечерами возрождаются первобытные законы кланов. Настольная лампа за чайным столом заменяет древний костер. Царствующий патриарх – отец и хранительница домашнего очага – мать владычествуют над подвластным потомством – Вовочками, Петями, Ирочками. Владыки обсуждают сугубо важный вопрос – почему кашляет Вовочка. Теплятся окна в пахучий предмайский вечер, семьи обособились от семей. И тоскливо становится человеку, идущему по улице, у которого нет семьи, кто оторван от отца и матери, и оторван, наверное, навсегда. Шумный спор над студенческими койками, решающий вселенские задачи, не заменит тихой озабоченной беседы за чайным столом. Теплятся окна, и чувствуешь себя таким же неустроенным, как в окопе.
В темноте вызывающе громко стучат сапоги по утоптанной дороге. Штука оглядывается по сторонам – чем-то обеспокоен.
– Замешкались мы с тобой. Беда как замешкались… – В голосе его тревога.
– Иль в дом не пустят? – спросил Федор.
– В дом-то пустят, да до дому-то надо добраться. Он за пустырем.
– Ну и что?
– Все бы ничего, да…
– Что – да?.. И чего ты головой крутишь?
– Глянь ненароком через плечо.
Федор оглянулся; сзади, в нескольких шагах, маячили в темноте две фигуры.
– Не играй труса раньше времени. Может, такие, как мы с тобой.
– Ой, навряд ли… Давно за ними поглядываю. Балуют тут… После войны – не к ночи будь помянуто – развелось разной шпаны. Ишь, прижимаются…
– Ну и что? С нас много не возьмут.
– Откуда им знать, что идет голытьба перекатная. Видят – мешок несут. Остановят, надсмеются, сапоги поснимают.
– Свои сапоги я им с поклоном отдам, лишь бы на рожи их поглядеть.
– Поднажмем, сынок, может, оторвемся. Тут за пустырем и наша дача.
– Нет, шалишь, не дождутся, чтоб бегал. Подойдут – побеседуем.
А сзади слышен напористый стук каблуков.
– Бежим, Федька…
– Иди, как шел.
Уже слышно за спиной прерывистое дыхание. Федор пошел медленнее, Штука жался к нему острым плечом.
– Эй, погоди, браток, дай прикурить!
Федор остановился, опустил на землю тяжелый мешок полез в карман, вынул спички. Черт возьми, под рукой, кроме мешка, ничего нет. А у них, наверно, ножи…
Выросли тесной парой – один долговязый, судя по одышке, уже немолод, второй невысок, плотен, плечист.
Федор чиркнул спичку, прикрывая огонек от себя ладонью, шагнул вперед:
– Прикуривай.
Невысокий выбил огонь из рук:
– Невежа, чего в рыло суешь? Обхождения не знаешь.
Но Федор успел уже осветить его лицо: широкая скуластая физиономия, маленькие дерзкие глаза, добродушно вздернутый нос. А ведь он где-то его видел… Давно, в забытом времени, где-то… Выпирающий на стороны скулами округлый овал лица, бойкие глаза враскос, нос вздернутый, с открытыми ноздрями…
– Мешочники! Спекулянты!.. А ну, давай сюда мешок! Быстр-ра!
– Федор, – произнес рядом блеклый голос Штуки, – отдай им мешок. Пусть… С богом…
– А где-то я тебя видел, – сказал Федор.
– Может, расцелуемся? Нашел знакомых… Но-но! – Федор пошевелился. – А вот это ты нюхал?
Перед носом Федора тускло блеснуло лезвие ножа.
– Храбрый же ты, парень, – бросил Федор. И вдруг спросил: – Лейтенанта Пачкалова помнишь?
Рука с ножом опустилась. Долговязый недовольно просипел пропитым баском…
– Сымай часы, сука… Мишель, у него часы блестят.
– Так вот как встретились, Мишка Котелок!
– Дай-ка этому разговорчивому, Мишель, – сипел долговязый!
– Заткнись! – остановил Мишка. – Ты кто? Как звать?
– Память коротка… Тебе мешок? Бери. Только там не поживишься – пять банок красок да бутылка олифы. Сбудешь, своих прибавишь – на поллитровку хватит.
– У-y, су-ук-ка! – подался вперед долговязый.
Мишка молча ударил его в бок.
– Не разгляжу в темноте. Разве признаешь, сколько лет прошло!
– Командир отделения при Пачкалове кто был у тебя?
– Паренек какой-то… Это ты?..
– Ну, а звать забыл?
– Постой… Федька!.. Вспомнил! – Мишка Котелок повернулся к долговязому: – Что сучишь, Короста? Я с ним в одном окопе сидел. Не вздумай тронуть – кишки выпущу… А ты извини, всяко бывает… Помню, как ты воды принес, тебе Пачкалов под нос пистолет совал… Эх! Судьба – злодейка, жизнь – копейка! Кто с тобой?.. Папаша, извини, ради бога, – осечка вышла. Пойдем, Федька, выпьем за встречу. Пойдем, угощаю! Эх ты, свой на своего напал.
– Свои – были, теперь вряд ли.
– В одном окопе сидели, живыми встретились.
– Живыми встретились, да живем по-разному.
– Гляди, Мишель, учит уму-разуму, – снова засипел долговязый. – Он – беленький, ты – черненький, зазорно с тобой!
– Заткнись!.. Федька, или вправду зазорно?
– Вроде этого.
– Мишель, он легавый. Мишель, он, зараза, стоит и думает, как бы донести. Жалеет, сука, – мента поблизи нет.
– Федька, или вправду?
– Доносить не буду – уволь. И пить с тобой не хочу. Остаться в живых для этого?.. Эх!.. Тебе не зазорно, так мне зазорно.
– Ты! – В темноте блеснули оскаленные Мишкины зубы. – Не тыкай, что я живой. Мне, может, моя жизнь недорога. Хошь, ее на твой мешок сменяю? В легком осколок, в башке вмятина, а сунули пенсию и живи! Береги свою жизнь! Тяжелого не подымай! Живи!.. А я и живу, покуда можно, не подымаю тяжелого, чищу чистеньких! И тебя, сволочь, вычистил бы, да грязноват, не по мне!
– Мишель, у него часы.
– У-y, легавый! Думаешь, ты первый ткнул! Все тычут, все советуют! Иди, мол, в сапожники, в артель инвалидов. Догнивай в сапожниках, харкай остатками крови, что осталось. Не всю пролил!
– Мишель, ты зря треплешься… У него – часы.
– За такую б… жизнь да держаться! Держись ты, сволочуга, а советы не давай. Не то подвернешься – язык отхватят… Пошли, Короста!
– А часы?.. Мишель, часы!
– В душу мать с часами! Брезгую!.. Не трожь, Короста. Пусть поймет, гнида, что гонор не только у него есть… Пошли!
– Мишель, это благородно, но не умно.
– Заткнись!
Две тени утонули в темноте. Некоторое время слышался озлобленно сипящий голос Коросты, смолк и он.
– Быстрей, парень, быстрей… – обрел дар речи Штука. – Как бы не одумались и не вернулись.
Федор поднял мешок с земли, бросил угрюмо:
– Пошли.
– Ну-ка, вот чудеса-то, знакомого встретил… Удача… Только шевели ногами, ради всего святого, шевели. Одумаются…
Федор молчал.
За время войны таких, как Мишка, мимо Федора прошли сотни – в одном окопе, из одного котелка, под одной шинелью, и общая опасность быть похороненным в братской могиле. Мишка не самый близкий из них, были такие, с кем больше прожил, больше пережил, крепче сблизился. И все-таки пакостно на душе, словно встретил не давнего знакомого, а брата-бандита.
До сих пор Федор по своему адресу, по адресу других фронтовиков слышал лестное: «Прошли суровую школу». А это, считай, – война воспитывает, война очищает от скверны, война, словно ледяной душ, закаляет человека, она чуть ли не облагораживает общество. Но так можно считать облагораживающими чуму и повальную оспу. Война не эпидемия – несчастье вдвойне. И не только потому, что при чуме остаются хоть целыми города и села, а в войну они превращаются в пожарища. Несчастье войны еще и в том, что рождается пресловутая формула: «Война все спишет!»
Ходит по ночным дорогам вокруг подмосковной станции Мишка Котелок, старый товарищ, и, помнится, неплохой товарищ… Ходит прячась, носит в кармане финский нож. Он уверился – дешева же бывает человеческая жизнь, как своя, так и первого встречного.
– Здесь, – сказал Штука, останавливаясь возле одной калитки. – Ух, гора с плеч…
Из-за изгороди тянуло травянистой прелью и почему-то бражным запахом моченых яблок.
27
Дома в пригородных дачных поселках – по ним можно угадывать не только характер теперешних жильцов, но и историю многих поколений.
Большинство домов – новые. Они говорят о преуспевании их хозяев – работали ли они на Севере, получая высокую северную надбавку, выдвинулись ли они на научном поприще или, пользуясь военным временем, спекулировали картошкой, откладывая в заветные чулки мятые рублевки и сотенные, – и вот вам шиферная крыша, дощечка у калитки, предостерегающая: «Во дворе злая собака», и хозяин-пенсионер пьет чай с ягодами из собственного сада.
Старые дома… Одни обросли надстройками, мансардами, времянками, сараюшками, семья, возведшая в кои-то годы крышу, разрослась, расплодилась, раскололась на много семей, каждая заводит свое хозяйство, теснит других, отвоевывает площадь, ссорится, судится, обносит заборчиками крошечные участки… Надстройки, мансарды, сараюшки…
Но есть старые дома, которые когда-то служили одной большой монолитной семье, и она не разрослась, не расплодилась, а, наоборот, разбрелась по свету, повымерла. В таких обычно запущенный сад, ветхая крыша, требующая ремонта, кладбищенская тишина, и среди всего этого многолетний абориген коротает последние дни с каким-нибудь юным отпрыском, который ждет не дождется, когда у него отрастут крылья, чтоб улететь из родового гнезда. В суетливый мир, подальше от кладбищенской тишины!
Дом, куда попали Федор со Штукой, как раз был старый и незаселенный. О его возрасте можно было судить по двум дубам, которые, верно, посадили по обе стороны крыльца в год строительства. Дубы вымахали, уже кладут на обветшавшую крышу свои ветви в ржавой шелухе прошлогодних листьев. Стволы дубов корявы и узловаты, корни оплели землю, вспучили каменные ступени крыльца. Эти каменные плиты стесаны ногами многих поколений. Сколько раз по ним выносили почивших в мире жильцов, их топтали ноги детей, которые вырастали, наливались силой, старились. Сам дом – большой, темный, по не угрюмый, старый, но еще не совсем ветхий, напоминающий о почтенном долголетии, но не о смерти.
А внутри, под крышей, на мозолистом от сучков скрипучем полу, дремлют вещи бабушек и дедушек – секретеры с бронзой, шкафы на львиных лапах, кресла с высокими резными спинками и – чопорный сумрак и седая пыль. Где-то шла война, горели города, самолеты сбрасывали бомбы, а секретер с бронзой уютно стоял в углу, и в его ящике, должно быть, лежала и лежит сейчас забытая связка писем – прабабушка писала своему жениху. И быть может, она сообщала о литературной новинке, «Севастопольских рассказах», написанных неизвестным молодым офицером, носящим родовитую фамилию графов Толстых. Горели города, окопы рылись на берегу Волги, а секретер стоял… Стоял старый дом… Не раз снаружи неистовствовал грозовой дождь, а в комнатах сухо.
Хозяева дома – дед, дочь, внучка – эстафета поколений. Дед высокий, седая, в голубизну, голова, черные, густые, строгие брови. На желтом, измятом мелкими мягкими морщинками лице – тихая, предупредительная доброта. Глядя на его кроткие вылинявшие голубые глаза, на невнятную скорбинку в складке блеклых губ, становилось неловко за всю ту грубость, к какой ты прикасался в жизни. Тебе случалось сквернословить, видеть, как убивают людей, видеть кровь, трупы, спать в грязи, искать вшей в нательной рубахе. Казалось, этот человек ничего такого не знал, прожил святым. Но это только казалось. Что-что, а кровь и смерть, наверно, видел и он, и видел немало. Он был врачом, основал большую поликлинику в этом поселке, когда-то его имя пользовалось известностью, теперь на пенсии, обременен старческими недугами, не выходит за калитку, забыт всеми.