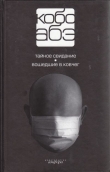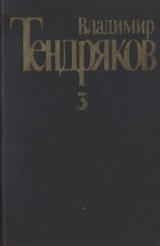
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
Начнем с того, это чувствовать и выражать свои чувства свойственно не только человеку. Даже планария, существо по организации ниже земляного червя, уже что-то чувствует и даже проявляет свои примитивные чувства в какой-то форме, хотя бы в попытке удалиться от объекта, причиняющего неприятные ощущения.
Мы легко улавливаем по виду собаки ее настроение, хорошо знаем, когда она испытывает ярость, когда радость, когда страх. Улавливают это и сами собаки ничуть не хуже, чем мы.
Волчица, застигнутая у своего логовища, скалит зубы и рычит: «Берегись! Я страшна в гневе! Буду защищать своих детенышей до последней капли крови!» И будь то чужак-самец, медведь или человек, каждый поймет волчицу правильно.
Произошел процесс общения, передана и получена информация. Передать информацию можно и непроизвольно, не ведая об этом. Передают нам информацию и мертвые вещи. Далекая звезда выдает астроному ценнейшие сведения, но назвать это общением со звездой допустимо только в рамках поэтической вольности. Однако волчица, в отличие от звезды, активнообращается к незваным гостям, она желаетустановить связь и добивается этого через выражение чувств.
Наверняка задолго до появления человека и его приматов, даже, скорей всего, до появления первых млекопитающих, мир животных уже эмоционально общался. Наглядно выражались и улавливались определенные чувства. Те животные, которые сами не умели проявлять свое внутреннее состояние и не воспринимали его в других, оказывались недостаточно приспособленными в борьбе за существование. Не иметь способности подать сигнал тревоги и уловить его, разгадать заблаговременно агрессивные настроения или определить по виду трусливого – значит постоянно ошибаться. Естественный отбор безжалостно расправлялся с такими истуканами.
В нашем примере волчица выражает свой гнев при наличии реально существующей опасности. Так сказать, тут реакция соответствует раздражителю. Ну, а расшалившийся не в меру волчонок опасности не представляет, он просто досаждает волчице своей возней, и мать – никак не исключено – может прорычать на него почти столь же свирепо, как и на того, кто явно опасен.
В данном случае волчица намереннопреувеличивает свой гнев, в какой-то степени искусственно его создает. Можно сказать, она играет в гнев.
Но эта игра принципиально отличается от игры, скажем, того же волчонка или бесхитростно взбрыкивающего теленка. Волчонок и теленок играют от избытка сил, для собственного удовольствия, в их поведении чаще всего нет и намека на намерение кому-то что-то сообщить. Волчица же играет в гнев не ради удовольствия, не от переизбытка сил – она при этом может быть очень усталой, – у нее важная задача – сообщить некую информацию через свое раздражение, добиться, чтобы ее поняли. А поймут ее легче всего, когда раздражение будет наиболее очевидным, то есть сильней выражено, а потому она намеренно преувеличивает его, искусственно возводит в степень грозного гнева. Сказать тут: играет в гнев – можно только в плане образности. На самом же деле поведение волчицы куда серьезнее простой игры, в ней, как выразились бы искусствоведы, – «элемент тенденциозности».
И мы с Тобой в обыденной жизни стихийно, помимо своей воли и разума, выражаем постоянно свои чувства. Разве редки случаи, когда нам хотелось бы скрыть свое волнение, страх или неуместное торжество, но оно прорывается наружу, замечается другими. Тут над нами берут верх врожденные инстинкты, проявляется наследственность, полученная от предков-животных.
Достаточно часто мы и «разыгрываем» свои чувства, притворяемся сердитыми, когда испытываем благодарность, радуемся, когда хочется плакать, намеренно преувеличиваем свой гнев или свою нежность. Приглядись к себе: много ли Ты произносишь слов без эмоциональной окраски и сколько поступков свершаешь Ты в угоду своему настроению. Знаменитое: «Я мыслю – следовательно, я существую» – красиво своей гордостью за разум, но несправедливо. Куда справедливее: пока чувствую – существую. Это подойдет и к примитивной планарии, и к нам с Тобой.
Общение с помощью чувств – естественная потребность, возникшая в процессе развития жизни. Потребность настолько сильная, что животные для выражения своих чувств готовы отдавать не только избыточные, а даже последние силы. Тут природа готова на расточительство, так как от правильно переданной и полученной информации часто зависит жизнь особи, а значит, и сохранение вида.
Та же потребность живет и в нас, и нет никаких оснований считать, что она утратила свое жизненно важное значение.
Казалось бы, нелепо ставить рядом столь несовместимые явления, как оскал волчицы и «Данаю» Рембрандта или арию Мефистофеля в исполнении Шаляпина. Но мы должны уловить тут некое, весьма отдаленное родство: и то, и другое – выражение определенных чувств, примитивно-животных и чрезвычайно сложных – человеческих. Между ними пропасть, но, наверное, ничуть не больше той, какая лежит между условным рефлексом и разумным действием.
Попробуем не построить, а хотя бы умозрительно представить некий возможный мост через эту неизмеримую пропасть.
Первобытный охотник приносил с охоты не только мясо убитого бизона, по еще целую гамму острых, ярких впечатлений. Нужно применить усилие, чтобы их скрыть, наверное, немалое усилие. Скрывать свои впечатления общественному существу, пожалуй, столь же трудно, как и не реагировать на окружение. Естественней не скрывать, а делиться.
Однако это не так-то просто. Даже на современном языке с его обширной лексикой весьма трудно передать сложное ощущение азарта во время погони, или напряженное состояние в схватке, или всеобъемлющее торжество по случаю победы, а при скудных речевых возможностях первобытного человека это вообще было непосильно. У охотника есть один-единственный способ выразить свои впечатления, он должен следовать тем событиям, которые сам пережил, изображать их. Изображать погоню так, чтобы зритель почувствовал азарт, показать сцену борьбы с бизоном, чтобы вызвать ощущение напряженности и опасности… Для этого охотник то делает вид, что подкрадывается, то замахивается копьем, то падает с мычанием на землю… Это внешне очень похоже на игру, но не игра, а самовыражение, рассказ, только образный. Если б охотнику было легче то же самое сообщить иным путем, той же речью, он избежал бы игры.
Он не может с точностью передать все как было. Какие-то мельчайшие, несущественные подробности забылись, остались наиболее яркие впечатления, их-то и передает охотник. Здесь неосознанно, так сказать, происходит отбор материала.
Охотник у костра находится в иной обстановке, вместо леса с его завалами и чащами – пещера, вместо длинного пути, по которому шла погоня, – узкая площадка перед костром, вместо самого зверя – внимающие ему соплеменники. Наконец, невозможно физически перевоплотиться в зверя, в того же бизона, нужно найти какие-то характерные повадки, движения, которые напоминали бы зрителям загнанного зверя.
Задумаемся на минуту: что все-таки передает охотник? Реально существовавшее событие? Нет, собственное восприятие, духовный след этого события. След охоты в передаче охотника столь же мало похож на настоящую охоту, как след ноги на саму ногу.
Все это в какой-то степени характерно и для животных. Собака, видя, что ее хозяин собирается на прогулку, начинает скакать и радоваться. Ее радость вызвана тем, что предыдущие прогулки доставляли ей большое удовольствие. Если бы они были неприятны собаке, она не выражала бы радости. Прогулки когда-то происходили, в данный момент причина собачьей радости – тот духовный след, который они оставили. При этом собака не просто радуется, она всеми силами старается обратить внимание хозяина на свою радость, внушить ему – какое счастье для нее предстоящая прогулка, и как огорчительно будет, если она сорвется. И трудно не понять этот эмоциональный, весьма выразительный собачий язык.
В основном первобытный охотник у костра совершает действия, которые до него делали уже животные. Только след, оставленный реальностью, неизмеримо сложнее, глубже, ярче, красочней, и передать его можно лишь прибегая к несравнимо более сложным и разнообразным средствам. В данном случае происходит известное явление: количественные накопления дают качественные изменения.
Если животные выражали свои чувства стихийно, теми средствами, какими наградила их мать-природа – возбужденные скачки, оскалы, визг, рычание и прочее, – то охотник уже старается выразить не только свои чувства, но и подсмотренные им чужие, – скажем, ярость бизона, его агонию, – пользуется не только врожденными средствами, а перенятыми, совмещая те и другие, создает новые формы выражения – творит. А коль способ передачи чувств не стихийный, а творческий, то его по праву уже можно назвать искусством. Он качественно отличается от всего, что «творили» рычащие, прыгающие, визжащие эмоциональные животные.
Ты вправе упрекнуть меня за наивный примитивизм примера – удачливый охотник, торжествующий над убитым бизоном. Да, верно. С моей стороны, это тоже всего лишь образный прием, наглядная схема. В жизни, отдаленной от нас пластами тысячелетий, наверняка все было иначе – намного сложнее. Не так-то легко и просто люди от животного выражения чувств переходили к образному языку искусства. Кто знает, какие мычания, рыки, оскалы выдавали первые актеры, выражая победную радость удачной охоты, и какие временные пустыни отдаляли эти наверняка уже по-своему затейливые танцы от момента, когда куском угля или глины первобытный охотник набросал на стене пещеры первый, еще несовершенный рисунок, нашел принципиально новую возможность выразить свои впечатления.
Нет сомнений, что человек в своем развитии шел сложным путем, взлетая и падая, петляя и застывая на месте, столь же сложно и путано развивалась и его потребность в искусстве.
Наверное, у Тебя уже не вызывает возражения, что искусство – это своеобразное общение, истоки которого наблюдались еще у животных.
Впервые такую идею высказал Л. Н. Толстой в 1898 году: «Искусство есть одно из средств общения людей между собой… Особенность же этого средства общения, отличающая его от общения посредством слова, состоит в том, что словом один человек передает другому свои мысли, искусством же люди передают друг другу свои чувства».
Мне кажется странным, что столь простое открытие произошло так поздно. В практике жизни давным-давно бытовали ставшие трафаретными выражения: «актер такой-то поведал нам…», «автор сюиты раскрыл своим слушателям…», «художнику удалось передать чувство радостного удивления пред природой…». Задолго до Толстого признавалось как очевидное – в искусстве что-то передается, что-то принимается, то есть происходит некое общение.
Сам Толстой в своей знаменитой работе «Что такое искусство?» добросовестно собрал высказывания многочисленных предшественников, но никто из них не рассматривал искусство в плане общения.
Эту работу Толстой построил на пристрастных рассуждениях о «религиозном сознании». Художник И. Левитан отозвался о ней: «Гениальная и дикая в одно и то же время». Что стоит, например, такое утверждение: «Отношение к искусству вытекает из свойств человеческой природы, а свойства эти не изменяются».
Не только мы сейчас знаем, что человек не вышел из-под творческой десницы всевышнего готовеньким, с вечными свойствами, знаем, что он продукт длительной эволюции, менявшей его самого вкупе со свойствами, но знал это и сам Лев Николаевич Толстой, человек всесторонне образованный, читавший Дарвина, навряд ли простодушно веривший в наивную притчу о сотворении Адама и Евы. Он знал – не мог не знать – и пренебрегал этими знаниями. И лучше всего такое странное поведение объясняет сам Толстой в том же трактате:
«Я знаю, что большинство не только считающихся умными людьми, но действительно очень умные люди, способные понять очень трудные рассуждения научные, математические, философские, очень редко могут понять хотя бы самую простую и очевидную истину, по такую, вследствие которой приходится допустить, что составленное ими иногда с большими усилиями суждение о предмете, суждение, которым они гордятся, которому они поучали других, на основании которого они устроили всю свою жизнь, – что это суждение может быть ложно».
Камень, брошенный в других, попадает в себя.
Мы приняли основное положение Толстого, но и тут придется уточнить одно важное недоразумение: совсем ли верно считать искусство средствомобщения, таким же, как речь? И так ли уж правильно толстовское заявление, что «словом человек передает… мысли, искусством же… „чувства“»? Не кто иной, как сам Толстой, мастерски пользовался словом, чтоб передать не только свои мысли, но и чувства. Именно последним-то он и велик.
Да и мысль не обязательно передается исключительно словом, написанным или изустным. Ее иногда можно передать и жестом, и заранее условленным символом, наконец, математической формулой, диаграммой, а в наше время – перфокартой, засланной в электронно-счетную машину.
Искусство же, наряду со словом, использует тот же жест, мимику, графическую линию, краски, вплоть до киноленты и экрана телевизора. Резкое разделение – искусство для чувства, Слово для мысли – должно вызывать недоумение уже потому, что как мысль, так и чувство в равной степени пользуются разнообразными средствами для выражения.
Искусство и речь для Толстого – различные ветви от одного общего корня – общения. На самом же деле они поросль разного леса, никак не родственны.
Речь – да, средствообщения, она ближе по родству к математическим символам, кодовым знакам, нотным знакам. Она, речь, родственна холсту и краскам, с помощью которых художник передает своим зрителям то, что сам почувствовал. Родственна средствам, какими пользуется художник, но не процессу его творчества, предполагающему общение.
Искусство – процессобщения, не средство уже потому, что само нуждается в средствах, в той же речи хотя бы.
Между средством общения и процессом общения такая же разница, как между жилым домом и строительным материалом. Как здание возводится из кирпича, так и любое общение должно воплотиться во что-то ощутимое для восприятия.
Лев Толстой сделал тончайшее наблюдение, заметив связь искусства с общением. Но он ошибочно принял кирпичи за здание, средство перепутал с процессом.
Искусство – общение… Я испытал чувство, передал его Тебе. Но как это делается? Не вынешь же из себя и не передашь из рук в руки…
Воспользуемся примером Толстого.
«Самый простой случай: мальчик, испытавший, положим, страх от встречи с волком, рассказывает эту встречу и, для того, чтобы вызвать в других испытанное им чувство, изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п. Все это, если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство, заражает слушателей и заставляет их переживать все, что пережил рассказчик, – есть искусство. Если мальчик и не видал волка, но часто боялся его, и, желая вызвать чувство испытанного им страха в других, придумал встречу с волком и рассказывал ее так, что вызвал своим рассказом то же чувство в слушателях, какое он испытывал, представляя себе волка, – то это тоже искусство».
Толстой утверждает: «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный – заразительность искусства». «Искусство же становится более или менее заразительно, – говорит он дальше, – вследствие трех условий: 1) вследствие большей или меньшей особенности того чувства, которое передается; 2) вследствие большей пли меньшей ясности передачи этого чувства и 3) вследствие искренности художника, то есть большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает».
Разберемся в этом по порядку.
Итак, первое – особенность чувства… Вспомним чеховский рассказ «Сирена», где передается в общем-то самое заурядное чувство предобеденного аппетита. Но там это ничем не примечательное, можно сказать даже низменное, чувство возводится автором в степень особенного, из ряда вон выходящего: «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был…» Герои рассказа приходят от него в исступление. Мальчик испытал страх от встречи с волком – такое случается не каждый день. Если бы волки бегали по задворью, как собаки, то навряд ли слушатели заинтересовались бы рассказом, во всяком случае, страхом не заразились. То, что привычно, – не пугает. Особенность чувства… Согласимся с первым условием Толстого.
Второе – ясность передачи… Мальчик может просто сообщить: видел волка, испугался его – и… на этом умолкнуть. Такое сухое информационное сообщение несет в себе все признаки безупречной ясности, никто из слушателей не поймет мальчика превратно, но, скорее всего, выслушают с холодным равнодушием, так и не испытав страха. Разумеется, если нет ясности и рассказ не понятен, то он и не подействует. Но и при наличии ясности он тоже может не заражать, не вызывать чувства. Ясность – необходимое требование при любом общении, но, увы, она еще не признак искусства.
Наконец, третье – искренность художника… Сам Толстой считал: «искренность – самое важное из трех». Но как часто каждый из нас искренне хотел бы передать свое изумление перед поразившим воображение горным пейзажем или перед красочным закатом. Искренне хотел, но бессилен. Почему?.. Искренность – достаточно распространенное свойство среди людей. Вряд ли можно найти такого человека, который бы не переживал в жизни приступа сильной искренности, искренности до самоотречения. Так что же, в периоды таких приступов любой человек может стать художником пера, кисти или нотной партитуры?..
Толстой понимает искренность как степень силы, «с которой художник сам испытывает чувство, которое передает». И он утверждает, что «если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство», то он заражает слушателей.
Вдумаемся, что значит искренне вновь переживать испытанное чувство? В тот момент, когда мальчик наткнулся на волка, почувствовал страх, то, наверное, этот страх у него проявился главным образом в каких-то физиологических функциях организма: отлила кровь от лица (побледнел), испытал перебои в сердце и прочее в этом роде. Искренне, то есть по возможности с прежней силой пережить испытанное чувство перед слушателями, значит вновь побледнеть, испытать перебои в сердце… Вряд ли это возможно, какие-то функции организм просто откажется повторить. Кроме того, такой повторенный страх не столь уже сильно воздействует на зрителя и слушателя. Многие признаки страха останутся незамеченными. Плох способ «заражения» – вновь переживать испытанное прежде чувство, пусть даже с предельной искренностью, с предельной силой.
Из трех условий, выдвинутых Толстым в качестве опознавательных примет настоящего искусства, мы можем согласиться только с первым – особенность чувства. Но одной этой особенности мало, чтобы цветом, звуком или «глаголом жечь сердца людей». Разве мало мы встречаем рассказчиков, бесцветно сообщающих о переживаниях наиособеннейших, из ряда вон выходящих, а вот Чехов и заурядное чувство предобеденного аппетита сделал «зажигательным». Толстой-теоретик не дает удовлетворительного ответа.
Зато его мимоходом подсказывает Толстой-художник, один из самых выдающихся мастеров передачи сложнейших переживаний. В его примере мальчик «изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п.». Оказывается, мальчик меньше всего рассказывает слушателям о своем чувстве страха как таковом. По всей вероятности, он и не пытается пережить вновь с прежней силой свой бывший страх с липким потом, дрожью в коленках. Вновь-то он воссоздает не свое чувство, а причину, вызвавшую его. Воссоздает теми средствами, которые имеются в наличии. Он не имеет возможности показать своим слушателям натуральную причину страха – самого волка. Но он может описать его словами, передать мимикой и жестами его характерные черты. Слушателям тоже свойственно испытывать страх перед волком, на них тоже эмоционально воздействует элемент неожиданности – «беззаботность и потом вид волка», – ничего себе, «встречка с кумом», у кого хошь продерет мороз по спине. И чем мальчик ощутимеепередаст причины, породившие его чувство, тем сильней отзовутся слушатели, тем острей испытают они сходное чувство.
Значит, успех мальчика, олицетворяющего для нас художника, в первую очередь зависит от того, насколько чувственно ощутимо удастся ему смоделировать причинусвоего страха. И уж не столь важно, смоделировал ли мальчик эту причину по образцу и подобию некоего реального случая или же на основе своего прежнего опыта, прежних наблюдений просто вообразил ее. Важно лишь то, чтобы модель была ощутима, – чем ощутимей, тем больше шансов, что о-на вызовет сходное чувство. Можно сказать, степенью ощутимости модели и измеряется сила воздействия художника.
Итак, я не «заражаю» Тебя своим чувством, не пользуюсь некими флюидами телепатического характера, я только тогда добиваюсь успеха, когда в силу своего мастерства воссоздаю причины, вызвавшие у меня чувство. Ты сходен со мной – человек, как и я, у Тебя те же пять органов чувств. Ты живешь в одном со мной мире, сталкиваешься с одними явлениями, у нас одни причины способны вызывать если не совсем одинаковые, то наверняка сходные чувства.
Микеланджело и Шекспир, Гойя и Бальзак, Роден и Достоевский создавали модели чувственных причин едва ли не более потрясающие, чем те, какие преподносит нам жизнь. Оттого-то их и называют великими мастерами.