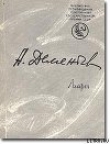Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
– Господи, боже мой, все ходят и ходят... Устала звезда... – и еще что-то бормочет, но уж совсем тихо, невнятно. Но я еще больше обиделся. Такую даль к нему ехал, спешил, а он – «устала звезда»... И мне обиду больше не скрыть.
– Давай о деле! Мне писать о тебе...
– То ли надоел тебе, Витенька? Ты послушай – ночка-то! Как угодила, родная...
Я огляделся, прислушался. Тишины еще больше, даже на реке прекратились всплески и шорохи, видно, сама вода задремала. Не пролетит ночная поздняя птица.
– Ты послушай, приподымись! – умоляет меня пастух. А в голосе уже больше настойчивости. Я поднимаюсь, слушаю, слушаю, но напрасно все.
– Ну ладно, посидели, послушали, – совсем обижаюсь и пробую раздуть костерок, он опять захирел.
– Какой же парень неладной! Неуж не слышишь, как звездочки шевелятся? Неуж...
– Ну хватит, поговорили!
– Аха, посоветовались, – и он посмотрел, как на врага своего. Все в нем поднялось на дыбы.
– Арбаев мне брат родной, единокровный брат!..
– Ну ладно, прости меня! – сказал я уставшим голосом, потому что стало совсем тяжело. И он сразу отмяк. Сдалась душа добрая.
И мне сразу захотелось его приласкать, обрадовать, и почему-то сразу вспомнилось письмо Данилушкина, как расписал там про мальчишек Семеновых, про подарки, универмаг. Наверное, и Тимофею вспомнить приятно.
– Говорят, ты хорошо наградил Семеновых?
– Добры ребятишки, повыше тебя. Николай из армии шлет открыточки, в отпуск сулится. Ну что – тоскуем, увезли далеко. Приеду, пишет, дак у тебя поживу да у мамки. Одобряю. Правда, мамка эта подкачала маленько. Пошел в магазин в ту субботу, сбежались – и как гвоздем по глазам: хочу, говорит, тебе выплатить за эту помощь, подарки. Заработок, мол, теперь, пошел, деньги-то слишнились. Так и сказала. Да еще: ты, мол, издержался ребятам, а мы, мол, седни не бедны – богаты. Видишь, как повернула? Не бедны – богаты, а я что? О деньгах ли? О вечной думал жизни своей. Полагал, что вспомнят потом парнишки. Жил, мол, старик Тимофей, слуга человеческий, играл на гармошке да попевал песенки, давайте-ко помянем его всем гамазом. И мне бы там хорошо, в вечной тьме...
– В какой тьме? – спросил его, смеясь, думая развеселить, отвлечь, а потом потянуть разговор на другое. Но он опять ушел в себя. И я лег на спину, грустный, обиженный, без надежды. Воздух стал влажный, холодный. Это особенно хорошо слышали волосы. Проведешь ладонью, и ладонь мокрая. И так бы мне лежать до утра, да опять привлек голосок.
– Погляди, как ходят звезды-то, намекают... – Он, видно, обращался ко мне. Я пододвинулся.
– Опять вон в гости направилась! Ох ты, какая! Неуж не видишь?..
Всему есть предел, есть предел и терпению:
– Давай о деле, о деле! С чем вернусь-то? С твоими звездочками?! – вышло у меня совсем грубо, хоть и нечаянно. Но я уж не жалел – все равно...
– Говори, Витенька! Громкий у тебя голосок.
– Да ты ж лучший пастух в колхозе – пусть вся область узнает про секреты твои...
Тимофей приподнялся, потом сел прямо, точно за чужим, незнакомым столом.
– Нехорошо хохотать. Нехорошо. То ли сам не робил? Пасли ведь?
– Пасли...
– Хорошо. Как тогда пасли – так и сейчас пасем. Главно – не обидеть коровушку, она-то уж не обидит.
– Ну, а привесы?
– Не знаю, не могу. Поди, он знает, – Тимофей кивнул на Арбаева. И я решаюсь разбудить его. Он сердится.
– Я спал, ты не спал – кто прасил? Шай гатоф?
– Готов, готов, наполняй пузырь! – смеется Тимофей. Арбаев глядит на него тупо, по-деревянному, и вдруг мешковато валится на траву.
– Пусть поспит человек. Надо заспать свое горюшко. Да теперь уж, поди, не горе...
– Уклонились мы с тобой... – говорю ему ласковым голосом. – Мне ведь тебя в пример надо. Пусть поучится молодежь.
– Зачем пример? Пусть живут они: молодые – по-молодому, старые – по-старому, – и вдруг замолчал сразу и начал меня оглядывать. Оглядывает – сам чего-то соображает, опять оглядывает. Стал таинственный.
– Слушай, Витенька, ты в редакции, что ли? И холостуешь?..
– В редакции. И холостую, – отвечаю ему в тон и смеюсь.
– Не больно смешно, даже печально. Ну ладно, спрошу.
– Спрашивай.
– Ты учителем мог бы? Грамотешки хватило бы?
– Хватило... – еще больше смешно, куда клонит старик. А он совсем близко придвинулся.
– Что скажу тебе, Витенька. На два уха прислушайся да покорись. Переезжай-ко давай из города да в нашу школу устраивайся, а жить – у меня.
– Не понимаю.
– А что понимать? Родни у тебя – не велико сколько. Раз, два – и обчелся, а поправимо. Вот и будем домить... Понятно?
Смеется, поди, лукавенький человек – сам думаю и смотрю в упор на него, но он тоже сердится. Личико заострилось и вытянулось – даже в полутьме это вижу, но он не разрешает себя разглядывать.
– Не туда, не туда загляделся. Неуж не слышишь? Что за народ!
Не могу понять, куда он клонит, что просит.
– А я, Витенька, слышу все, потому что прислушиваюсь. Как схоронил свою жену невозвратну, как простилась с нами Марья Ивановна – так нет мне спокою, спокоичку, все прислушиваюсь, прислушиваюсь ко всему.
– Долго ты живешь, Тимофей!
– А что, умирать пора?
– Зачем? Живи на здоровье.
– Хорошо сказал, Витенька! Так же приговаривала Марья Ивановна – живи, Тимоша, подрастай, поправляйся, смешная душа. Все жалела, что я маленький ростиком. Росту и пожелала.
– А Танечка где?
– Красноселовы-то? В городе, Витенька, в самом городе. В кооперативну квартиру вошли. Добились. В сентябре на именины поеду. Сыночку годок. Народился, встретили, теперь берегут. А я его прошу к себе на то лето. Как внучок мне, не совру. Поучу на гармони.
– Двухлетнего-то? – Смешно мне, а не смеюсь, еще обидится.
– Сперва двухлетни, потом семилетни.
– А где Семеновы ребятишки? – сам все знаю про них, но все равно расспрашиваю.
– Каки ребятишки? Один уж в армии, пишет мне ежемесячно. А я отвечаю. Деньжонок вчера переслал ему.
И он молчит, но я уж не могу упустить разговора, хочу расставить свои невода, может, что и забредет для газеты.
– Про тебя Данилушкин написал в редакцию...
– К тебе, что ли? – он приподнялся на локте, придвинулся, в полутьме блеснули глаза.
– То ли надоел я Степану Трофимовичу? То ли неугодна земля?
– Какая земля?
– По весне ему пол-огорода прирезал. А что? В соседях живем, жерди вынул – и бери, пользуйся. Семья у Степана большая, огород для них – первое дело. А мне на кого? Да, видно, вышла ошибочка. Я угодить хотел, а он в газетку...
– Сильно он тебя высрамил, – смеюсь я, но он не чувствует, еще выше на локте приподнимается, точно к чему-то прислушивается и вдруг внезапно встает, ходит возле огня. Поверил ведь, святая душа.
– Пошутил я! Хватит! Возносит тебя Данилушкин. За сирот, говорит, восстаешь...
– Ну ладно, возно-о-осит! Земля, конечно, не первой пробы – вся выробилась, не удобрял, не навозил, оно для картошки – куда с добром. А он взял да на мое место овощ набухал. Кака же капуста на сухом, на буграх?
– Да хвалит тебя. Куда уж больше...
Тимофей не ответил. Опять присел рядом и точно бы затаился. Арбаев во сне застонал. Стон пугающий и больной. И сразу же откликнулся Тимофей.
– О внучках он. Слышь-ко, Витя, поворотись, – скажу. Двое внучек-то, как уточки плавают, да нету рядышком старого селезня – деда, старика...
– Так вернется?
– Ясное дело. Через неделю – до свиданья, прощай. До Кустаная – на автобусе, а там уж встретит родня.
– Сноха?
Но он не слышит.
– Эх ты, человек-человечик! Много ли тебе надо? Из-за пустяка поскандалили, а в такую даль побежал. Вот и на – пустячок! Велика ли пуговка, а держит штаны.
– Сноха-то плохая?
– Зачем? Письма от нее получаю, ей отписываю, мировым посредником стал. Все советую, как сохранить его, как ухаживать. А он вот спит и не знает ничего. Скоро опустеет моя горница – а не могу, зареву...
– Отдохнешь хоть. С чужими людьми заботно...
– От кого заботно? – Тимофей поднял голову.
– От квартирантов, от кого...
Но не успел я договорить, как он снова соскочил на ноги.
– Как, как ты назвал? Квартиранты, да-а? Не ослышался? А газетчик еще, писарек...
Теперь уж я восстал:
– Ничего не понятно! – измучился совсем, во все глаза посмотрел на него: что с ним, в уме ли?
– А мне сильно понятно. Живи у меня за сына, работай, получай в школе денежки. Ложь на книжку, копи на свадьбу. Женишься – и дом подпишу. У меня свободно, домик большой.
– Как же?
– А вот так, по-людски, по-человечески.
И только теперь я понял эту речь, понял и испугался. А потом чудно стало – в сыновья зовет. Потом обидно – прямо в душу полез без спроса. И обиды больше и больше, и в груди злой холодок поднялся и вот уж дошел до горла – еще б секунда, и я б накричал на пастуха, поучил бы его, как жить, а то сильно бойкий. Но это была только первая волна мыслей. Пришла вторая волна. И сразу повернулась душа моя вперед, на полное колесо – и жаль его стало, печально. Вот за сирот волнуется, а сам – сирота, за чужой старухой ходил, а сам заболей – воды подать некому. А потом пришла совсем другая волна. Стало стыдно, что забыл про газету. Там ждут, надеются, а с чем вернусь? А ночь-то, святая ночь! Только бы сидеть в такой тишине да человека выспрашивать, да в блокнот его речь записывать при свете костра. А я что делаю?.. И все эти волны сбежались вместе, ударились одна об другую и обессилели – и вдруг неожиданно пришло облегчение. И понесло меня к пустому бездумью.
– Как, Витенька? Не согласен, согласен? А согласен – пиши расписку, – ожил снова пастух, засмеялся. Но очень слабый, стеснительный этот смешок. Я не ответил.
– Так, так, Витенька. Посиди, покидай умом. Ночка наша, не убежит.
Я опять промолчал. У Тимофея вышло терпение.
– Может, корешков выпьешь?.. Я заварил...
– Налей...
Он обрадовался моему голосу. Засуетился, вытащил кружку, начал покашливать. Кашель тот от волнения, видно, дыханье спирало.
...Это и были знаменитые корешки. Кто пробовал настой из боярки, тот сразу бы узнал этот запах, терпкий и горьковатый. Но это совсем не боярка – терпкого здесь больше, чем горького. Через минуту, как по заказу, меня потянуло на сон. Развернул плащ положил на охапку сена – и оказался на перине. Еще успел услышать, как крикнула бойкая ночная птица, потом сразу повалился в мягкую бесшумную глубину. Второго птичьего крика уже не слышал – спал крепко,без снов.
Но проснулся я тоже от криков, от уханья. Слов не разобрать, но я догадался, кто это. Уханьем, криками сбивали стадо в общую кучу, чтоб повести его потом на большую траву. Костер давно не горел, пастухов тоже не было рядом, видно, пожалели мой сон, не подняли.
А через час я ходил уже возле крытых загонов, в руках держал блокнот – собирал материал. Вокруг меня толпились доярки, шутили со мной, смеялись, я тоже шутил, смеялся. Потом они рассказывали о себе, о ферме, о председателе, опять было весело, и я радовался удаче. Вскоре и председатель приехал – легок на помине. Он сразу шагнул ко мне и долго жал руку, точно бы встретил друга.
– Хорошо, как хорошо, что застал. Тимофей поручил задержать вас: говорит, дело к вам, большой разговор.
– Был у нас разговор...
– Да, да! Задержитесь. Прошу – не забудьте, – и он опять открыл дверку машины, но я встал ему на пути и сразу задал с десяток вопросов, и он быстро, своим энергичным веселым голосом, пересказал мне сводку надоев, обрисовал картину на будущее и похвалил Тимофея.
– Золотой мужик. Отец всем, отец... Дождитесь обязательно. К десяти он вернется... – и с этим уехал.
Блокнот мой наполнился, и я успокоился. Да и утро встало тихое, теплое, и день сулил много радости – и я вскоре обо всем забыл. Только одно мучило: очутиться бы поскорей в газете – и писать, и писать... На миг мелькнуло в голове лицо Тимофея. Я-то знал, зачем просил задержаться старый: «Живи у меня, работай, получай в школе денежки». И вместе со словами улыбка его привиделась, какая-то просящая, виноватая, и снова смешно стало, забавно – живут чудаки, живут и не лечатся. Нет, надо ехать. И я вышел на большую дорогу, а сверху, с горки веселой, двигался маршрутный автобус. Он и забрал меня тотчас.
Очерк, конечно, я написал. Получился он мал по размеру, но зато подоспел ко времени, и меня похвалили. Вскоре эта поездка совсем исчезла из памяти – страда пришла, большой хлеб, и выпали другие дороги, другие встречи. И та чудесная ночь тоже потерялась в душе. Потерялся там и смешной круглолицый Арбаев, и то предложение Тимофея, которое еще месяц назад повергло меня в такую досаду, тоже забылось. Правда, однажды рассказал о нем под смешок в коридоре: сватал, мол, меня один старичок в сыновья, дом свой подписывал. Посмеялись и только – мало ли чудаков полоумненьких, да всегда они были. Конечно, объяснял я, что в добром здравии был пастух, но кто поверит, что в добром здравии? А потом уж память совсем забросила эту встречу, потому что жизнь моя полетела с такой скоростью, что и некогда постоять, отдышаться. Да и зачем думать об этом дыхании – в юности такой легкий, подымающий воздух, что и крыльев не надо! Сам идешь на ногах, а кажется, что все равно – летишь и летишь, – и тебе хорошо, и тебе просторно. А воздуху с каждой минутой все больше и больше, и все выше он тебя поднимает, вот уж и земли не видать, а ты все быстрее несешься, быстрее, к каким-то своим берегам. Где они, кто их создал, означил – ты и сам не знаешь, но все равно чудесно, и отступает будничное, простое, отступают люди, заботы, сама любовь отступает... Все кажется – это не счастье, нет, оно не такое, нет, оно впереди, впереди. Но велика расплата.
Настигла она и меня. Да расплата ли? Может, что-то похуже? А случилось так, что я собрался опять в родные места и поехал. Давно уж не заворачивал в эту сторонку – лет пять или шесть. И захотелось мне взглянуть на родню, которой уж совсем мало осталось, захотелось прийти на родные могилки. И посмотрел и пришел. Горько, печально, да не вернешь. Но самое горькое ждало меня впереди. Я еще ни о чем не догадывался, когда ходил между высоких сосен и выискивал в памяти давние лица, чьи-то глаза. И вдруг наткнулся на маленький холмик в пожелтевшей осенней траве. Я бы прошел мимо, но только притянула взглядом надмогильная надпись: «Здесь лежит слуга человеческий. Да поклонитесь ему!» Далее шла фамилия Тимофея. И в тот же миг каким-то дальним необъяснимым чутьем я узнал этот почерк. Высокий, размашистый, с наклоном в левую сторону. Так мог писать только старый Данилушкин. Я даже обрадовался – знакомый же, родной человек, и только потом дошла до меня эта надпись. Боже мой, боже, ведь здесь Тимофей, мой пастух! И страшное это горе отняло дыхание, и, как всегда в печали, захотелось куда-то уйти, убежать, спрятать голову. Я ведь думал, что он живой. А вот где встретились – и поговорили. И сразу же привиделся наш костерок полуночный, его вопрошающий голосок: «Неужели не слышишь? Звезды-то, звездочки?» Где он теперь – этот грудной голосок, где он, пастух мой? И сразу же за этим самое больное в горло ударило: как он в сыновья приглашал, как я сбежал от него, надсмехался. Кто простит теперь, кто утешит?.. И придет ли оно – прощение? И такая встала вина! Какая может быть перед мертвым...
А к вечеру стало невыносимо. Куда б я ни шел, что бы ни делал – не мог забыться. И придет ли оно – прощение? Нет, нужно уехать, уехать – сбежать опять. Сбежать от этого холмика в пожелтевшей травке, от стыда своего.
...Но разве спасет дорога, зря пишут, что дорога спасает.
Покачивается автобус. Темно. Звездно. Открыл стекло, глотнул воздуха. «Сколько их, не сосчитано, не измеряно...» Видно, вечно будет со мной этот голос, вечна вина. Мог бы вызвать меня, чтоб попрощаться. Нет, не вызвал. Значит, не простил, что сбежал тогда, не простил... А звезды точно сторожили, точно бы знали. Когда я поднимал глаза кверху, они спускались все ниже и ниже. Какая же из них – Тимофея, какая же из них приходила в ту чудную ночь? И я опять смотрю кверху. Но уже не звезды ко мне приближаются, его глаза приближаются. И я далеко из автобуса выглядываю, чуть не выпадаю. Ночь стоит такая же большая и спокойная, как и та, наша ночь. И такая же тишина в пологих полях...
В конце апреля
Утро было серое, скучное, солнце так и не показалось. Потом начался такой же день, монотонный и пасмурный, и к вечеру у нее испортилось настроение. Но Клара Дмитриевна была женщина строгая, сильная и умела себе приказывать. Вот и теперь мигом подавила подкрадывавшуюся депрессию, и сразу улыбнулась чему-то загадочно, и подошла к зеркалу. И когда увидела себя, нарядную, в белом вязаном свитере, в модной юбке, сшитой в лучшем ателье города, когда пригладила свои густые, золотистые волосы, – то уж совсем успокоилась и даже замурлыкала песенку. Но вдруг сбилась на полуслове и стала собирать свой портфель. Он был широкий, вместительный, но сейчас вместо тетрадей, учебников она сунула туда коробку конфет, небольшой мешочек с орехами. Сегодня в вечерней школе, где работала Клара Дмитриевна, был выходной, и коллеги сговорились собраться за чаем, чтоб немного встряхнуться, посидеть, поболтать. Да и собраться вместе сам бог велел: уже надвигались майские торжества, и хорошо было бы поздравить друг друга заранее, чтобы в настоящие праздники освободить себя для семьи.
Клара Дмитриевна закрыла портфель и облегченно вздохнула. Затем быстро надела плащ, еще раз покосилась на зеркало и вышла за дверь.
Ее никто не провожал, и это ее устраивало, старички родители час назад утянулись к соседям и теперь просидят там весь вечер.
По городу она шла быстро, стремительно, но все равно опоздала. В учительской уже было шумно и весело, и когда зашла, то ее почему-то встретили аплодисментами.
– Ну что вы, что вы... – засмущалась она и стала быстро стягивать плащ. Потом огляделась по сторонам, успокоилась и снова почувствовала себя уверенно. Включили музыку – поплыло старинное танго...
– Это для вас, Клара Дмитриевна! – И ее наперебой стали звать к столу. Она улыбнулась, поджала губы и, красиво покачиваясь на каблуках и на ходу поправляя свои чудесные волосы, подошла к веселой компании. А на столе, на белой с кистями скатерти, стоял уже электрический чайник и пиалы. Чуть вдали, на плоских тарелочках, томились разные сладости, но все почему-то ничего не ели, не пили, а только шумели, как школьники. Так прошел час, может больше, а потом устали от слов, от шуток, от мелких споров по вчерашним школьным делам, и вдруг замолчали все разом и стали подниматься из-за стола. Но в этот миг нарушила распорядок Анна Васильевна.
– Куда же вы? Не позволю! А кому я расскажу про Анапу?
Она только что вернулась из южного санатория, и теперь ей не терпелось отчитаться перед коллегами. И только успела она сказать слово «Анапа», как все опять зашумели и потянулись за чаем, и сразу разговор стал легким, необязательным, но именно такая болтовня почему-то сближает людей. Так случилось и с ними, и праздничный вечер начался как бы сначала, и опять полетели шутки и смех. Но вначале все слушали Анну Васильевну.
Она была одинокой молодой женщиной. Муж ее погиб при несчастном случае года четыре назад, и теперь она жила с маленьким сыном и матерью где-то на самой окраине города. Жила очень скромно и замкнуто, но все знали, догадывались, что у нее, кроме этой показной, внешней жизни была и другая, особая, одним словом, личная жизнь. И никто не осуждал ее, не завидовал: раз, мол, еще молодая, красивая – пусть поживет, как хочется, да и не сладко вдовой в тридцать лет.
Анна Васильевна опьянела от своих слов, от внимания, и ей хотелось уже замолчать, отдышаться, но ей не давали.
– Признайся, Аня, не скромничай! Ведь бегала же там на свидания? Ну, скажи, не ударим. Неуж сидела одна?..
И еще что-то спрашивали, такое же смешное, игривое, а она краснела, оправдывалась:
– Честное слово – одна была! А вообще-то там парами ходят. Я сначала думала – семейные, а потом оказалось, что эти семьи создаются в два дня.
– Надо же – парами ходят! Открытие века, сенсация! Куда смотрит Нобелевский комитет?! – включилась в разговор Клара Дмитриевна, и опять стало шумно и весело, и разговор принял совсем игривый оттенок. Но всем нравилась эта игривость и недосказанность, и никто не хотел уходить.
– Так, значит, был романчик, Анна Васильевна?
– Признавайся, а то оштрафуем!..
– Ну и ну! Дорвались до темы, – вмешалась снова Клара Дмитриевна. – Не учителя, а промтоварный магазин...
– Продавцы – тоже люди! – перебила ее завуч Надежда Сергеевна и строго, назидательно сверкнула линзами очков.
– Все мы люди, все человеки, – устало махнула рукой Клара Дмитриевна и опустила глаза. На нее напала апатия, и уже хотелось побыстрее покинуть это коллективное чаепитие, а потом – быстрее домой, в горячую ванну, чтобы смыть с себя весь сегодняшний вечер, все разговоры, все шуточки.
– Вы не любите продавцов, Клара Дмитриевна? – к ней опять обратилась завуч. Она выпила, видно, лишнюю рюмку и сейчас стала философствовать. А Клара Дмитриевна покрылась вся пятнами:
– Ну что вы – продавцы, продавцы! А я о том, что мужчины все одинаковы. У них только одно на уме...
– Не все же такие, – робко вступила в спор молодая учительница Люся Кондратьева. Но спорить она не умела и сразу смутилась.
– Ты, Людочка, жизни не знаешь, не видела, – начала опять Анна Васильевна. – Был у меня такой случай в Анапе. Пришла я на танцы, а там...
– Вы на танцы? Не побоялись?.. – перебила ее завуч серьезно, испуганно, и все засмеялись, запереглядывались, а потом заговорили враз, перебивая друг друга, и все почему-то смотрели на Люсю Кондратьеву. Та снова смутилась, обиделась:
– Я мужа силой держать не намерена. И вообще у нас не те отношения!
– Ну ладно! Он у вас – Лопухов, а вы – Вера Павловна. У вас все по чистому разуму. А мы тут – черная кость... – Клара Дмитриевна подняла высоко голову и стала нервно покусывать губы. А Люся чуть не заплакала.
– Ну почему вы такая злая, за что вы?.. – Она еще хотела что-то добавить, но испугалась собственной храбрости. И ее вопрос потонул в общем шуме и голосах, а Клара Дмитриевна сделала вид, что не расслышала. Только у нее нехорошо задрожал подбородок. Она закрыла его ладонью. А через минуту уже и Анна Васильевна взмолилась:
– Посмеялись и хватит! У меня еще дома уборка не сделана. И по магазинам надо, и к парикмахеру надо. Праздников-то сколько идет. Прикончат нас эти праздники.
– Пора расходиться, товарищи, – поддержала ее Надежда Сергеевна. – Спасибо этому дому, пойдем к другому. – Она обвела всех взглядом и положила очки в футляр. И все начали одеваться. На улицу вышли вместе, а потом разошлись группами в разные стороны.
Вечерний город жил в тихом ожидании праздника. Улицы стояли чистые, точно умытые. Асфальт блестел в свете неона, как дорогое стекло. Клара Дмитриевна оказалась рядом с Люсей Кондратьевой, и это ее смущало и беспокоило. Она даже хотела обогнать молодую учительницу, но потом остановила себя: еще расценит по-своему. А Люся тоже терзалась и смотрела под ноги. Она переживала, что не сдержалась там, за столом, и теперь ей хотелось сказать Кларе Дмитриевне что-то милое, утешающее, и она еще больше мучилась и корила себя. Наконец, выдавила из себя комплимент:
– Как вы сегодня здорово выглядите, Клара Дмитриевна! Мне бы такие волосы да вашу фигуру...
– Ну уж, ну уж, понеслась душа в рай. У вас богатое воображение, Людмила Александровна. А может, вы просто подмазываетесь, а? – Она усмехнулась и посмотрела Люсе прямо в глаза. – Мы же обе словесницы и потому – конкуренты. Так что плохой мир лучше хорошей ссоры. Как? Угадала я? – И она рассмеялась широко, ободряюще, и у нее перестал дрожать подбородок. Все-таки комплимент попал в цель.
– Нет, правда, хорошо выглядите, – продолжала уверять Люся Кондратьева. – Мне бы так в сорок лет.
– Мне бы, мне бы... – заворчала в ответ спутница, и сразу опустила голову, и нахмурилась. Она не любила вспоминать про свой возраст, и сейчас, рядом с молоденькой Люсей, это напоминание особенно покоробило ее. Она нервно расправила плечи и прибавила шаг. Но Люся ни о чем не догадывалась, не понимала. Она уже еле поспевала за Кларой Дмитриевной, длинный плащик мешал в коленях и путал шаги. Люся часто дышала – волнение еще не прошло.
– Я давно хотела спросить у вас... Посоветоваться. Но не решалась...
– Что ж, решайтесь. Не съем, – ответила ей Клара Дмитриевна, и по голосу не понять, то ли шутит она, то ли серьезно.
– У меня внеклассное чтение, и я думала, думала... Хочу рассказать им о Николае Рубцове, почитать его стихи и статьи о нем. А потом дать домашнее сочинение...
– Но вы же решили! При чем тут советы.
– Я хотела, как лучше. У вас же опыт и наблюдения...
– О господи, наблюдения! Что он – Твардовский, что ли, ваш Николай Рубцов. И педагогично ли целый час тратить на какого-то молодого? Пусть известность получит, признание. Ну, поэму напишет в конце концов. – Последние слова она произнесла совсем сердито, отрывочно и надула в обиде губы. Люся уже ей надоела, но не прогонишь же.
– Между прочим, Рубцов уже умер. Неужели не знаете? – Люся еще хотела что-то добавить, но опять испугалась собственной смелости, щеки у нее вспыхнули, как у девочки.
– Умер, значит. Жалко, жалко...
– Да, да! Он талантливый, как Есенин! Про него уже написаны книги, статьи и обзоры. Я считаю, что этот поэт бессмертен!
– Бессмертен? А я и не знала. Только вкусы ваши – не повод для спора. Есть у нас программы, есть методички. А ваш Рубцов прозвучит отсебятиной. Да, да, дорогая... А за это нас бьют строгие дяди из районо. – Она наклонилась к самому плечу Люси Кондратьевой и говорила с назиданием, как маленькой. А последнюю фразу произнесла совсем как в детском саду, и у ней вышло – стлогие дяди из лаёно.
– Зачем вы?.. Я не хотела... – Взмолилась Люся, и сразу съежила плечи, и замолчала. Ресницы у нее прыгали, и она шла, как во сне. Клара Дмитриевна увидела эти страдания, и они ее неприятно задели, чуть ли не оскорбили. Подумаешь, недотрога. В ее годы надо работать с зари до зари, а эта только умничает да лезет в амбицию. Да еще дрожит, как осиновый лист, по всему видать – истеричка. Нет, с такими надо покруче! Она сказала это себе с убеждением и попробовала успокоиться, но никак не могла. Подбородок опять неприлично подрагивал, и она прикрыла его ладонью. Люся тоже измучилась. Ей стало казаться, что все видят, какая она жалкая, смятая, какое у ней красное, расстроенное лицо. И было чувство, точно она совершенно раздетая, и все видят это и осуждают. И тогда последним усилием воли она решила подавить свой страх и волнение, но у нее ничего не вышло. Только еще больше расстроилась из-за того, что не умеет управлять своим лицом, своими эмоциями. А если не умеет, значит, она слабая, слабая. Хорошо, что совместный путь их скоро подошел к концу. Люся попрощалась с большим облегчением и, не оглядываясь, почти побежала. Потом стала оглядываться, точно ее кто-то преследовал, очень злой и коварный. Клара Дмитриевна скривила губы: она все поняла. И как бы в свое оправдание сказала вполголоса: «Эх, молодежь пошла. Только бы спорить, выдрючиваться, а работает пусть тетя Мотя – вроде меня...»
Совершенно усталая, раздраженная, она медленно поднялась по лестнице и позвонила в дверь. Открыла ей мать, Софья Павловна, и сразу торопливо спросила:
– Кларочка, что с тобой? У тебя лицо совсем белое.
– Не выдумывай! Не сочиняй! Просто устала я, чертовски устала, – оборвала она грубо мать, но как всегда не заметила своей грубости и начала как ни в чем не бывало снимать плащ и разматывать шарфик. Потом привычно сунула ноги в домашние тапочки и прошла в свою комнату. И уже за спиной услышала материн голос:
– Кларочка, а ужинать будешь? – заискивающе, с ласковой выразительностью произнесла Софья Павловна. – Я твои любимые пирожки испекла. С луком и яйцами...
– Не знаю. Пока не надо. И надоело уже обжираться! – оборвала ее снова дочь, дав понять, что хочет побыть одна. Образовалась неловкая и тревожная пауза.
Мать ушла, низко повесив голову. Глаза у нее были темны и печальны. Они почти всегда были печальны, потому что Софья Павловна постоянно терзалась из-за своих детей. Младший, Борис, недавно разошелся с женой, уехал куда-то на Север и там устроился в геологию. И матери казалось, что на этом проклятом Севере он непременно однажды замерзнет и превратится в кусочек мертвого льда, и тогда уж никогда-никогда она не обнимет дорогого родного Бореньку. А за старшую, Кларочку, еще больше терзалась. Ведь у нее – ни семьи, ни детей. А почему, а кто виноват?! Ведь Кларочка лучше многих и многих. И чем больше думала о любимой дочери, тем сильнее расстраивалась. Вот и сейчас захватила руками виски и стала вздыхать и вздыхать.
Ее боль, наверное, передалась через стенку, и дочери тоже стало больно, нехорошо за себя. Обидела мать, а за что? И отца часто обижала. Бывали дни, когда была с ними невыносимой.
– Ну что вы торчите передо мной?! Все глаза измозолили! – горячилась, кричала дочь. – Хоть бы уехали куда-нибудь, отдохнули бы. Ведь ездят же другие, а вы вросли, как пеньки...
– То ли уж так надоели мы? Погоди, скоро проводишь на кладбище... – Плакала, тихо вздыхала мать. А отец курил и пыхтел. Он более спокойно относился к таким выходкам дочери. «Детей ей надо, тогда перестанет лягаться...» – утешал он жену свою, Софью Павловну. И он, конечно, страдал, но делал это тайно, крадучись. А Клара Дмитриевна видела все, и у нее часто болело сердце, теснило дыхание, и она пила капли Зеленина.
Вот и сейчас ей стало невыносимо больно за мать. Ведь снова ее обидела, и та, наверное, плачет где-нибудь в уголке и ждет любого стука или шороха. И, поди, думает, что вместе с этим стуком или шорохом вбежит в комнату ее ненаглядная Кларочка. И уткнется ей прямо в грудь, а потом признается во всех своих болях, несчастьях. И тогда они обе по-женски наплачутся, и опять у них жизнь изравняется и станет не хуже, чем у других. Ну конечно же, ждет ее мать! Но ей не хотелось подниматься с кресла, где уже удобно откинула голову, не хотелось и говорить о чем-нибудь с матерью, даже пошевелить рукой было немыслимо трудно. И от этой невозможности переломить себя она стала еще больше мучиться, жалеть себя и оправдывать. «Почему, почему у меня все нескладно, не по-людски? Почему нет мужа, нет дочки, как у той же малявки Кондратьевой? Чем я хуже? Почему судьба так безжалостна? Не уродка же я в конце-то концов?!» – Она зло усмехнулась и поправила свои густые, чудные волосы. Рука просто утонула в них, и волосы словно услышали: отозвались на ласку и сразу потекли между пальцев, как теплый волшебный шелк. И сразу же, сразу же стал слабеть тяжелый комок в груди, и она улыбнулась чему-то протяжно, загадочно и полузакрыла глаза. И разные воспоминания о всяких случайных и неслучайных встречах нахлынули на нее. И тот военный врач, с которым она познакомилась в Фергане, куда ездила погостить к родному племяннику, сразу вспомнился ей, и она опять улыбнулась и дотронулась до волос. И тот молоденький инспектор из облоно тоже привиделся, как наяву, и она засмеялась – боже мой, боже мой! Они каждый вечер пили шампанское и ходили в театр. Боже мой, когда это было и неужели прошло? Он всегда хотел стать военным летчиком и потому, наверное, играл в гусара и обольстителя, а ей все равно было так хорошо, замечательно, что даже сейчас она счастливо закинула голову. Но призрак быстро исчез, как во сне. И тогда тоже все походило на сон – они бродили по городу, а потом он уехал в отпуск, на родину, и она его потеряла: в своем родном Симферополе он нашел невесту-студентку, вернее, мать ему подыскала и оставила возле себя. Он прислал письмо со слезами и извинениями, и в каждом слове – намеки и недосказанность. Если, мол, она не простит, то он на себя не надеется. Она читала его безумные строчки и с облегчением думала: боже мой, как малый ребенок. И как хорошо, что расстались по-мирному. С такой натурой он бы однажды наглотался эссенции. А ей потом отвечай и расхлебывай...