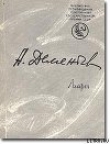Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
В тот вечер я сидел в комнате совершенно один и читал какой-то нудный учебник. Буквы прыгали у меня в глазах, расплывались, потому что в голове стоял один Славка. И в этот миг постучали. И не успел я даже сказать «войдите», как на пороге возникла худенькая высокая женщина с большой хозяйственной сумкой. Я опешил. Но гостья уже оглядывалась по сторонам, говорила. Голосок у ней оказался слабенький, вежливый, как будто бы все время обращался к кому-то с просьбой.
– Я сюда попала? Или куда?..
– Кого ищете?
– Я от Славы... Я сестра его, – добавила она тихим угасающим голоском и поджала губы. Потом подошла к столу и поставила на клеенку сумку.
– Выходит, он тут и обитался? – Гостья смерила меня глазами и опять строго поджала губы. И непонятно: то ли осуждает за что-то, то ли хочет сообщить новость. У меня от напряжения онемели ладони. Хочу прикурить сигарету, хочу зажечь спичку – и не могу. Наконец, не выдерживаю, пытаю о Славке.
– Сам-то он где?
– Сам-то... – она всхлипнула и стала медленно открывать сумку. Замок заедал, не слушался, и она его дергала со всей силы. Наконец, сумка открылась. Гостья глубоко вздохнула, задумалась, на белой коже лица обозначились пятна.
– Где Славка?! – опять спросил я и сжался. Даже не спросил, а почти крикнул, не помня себя. Но что с ней? Она молчала, будто ее не касалось, точно задремала возле стола, унеслась куда-то. И теперь хоть в колокол бей – не обратит внимания. Но я ошибся. Она покашляла в кулачок и стала что-то доставать из сумки. Руки у ней были сухие, костистые, все в узлах. И волновались, ладони подрагивали, точно их кололи иголкой. Я не мог от них оторваться. Вот они достали пару кружочков мороженого молока и топленого масла. Потом достали полосатый мешочек с пельменями; они тоже мороженые и стучат, как ледышки. Потом появились на свет два белых калачика, пирожки и еще что-то – теперь не помню. И все это богатство лежало на моем столе – я даже не верил... Да и тревога не проходила.
– Что с ним? – спросил я громко, решительно. Она не могла не услышать. Но гостья молчала.
– Почему молчите?
Она посмотрела на меня долгим, жалеющим взглядом и вдруг опять стала всхлипывать. Так плачут дети. Тихонько, покорно, невыносимо. Наконец, заговорила: – Вот везла все, торопилась. А для чего? Славка-то помирает...
– Как помирает? – Меня зашатало. И она это заметила.
– А ты, значит, переживаешь? Вижу, что друзья вы, из одной, поди, тарелки хлебали?
– Где он?
– Дак он же в больнице... Неуж не сказал тебе, не позвонил никому, не сознался...
– Никому.
– Ну, это не удивляет... – Она усмехнулась и стала подвигать ко мне калачики, масло.
– Ломай да намазывай. У меня ведь в больнице не взяли. Обратно отправили. У нас, мол, негде хранить, за все отвечать. Да кого там! Я им слово, а они мне два. Еще молоденьки, а зубаты. Не дай бог таких наберете в жены. Они вас в мешок сложат и завязкой завяжут. А потом братко мне адрес твой дал и я сразу сюда...
– Да что с ним?
– Что, что... Считай – помирает. Три дня температура давила, а сейчас слабость. На ногах не стоит – прямо, как ватка сделался. Не мудрено. Всю ведь кровушку у него забрали. Да Мишке Петрову влили. Он в аварию попадал... Вот она, дружба-то. Сам, как говорят, погибай, а товарища выручай. – Она ладонью пригладила волосы. Они были такие же, как у Славки – рыжеватые, цвета меди, и сильно вились на концах, завивались кудряшками. Эта кудри казались на ней чужими, и она это чувствовала. Потому, наверное, все время поправляла свою прическу, приглаживала, А вот голосок у ней набрал силу, окреп:
– А ты бери маслица да на калач. Потом еще привезу. Может, вместе в больницу сходим, выберешь день. Лишь бы только остался живой... – Она вздохнула с усилием и заговорила снова. Но теперь потише, наверное, устала.
– Он ведь с Мишкой у нас с пяти лет. Как близнята, рядком ходили, дружили. А тут у Михи авария сделалась: «Беларусь» опрокинулся, гололед... Опрокинулся, слышь, не послушался. Ну, Миху-то самого кабиной помяло – еле берегу не хватил. А ты ешь, ешь, че не ешь?... – Она стала подсовывать мне пирожки и калачик, но ничего не шло в горло, прямо откинуло от еды. Да и она опять напугала.
– Вот мы сидим тут, базарим, а братко, поди, умирает.
– Как?
– А вот так! – Она смотрела на меня большими глазами, а в зрачках все выгорело, пустота.
– Нет уж, ему больше не встать... – Она сжала губы до синевы. – Нет уж, не встать ему...
И после этих слов в меня будто громом ударило. И долго-долго не возвращалось ко мне сознание. Потому и запомнил ее дальнейший рассказ какими-то клочками, обрывками. И вот теперь соединяю их вместе, сшиваю, но соединить все равно не могу – они рвутся снова, не слушаются. Помню только, что слова ее лились не спеша, потихоньку. И еще помню ее узкую сухую ладонь. Она то за висок держалась, то поправляла волосы, а кудряшки все равно падали вниз, не слушались. И голос то приближался, то отдалялся. Так шумит часто дождь за окном, то затихая, то набирая силу, то опять затихая.
– Привезли его тогда в медпункт, а тот на замке. Миху дальше по улице, в сельсовет занесли. Там и телефон, и машина нашлася. На ней и сгоняли в районну больницу и привезли троих докторов. Два мужика, а с ними девчонка. Она, значит, по уколам у них, с чемоданчиком. А что уколы – Миха совсем ослабел. Тут надо кровь вливать, надо донора. А Слава-то уже возле Михи. У него же каникулы. Ну что? Дальше надо рассказывать? – Вроде бы так она спросила. А может, не так. За точность слов не ручаюсь. Но когда я очнулся, пришел в себя, она уже опять о Славке говорила, только о нем.
– И сказал братан докторам: «Я ведь давно донорством занимаюсь, и у меня такая же группа крови». Так и сказал. А потом красну книжку вынул – они и вовсе уверились. И положили его рядом с Мишкой И давай кровь у него перекачивать. Вот оно как. А меня саму из комнатки выгнали: иди, мол, домой, Галина Петровна, мы уж сейчас без тебя... И запомни: твой брат, как герой. Так и сказали, герой, мол, спаситель. Я и сама знаю без лишних слов: он ведь на глазах у меня поднимался. Я, значит, старшая, а Слава помладше на восемь лет. Трудно жили мы, ох, тяжело. Отец у нас с войны не пришел, и у меня замужество не сложилось. Муженек бросил меня с троими, а сам, подлый, удрал на Север или в Якутск...
– Это одно и то же, – перебил я ее, желая узнать поскорее о Славке, но она точно оттягивала свое последнее сообщение. И вот опять поднялся ее голосок:
– Знаю, что одно и то же. Да мне-то не легче. Тому, значит, севера да поездки, а семья погибай. Да и братана надо было собирать на учебу, а это же тяжело. Сколько денег надо на ваш институт, не знаешь? Ну и я не знаю, а костюмишко-то все равно надо. Надо. Пальто с шапкой надо. А ботинки с пимами надо – вот и посчитай. А мамушка-то наша пластом лежит, отнялись обе ноженьки. С возу падала два года назад. Поясницу отшибла – вот и беда. Да еще бруцулез признали. Даже до горшка таскали на руках, а у меня еще трое маленьких – это надо понять. Одна надежда на Славу... – Моя гостья заморгала быстро-быстро, потом сжала глаза, отвернулась. И сразу плечи дернулись, запошатывались, и вдруг остановились на месте – не шелохнутся. Она, видно, сдержала себя, не дала волю слезам. Заговорила снова, и даже голос теперь переменился – стал громче, уверенней: – Вот на него и надеемся, а Слава, видно, на нас. – Она рассмеялась, пригладила медленно волосы. Так же медленно заговорила, старательно разделяя слова: – Он у нас все время в колхозе – и на пашне, и на покосах. А зимой скотника подменял. Придет из школы, портфель в угол, а сам – на ферму. И какой рубль набежит – племяшам своим тащит, ребятишкам моим. Он и кровь свою сдавать начал – все же приработок...
– Он и здесь сдавал, – сказал я тихо, как будто бы про себя. Но она сразу услышала.
– Во, во! Все время сдавал. Даже от стипендии племяшам делал подарки. А тут приехал недавно, говорит: на каникулы. Но каки же каникулы! Нанялся в школу дрова колоть. Сам знаешь, как в школах с дровами. Их бы летом заготовить да подсушить, но летом дали немного, а остальное все оттягивали. Вот и привезли недавно сырье да все комли, отломыши. Братан исколол три машины, а потом беда с Михой случилась, и он отдал другу кровь. Отдать-то отдал, да, видно, ослаб. Надо бы отдохнуть маленько да полежать, а он опять в школу пошел да опять за дрова. Тут его и накрыло. Полагаю, что продуло, не поберегся. Да опять же – надсада. У него и сделалось воспаление легких. Вот так – температура да жар. И дыханья нет, прямо захлебывается. Отправили в город, он же здесь прописан, вот и сюда... Здесь, видно, и оздоровет. Или помрет. – Она сказала это спокойно, легко, не придавая никакого значения словам. А потом дотронулась рукой до меня, по плечу провела. – Я уж была у него раз, а сегодня – второй... А ты-то ходил?
Я что-то промычал, что не знал, мол, не слышал...
– Ну не был, так сходишь, – успокоила она меня и начала собираться. Я не помню, как она одевалась, как говорила, что-то наказывала. Я не помню, как закрывал дверь за ней, как прощался...
А на другой день после лекций я сидел уже у Славки в больничной палате. Он был бледный и исхудал. Особенно лицо. Оно было прозрачное все, синеватое. Такого же цвета было молоко – те замороженные кружочки, которые принесла мне вчера Галина Петровна. Но Славка храбрился.
– Ну здорово, старичок? Какие принес новости? – Губы у него растянулись в улыбке, а переносица запала так глубоко, как будто там образовалась бездонная ямка. Он опять заговорил:
– Без новостей, значит? Нехорошо... А я вот утром подряд три стакана чаю выпил, а потом еще попросил... – Он засмеялся громким здоровым смехом. На него сразу засмотрел сердито старик с соседней кровати: зачем, мол, так, ты же в больнице... Славка замолчал и подтянул одеяло до самого подбородка. И в этот миг я достал свои гостинцы – большой кулек с пряниками к халвой. Славка недовольно поморщился.
– Унеси, старичок, обратно. Сладкого мне нельзя. Разъедает бронхи. Так что возьми... – Когда он передавал кулек, руки у него задрожали, и губы тоже дрогнули нехорошо. А лицо еще сильней побледнело. Не лицо – белый мел. Белый мел... «Боже мой! – пронеслось у меня в голове. – Человек рожден для счастья. Но только для счастья ли? За что ему эти мучения?»
– Говорят, ты спас человека?
У него взметнулись ресницы.
– Я никого не спасал. Михаила врачи спасали. – Он улыбнулся грустно, с каким-то значением. Потом улыбка ушла, но тоска во взгляде осталась. И тогда я решил его ободрить и подсел поближе к кровати.
– Утром видел твою Наташу, к тебе собирается... – соврал я и весь сжался от стыда, покраснел, но он, кажется, не заметил моего состояния.
– Что, с Соловьевым поссорилась? – усмехнулся он и отвернулся к стене. Потом снова заговорил:
– А ты меня не успокаивай. Мне здесь и так спокойно. Вон даже птички чирикают. – Он показал рукой на окно.
– Не переживай. Наташа грустная ходит... – В моем голосе стояло волнение. Я это чувствовал. Было стыдно, что сочиняю, придумываю...
– Она походит, старичок, побродит да и замуж выйдет.
– Вот за тебя и выйдет... – улыбнулся я и похлопал ладонью по краю одеяла. – Все бывает.
– Нет, не бывает! – Славка решительно приподнял голову, подложил под спину подушку, потом опять медленно, с тяжелым усилием повернул голову обратно к стене, точно голова налилась тяжестью, невыносимой тяжестью. Потом опять повторил:
– Нет, не бывает... Ты вот скажи мне, почему первая любовь никогда не сбывается? Ну почему?.. Почему любишь девушку, а она – бах! – и за другого выскочит. Будет убеждать, что ты хороший, добрый, единственный, а сама – за другого...
– Славка, не сочиняй.
– Ладно, переключим пластинку. Давай лучше договоримся: ты приедешь ко мне летом в деревню. И мы пойдем купаться на озеро. Ох и озеро – ты увидишь! Голубая жемчужина... Вот лежу тут, не спится, а оно все в глазах. Понимаешь, в глазах? И до того хорошо станет – прямо в горле перехватит... – В это время я перебил его. Никогда не прощу себе, но тогда разозлился. Я ему про Наташу, а он только – озеро, озеро... И я не вынес:
– Хватит, Славка. Мы уж об этом слышали. Давай что-нибудь поновее. – Так и сказал я, и он сразу обиделся.
– Ну, если хватит, тогда прощай. У нас подолгу не сидят. Не положено.
– Но почему прощай?
– Да я, знаешь... – Он немного помолчал, потом сказал почти шепотом: – Я перехожу на заочное.
– Почему?!
– А потому, старичок, потому. У меня с матерью плохо. Ходить за ней надо, а у сестры-то – своя орава. Не успевает. Трое ребятишек у ней, а последний еще с соской гуляет. Так что... – Он улыбнулся и опять подложил под спину подушку. Глаза у него блестели, а щеки запали. Кожа на них была синеватая, слабая, и я снова вспомнил про то молоко в кружочках.
– Значит, жалеешь сестру? Берешь удар на себя?
– Какой удар? Ведь мать же... Ты понимаешь – мать...
Но я не дал ему договорить, мне стало обидно.
– Значит, бросаешь институт? И нас бросаешь?
Он не ответил. Только посмотрел на мое лицо очень пристально, с каким-то значением, точно бы запоминая его или, может быть, осуждая. И я не стерпел.
– Всех, дорогой, не пожалеешь! Надо и для себя что-то делать. Для себя! Понимаешь? – Я почти кричал, наступал на него, даже старик На соседней кровати заворочался и заохал, видимо, недовольный моим криком. Но я не мог уже удержать себя.
– Донор ты! Вечный донор. Хочешь всех лучше быть. Не выйдет...
– Правильно! Крой его, негодяя! – Он засмеялся и дотронулся рукой до моего колена. Я так и не понял, что он хотел, к чему призывал этот жест... А он уже сидел на кровати. Подушка сползла с одеяла, скатилась на пол. Я теперь совсем-совсем рядом увидел его лицо, я даже слышал его дыхание. Оно было тяжелое, с частыми остановками, как будто он бежал наверх, на какую-то гору. И голос тоже был глухой и прерывистый:
– Ты не горячись... И пойми. Я не хочу губить в себе совесть. Да и мать одна у меня.
– Одна, одна... – передразнил я его, и тут оставили меня силы. Я не мог уже ни говорить, ни смотреть на него. Я не мог даже подняться со стула. Славка понял меня по-своему.
– Ну вот и успокоились. Ну и хорошо... Хорошо... – без конца повторял он и хитро щурил глаза. Этот хитрый веселый лучик родился в глазах внезапно, да так и остался в них. И когда я уходил и сжал Славке руку, опять этот лучик пронзил меня, и я даже закрылся от него. Закрылся ладонью... Но разве закроешься?
Он и на следующий день смотрел на меня, этот лучик. Смотрел и посмеивался. Он и погнал меня однажды в Наташкину комнату. Как сейчас помню: она стояла в полный рост перед зеркалом и подводила ресницы. Я кашлянул, она повернула голову. «Ах, Наташа, что мне делать?» – опять завертелась в уме та песенка. Да я и, правда, не знал, что делать. Я стоял как дурачок посредине комнаты.
– Наташа?
– Ну что тебе?
– Неужели ты разлюбила заварное пирожное?
Она сжала плечи, будто ожидая удара. Но разве можно бить беззащитную девушку? Нельзя, конечно, нельзя. Да она уже смотрела на меня виновато и обессиленно.
– Ну как он там? Болеет или полегче?
– Все тяжелое уже позади. Но из больницы он уедет прямо в деревню... – Я не успел договорить. За моей спиной скрипнула дверь, и на пороге возник Коля Соловьев. И сразу Наташа отвлеклась от меня, забыла. Через секунду уже звенел в комнате ее смех, ее заразительный голосок.
– Ну, я ухожу, дети. Учите уроки, – бросил я им на прощание. И Наташа еще сильней засмеялась, И в глазах ее родился тот самый лучик. Он, наверно, перешел к ней от Славки... Ну, конечно же, от него. А впрочем, не знаю. Это, может, совсем не лучик, а время, наше время. Ведь оно всегда с нами и в нас. И в глазах, и в нашем дыхании... Но кто знает...
Время, время... Что же это такое? У меня уже седая голова, а я все не могу ответить на эти вопросы. Неужели оно все-таки как та травинка-былинка? Поднялась вверх, опустилась. И вот уж нет ничего. Хочешь найти ее глазами – и не можешь. Так же быстро тает первый снежок на пригорках. Хочешь посмотреть на него, даже потрогать, а его нет уже, как приснился. А вроде не было ни солнца, ни ветра. И ты спрашиваешь себя, проверяешь: да и был ли он, этот снег, был ли?.. Может, это мечта всего или твое желание?.. Но почему же тогда говорят, что есть счастливое, есть и печальное время?.. У меня, наверно, сейчас ужасно печальное. Какое-то горе кругом и горем покрыло. Куда ни ступи – там и пал...
Да что говорить! Тяжело говорить... Недавно встретил на улице Наташу Соловьеву. Она сейчас в городе – знатная дама. Из школы давно ушла и не жалеет. Ведь сейчас она – по торговой части. Закончила какие-то курсы и стала администратором в универмаге. Должность высокая! И Наташа гордится, отворачивается от знакомых. Далее меня еле-еле узнала.
– Это ты? Неужели?! Укатали, значит, Сивку... Ну, извини, не буду.
– Извиняю... – Я рассмеялся и вдруг не вынес, спросил ее: – Ты Славку Тихомирова не встречала?
– Кого? – Она даже сморщила лобик. – Нет, милый, ты что-то напутал.
– Ну как же, Наташа? «Мне холодно в городе этом, где серые зданья молчат...» А озеро-то? Голубая жемчужина? Неужели забыла? Неужели... – пытался я ей объяснить, докричаться, но она только щурилась, играла ресницами... И я опять наступал на нее, горячился и нервничал, а потом опять что-то вспоминал и рассказывал, желая вызвать в памяти то далекое, такое далекое время. Но Наташа уже сердилась, не понимала меня, а может быть, уже ненавидела. И в губах у ней торчала длинная едучая сигаретка, и она ею все время попыхивала – прямо в глаза мне, прямо в лицо... Прямо в лицо, с какой-то даже радостью, наслаждением.
– А ты где теперь? Со школой тоже в разводе? – В ее глазах мелькнул интерес, какая-то искорка. Но это длилось только мгновенье. Только мгновенье... Да и было ли с нами то время, то счастливое время? А может, это мираж всего, пустота.
– Ты что, онемел? – стала сердиться Наташа. – Я тебя спрашиваю, где ты теперь обитаешь?
– В газете обитаю... В газете... – добавил я тихим, не своим голосом и отвернулся. На меня навалилась усталость. Не хотелось ни говорить, ни спорить, да и мешали ее глаза. Они тянулись навстречу новенькой черной «Волге», в которой сидели, наверно, ее друзья. Машина прошла совсем рядом, притормозила немного и вдруг загудела длинно и весело, напугав голубей на соседних крышах. Они сорвались в небо, в самую высь – и все выше, выше, как будто снизу в них целились из ружья. Еще миг – и хлопнет выстрел...
– Ну прощай, – сказала Наташа и опять выдохнула на меня свой едучий дымок. Как будто наказывала за что-то, как будто смеялась... Но наказание было еще впереди.
Да и наказание ли это? Может, что-то похуже... Да и не ждал я, не ведал. Ведь все началось с обыкновенной поездки. Сколько их было уже по моим газетным делам! Вот и тогда судьба закинула меня в одну степную деревню. Мне сообщили, что здесь интересный председатель колхоза: год назад, мол, оставил в Ленинграде квартиру и поехал в наши снега, в наши степи. Случай редкий... Вот я и отправился к этому человеку.
Хорошо помню то теплое утро. Я зашел в правление колхоза, у председателя было совещание. Мне посоветовали подождать в приемной. Я присел на разбитый кожаный диванчик и стал разглядывать стены. Ничего интересного – какие-то графики, листочки с приказами. И вдруг на глаза мне попала одна фотография. Она висела на стареньком стенде, который назывался «Ударники пятилетки». Фотография была старая, пожелтевшая, но все равно я узнал это лицо, эти глаза, эти волосы. Да и не мог я спутать, не мог! На меня смотрела со стенда Славкина сестра – Галина Петровна. Боже мой! Затрепетала и сжалась душа. Ну почему я сразу не пошел искать Тихомировых, не спросил местных жителей, ведь деревня эта называлась Васильевка? Ну, конечно, конечно же, это ведь Славкина родная деревня...
Время, время... Что же это такое? И где те люди, и где те дни? Да и на что я надеюсь. Говорят, что Тихомировы здесь жили давным-давно, а потом куда-то уехали. И родни после них не осталось.
И вот я уже стою в ограде Марии Петровны Сазоновой и вслушиваюсь в ее медленный голосок. На вид ей примерно лет шестьдесят, и она этого почему-то стыдится.
– Ты не гляди, что я старая, это неправда...
– Почему так? – удивляюсь я и начинаю расспрашивать ее о Славке. Но она вначале все о себе, о себе...
– Мне ведь всего пятьдесят два. Удивительно? Сама удивляюсь. А что делать – сгубила болезнь. Сперва ноги болели да отнимались, а теперь в груди не стало дыхания. Туда дохну – ничево. А обратно – что-то застрянет, и сердце колотится. У меня и астму признавали, потом како-то давление. Ты не знаешь, на что оно давит? Я в больнице все добивалася, а там, понимаешь, хохочут. А что смешного, если валит мою головушку. А почему – сама догадайся. Ну ладно, я отвлеклася... А парня я твоего знала, и сестру его знала. А как же, бывали дела. И у коров вместе робили, и на поле. Потом в огородной бригаде сколько работы перевернули, а все живем. Поболем да поохам да снова... – Она запахнула на себе стеганку самодельного исполнения и поднесла платочек к глазам. – Че-то мерзну всю дорогу. Чуть дунуло где – и простыла. И зимой простыла, и весной простыла, а летом – хуже того... А тебе про Тихомировых чего надо?
– Да хоть бы немного. Куда уехали, например?
– Куда уехали? – Она схохотнула. – Куда, где да почему... – Опять запахнулась потуже и сжала губы кружочком. Лицо ее сразу постарело. – Ну, что. Давай слушай, записывай. Галина Петровна, значит, укатила в Тюмень с ребятишками. У ней трое их – не соскучишься. Так что, завербовалась и ручкой сделала...
– Как это?
– А вот так это. Помахала нам на прощание. Живите, мол, тут оставайтеся, а я поеду свою долю искать, да ребятишек надо учить. Там, в Тюмени-то, мол, под ногами деньги валяются и в магазинах завал. И помидоры свежи, и мясо. – Она опять усмехнулась. – Да... А у нас тогда получился полный разор. Даже правление колхоза отняли. Вот так. Ты не поверишь, а было. Живите, мол, тут без правления, да и деревню вашу надо прикрыть. Сильно маленька и на отшибе стоит. И домишки у вас худые: на дрова – хорошо, а жить не приглядны. Вот так. Утешили, называется. У нас народишко и побежал. А Настасья Ивановна, мать твоего-то дружка, прямо тогда руками, ногами: никуда, мол, не поеду отсюда, тут и помру. Вот так. Осмелела Ивановна. Хоть веревками связывай – не поеду, и все.
– Привыкла, значит, к Васильевке?
– Ясное дело. Привыкат и медведь к берлоге. – Женщина посмотрела мне прямо в глаза. – Привыкай помаленьку, хоть ни воды тут, ни леса. Замучились...
– Как это? – изумился я. – Мне говорили, что здесь бело от берез.
– Ну, ну, чудеса... – Она засмеялась. – Выйди вон на поскотину, там две березы увидишь. Да и те обвяли все, облупилися. Распахали ведь все у нас – каки же березы?
– Ну, а озеро? – не отступал я от нее. – По нему, говорят, катер ходил?
– Катер? – переспросила она. И вдруг засмеялась от всей души. Я хочу ее оборвать, отвлекаю словами, а она все сильнее, сильнее. И смех громкий, как на гулянке. Наконец, унялась. И снова смотрит мне прямо в глаза. Кожа у ней на лице желтенькая, блестящая. И само лицо похоже на луковку. И вдруг опять луковка сморщилась: она смеется снова, не переждать.
– Катер, говоришь? Да ты бывал хоть на этом озере? Там куличку у нас по колено. А в июле пересыхат совсем – одна няша да камыши... Да и как же ему сохраниться? Сколько сезонов воду качали – то кукурузу придумали, то капусту каку-то цветочну. Бывало, наростим, а выдергать некому. Мы побегам, поохам, возьмем и запашем. Вот и дела. А ты случайно им не родня? – Она наклонилась ко мне близко-близко и перешла почему-то на шепот – Ты не родня Настасье Ивановне? Уж больно с сыном ее находишься.
– Да нет же! – сердито вырвалось у меня.
– Значит, говоришь, не родня? А я как тебя увидела, как перво слово услышала, так и решила – не зря ты здесь, ой, не зря. Уж больно с Настасьиным сыном находишься. И лицом, и походочкой. Он такой же русый был, темноглазенький. Да и ростик – под стать...
– Да что вы! – рассердился я. – Он же выше меня на целую голову.
– А ты не кричи. На меня и мужик мой не кричал. – Она опять поджала губы кружочком. – А если надо, я тебе ихний дом покажу.
– Надо, надо! – обрадовался я, и она тоже повеселела. Заблестели глаза.
– Тогда запоминай! Впереди будет небольшой переулок, а там домик – по правой руке. Перед домом – поленница дров. Там и обиталась с сыном Настасья Ивановна. Он ее и схоронил, а потом куда-то уехал... Ох и парень был! Расскажу – не поверишь, никто не поверит. – Она вздохнула тяжело, полной грудью, и опять запахнула стеганку, как будто ее знобило. – Он ее прямо с ложечки и поил и кормил. У ней же не только ноги, но и руки отказывали. С возу падала, да бруцулез признавали. Да кто, поди, знает. Сынок-то ее и в баньку таскал. Возьмет в беремя и понесет на руках. Посмотришь – тащит, как чурочку. А на голову ей шалюшку набросит, чтоб не простыла, не застудилась. Он и стирал на нее, и гладил, да еще коровешку каку-то держали. Надо, мол, мамушке свежее молочко. А придет зима – он ее на санки, а сам впереди, как коняшка. Вон оно как! Так только деток малых таскают, а он, понимаешь, старуху. Настасья-то сзади притихнет. А сынок бежит что есть мочи. Коняшка! Аха? – Она засмеялась, потом посмотрела на меня долгим взглядом. – С такими дитями жить можно. Да неуж он тебе не родня? И глаза таки же, и плечи... Не дал бог вам доброго ростику.
– Да нет же! – опять я обиделся. – Славка был под два метра. Высокий, сильный, веселый...
– А ты не веселый, что ли? Вон как стоишь веселишься. Прямо извеселился весь. – Она хмыкнула и крутнула обиженно головой. – Ищешь и не знаешь, че потерял. Может, он в другой деревне? Мало ли Тихомировых...
– Как так?
– А вот так. Все бывало – давно живу. А все же советую дойти до этого домика. Там Семка Голый сейчас проживатся. Может, что и знает... Расскажет... – Она по плечу меня легонько задела. Как будто ободрила: иди, мол, туда, не раздумывай.
И я пошел. И не успел даже выкурить сигарету, как увидел большую поленницу дров. А напротив – дом под светлым шифером, похожий на ящик или, точней, на барак. Зато ворота добротные, недавней постройки. Но они почему-то закрыты изнутри на засов. И я стою в нерешительности. Да и мешает музыка – играет магнитофон. Он гудит на полную силу, как будто на танцах.
Я постоял еще с минуту, потом решительно постучал в окно. Музыка начала отдаляться и вдруг возникла совсем рядом – и открылись ворота. Передо мной появился парень в зеленой майке и в черных длинных трусах. На ногах болтались калоши большого размера. Он смотрел на меня, не мигая, а магнитофон орал, как беда. Но почему? Почему он не выключит?..
– Ты кто?
– Человек... – ответил я тихо и, наверно, с испугом, потому что у парня заблестели глаза. И я заметил в них радость или что-то похожее. Но разобрать тяжело. Да и как разобрать, если в глазах у него вместо зрачков переливался какой-то кисель. И волос на голове тоже не было, только на самой макушке торчало два хвостика из щетинки, а больше ничего, совсем ничего, и голова походила на продолговатый арбузик. Затронь его – и он распадется, расколется. Я смотрел на эти белесые хвостики, и во мне все медленно каменело и угасало. И я забыл даже, зачем пришел сюда, но парень напомнил:
– Ты че молчишь?! – Его голос вдруг отрезвил меня, и стало возвращаться сознание.
– Ты не знал здесь такого Славку?.. Он жил в этом доме.
– Какого такого? – парень захохотал, у него смешно задергался подбородок. Этот смех походил на кашель, и мне сделалось страшно. Но я решил все же не отступать.
– У него фамилия – Тихомиров. Ты вспомни! – Я зажег спичку, чтоб прикурить, но парень быстро шагнул вперед, задул ее.
– Еще подожгешь... Ха-ха-ха... – он захохотал еще громче, и мне опять стало страшно. Я смотрел в его белые глаза и ничего не соображал уже, а хохот не уменьшался. Да и магнитофон шумел, раздирал виски.
– Ты вспомни! Его Славкой звали. Он больную мать на санках возил...
– Кого возил? – Парень нажал на кнопку, музыка, наконец, прекратилась. И сразу тишина ударила в уши. Какая радость! Но ненадолго... Парень хмыкнул и надвинулся на меня. Я не выдержал, отшатнулся.
– А-ах, гад, испугался! – Парень затряс лбом, как будто его облили водой. Глаза заблестели. «Да он же... Он же... со сдвигом». Я стал о чем-то догадываться. «Ну конечно, конечно, рабочий день сейчас, а он дома...» Но парень прервал мои размышления. В руках у него был обломок доски.
– А ну брось! Брось сейчас же, псих! – закричал на него и опять не узнал себя. Вроде бы я кричу, а вроде кто-то другой.
– А ну брось! Убери руки!
– Я тебе уберу... – Голос у него стал опадать, замедляться, но губы все еще не сжимались, подрагивали, и между ними билась синеватая змейка.
– Ты перестань. Успокойся... Давай успокойся, – начал я просить его, уговаривать, и, странное дело, он подчинился. Лицо сделалось совсем бледное, даже мучное какое-то. И мне уже было жаль его. Нестерпимо жаль... До гнетущей боли в висках, до сердцебиения, но разве поймет он, разве поймет...
А через минуту я уже опять шел по дороге. Хотелось забыться, хотелось отвлечь себя, но ничего не выходило – болела душа. А ноги все равно куда-то шли, торопились, и скоро я уперся в маленькое, заросшее осокой и камышом озерко. «Неужели оно, неужели это Славкино озеро?..» И сразу в памяти заспешил, заторопился на волю его восторженный голосок: «У нас в деревне такое озеро! Вода, как небо. Голубая жемчужина!..» – и сразу хлынули, обступили меня со всех сторон те далекие люди, те далекие дни. Они стояли возле меня, как живые, только протяни руку – дотронешься... Даже слышно дыхание их, голоса... Но это длилось недолго. Набежал ветер – и под ветром ожили камыши и осока. И эти звуки отвлекли меня, разбудили. «Но где же ты, Славка? И где же твое озеро и твои березы?..» Я огляделся по сторонам. Везде во все концы катилась ровная пологая степь. И на этом плоском бесконечном пространстве стояли черные островки прошлогодней соломы. Я стал считать их и сбился. Да и зачем? И зачем мне те далекие дни?..
Ах, время, время... Что же это такое? Я поднял глаза, потому что почудилось: сверху смотрит кто-то живой. Так и есть. На меня смотрела большая синяя туча. Она шла с южной стороны, и края ее на глазах набухали, темнели, и в этом темном беззвучно сверкали молнии. Я повернул в деревню.
Улица была пустая, безлюдная, даже собаки попрятались. Я пошел побыстрее. Вот и снова этот переулок, вот и поленница дров, вот и крыша под светлым шифером. «Может, еще раз подойти туда да поспрашивать... Но нет, нет!» Все содрогнулось во мне и сразу заныли виски. «Да и был ли он, Славка-то? – усмехнулся я сам над собой. – Кого ты ищешь-то? Кого потерял?..» Но никто не давал мне ответа, никто и не слышал слов. И ни улица, и ни близкая степь, и ни ветер... «Да и был ли ты? Был ли?..» – шептала душа.