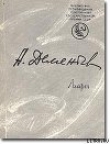Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Инспектор Чирков
Ведущий концерта – белозубый чернявый парень – объявил во всю мощь: «Выступает Галина Чиркова. Старинный русский романс «Калитка»... И в тот же миг на сцену выпорхнула веселая энергичная девушка в красном бархатном платье, в легких туфлях с вишневым отливом. Она сделала маленькую паузу и запела. Ее голосок показался вначале тихим, бескровным – многие поют и получше. Но потом вдруг все изменилось – я стал погружаться в легкий счастливый сон: точно бы шел по теплому июньскому бору, а сверху сыпался на голову парной неведомый дождик. И душа моя забыла все печали, заботы – она просто отдыхала, моя душа. И как хорошо, как легко! Но почему, кто принес мне внезапное облегченье? «Ах, да – это же голос, это голос вон той девушки в красном», – вспомнил я и сразу очнулся. В зале гремели аплодисменты. Певица подняла гордо голову, улыбалась. А по щекам у ней уже брызнули нервные пятна, возле глаз метались ресницы, подведенные какой-то густой немыслимой краской. А вот волосы, конечно, были свои, без обмана. Они падали на плечи и закрывали их, как покрывалом... Белоснежным легоньким покрывалом... Но нет, нет, даже не белоснежным. Про эти волосы можно бы сказать, что они льняные, ковыльные, что они цвета самого чистого, отмытого волной речного песочка. И все эти слова были бы справедливы. И каждое слово в чем-то бы дополняло другое...
И вот она запела веселую народную песню. Запела громко, уверенно, точно в горле что-то освободилось, оттаяло – и все звуки вышли теперь на простор, полетели. Иногда она помогала голосу жестами – взмахивала рукой, приподнималась на каблуках, крутила весело тоненькой шейкой, – и в это время она походила на какую-то знакомую зимнюю птичку. Может, даже на снегиря... На того красногрудого, бойкого снегиренка, который прыгает в январе по белым сугробам. Я не знаю красивей птички... А потом я огляделся по сторонам. Зал слушал ее, боясь шелохнуться. Господи, какой у нас благодарный народ!.. Но додумать мне не дали – аплодисменты грянули так, будто рухнул потолок нашей старенькой филармонии. И сразу же вышел ведущий. Он улыбнулся, и зал притих.
– Дорогие мои, я вам выдам секрет. Ленинградская певица Галина Чиркова поет сегодня в родных краях. Она родилась на вашей земле, в Падеринском районе...
Ох, что тут началось! Весь зал вскочил на ноги и приветствовал ее стоя. Я тоже неистово бил в ладоши. А певица быстро ходила по сцене и поднимала вверх руки. Это был ее звездный час, ее радость. Я сидел во втором ряду и отчетливо видел, как налились густой краснотой ее щеки, как стремительно мелькали ресницы, как порхала от порывов воздуха ее белая, во весь лоб, веселая челка. А потом снова вышел чернявый парень. Он сделал какое-то невидимое движение, и зал смолк, подчинился.
– А теперь... – остановился ведущий, его зубы сверкали, – Галина Чиркова споет песню в память о своем детстве, в память о Падеринском районе. Я правильно называю район?
– Правильно! – грянуло в зале. «Правильно...» – отозвалось в моей душе, и вдруг у меня перехватило дыхание. Но неужели?! Неужели она дочь того Чиркова, школьного инспектора из Падеринки, маленького нелепого человечка, который сломал однажды мою судьбу? Но нет, нет! Быть не может!.. – начал я утешать себя, успокаивать, а в уши снова ударили аплодисменты. И опять ее голос над головой, теперь уже нежный, печальный, на высокой погибающей ноте. Она не пела даже, почти рыдала. Но почему она так волнуется, так убивает себя на сцене?.. Но это ведь хорошо, так и нужно в ее положении, спорил я сам с собою и откровенно ею любовался. Да что там! Я уже любил ее голос, ее волненье, ее белую мальчишескую челку, ее веселые глазки... Ну, конечно, конечно же, у Чиркова были такие же глазки, как черные пуговки, как дробинки. Увидишь раз – не забудешь. «Но как же, как же?! – опять не соглашалась душа. – Эта вон красивая, настоящая, с великим талантом, а тот – занудный и серенький, червячок какой-то, божья коровка. Но ведь бывает, бывает же!» – опять восставало сознание. Вот бы подойти сейчас к ней и выяснить... Но я не подошел, не решился. Да и концерт скоро кончился, и я собрался домой. Спешить было некуда, у меня был свободный вечер. Я не торопясь закурил, постоял на крыльце. Возле главных дверей филармонии шумел под парами автобус. Он ждал, наверно, артистов. Я не ошибся: вскоре возле меня пробежали на рысях оркестранты. Они держали в руках какие-то футляры и чемоданчики, а потом я увидел певицу. Она шла медленной утомленной походкой, лицо у ней побледнело. Я увидел близко это лицо – ее глаза, ее волосы, ее красненькую косынку, повязанную небрежно на шее. Я опять залюбовался певицей. Она походила теперь на мальчишку-подростка, который устал где-то на дискотеке и теперь собрался домой. А дома, наверно, будут ругать, потому он не спешил, передвигал еле ногами... В правой руке она держала спортивную сумку, в левой – папочку с нотами. А может, даже не с нотами – кто разберет. Возле меня она слегка задержалась, нахмурилась, наверно, не понравился мой прицельный взгляд. Так и есть – она кольнула меня темными глазками, и у меня опять замерло дыхание. И в памяти, в моей больной памяти, возник сразу голос Чиркова. Он нашел меня через столько лет. Он ликовал, наступал на меня. А потом как молоточком ударил – и прямо в висок: «Вас бы надо не допускать до уроков. Вы же не признаете методик...» – и его глазки крутились, буравили, еще б миг – и я б не вынес. Но память пожалела меня, отхлынула, и голосок тоже пропал, пожалел. А певица уже садилась в автобус, чему-то смеялась. И на подножку вскочила легко, как будто вспорхнула. И опять я вспомнил про ту зимнюю птичку. Лети, лети, порхай с ветки на ветку. Сегодня – здесь, а завтра уж в Ленинграде... Автобус мигал мне зелеными и красными огоньками, точно намекая на какую-то общую тайну. И вот уж нет его, скрылся за поворотом. Я остался один и медленно побрел в переулок.
Дорога вывела меня на главную улицу. Здесь было светлее, шумели редкие машины. Но городок наш уже спал, видел третьи сны. Мне было грустно. Почему-то болело сердце. И я знал, почему ему больно, почему тяжело. Оно вспомнило те далекие годы, мою школу, учительство. Как я мучился, как страдал тогда – и от школы, от деревни, и от себя самого, от себя... Да что там! В деревне-то всегда тяжелей человеку, печальней, а особенно в двадцать лет. И все здесь по-другому, не так. Здесь и вьюга шумит сильнее, настырнее. Здесь и ночи темнее, здесь и дожди идут чаще – не переждать. А если заплачет где-нибудь на дороге ребенок, то уж совсем тебе тяжело. И уж никуда не уйти от этого плача – он и в ушах и в душе твоей, и уж не заглушит его ни двойная рама, ни стена из сосновых бревен, ни тяжелая штора... А то пробежит под окном, процокает лошадь, ударят копыта об мерзлую землю – и опять твои нервы сожмутся: кому-то плохую весть повез вестовой... А вот зимой того хуже – деревья опали, засохли все травы, и потому все уныло, не помогает даже хорошая книга. Даже и книга-то в деревне читается по-другому, хоть и освобожден тут человек от городского камня, железа, но все равно беспокойно ему и что-то томит. Наверно, томят его пустая улица, пустая дорога. Но, бывало, и наша улица оживала. Это случалось, когда кто-нибудь умирал. И сразу стекались к этому дому все старички и старухи. Еще с утра они лежали по своим печкам, полатям – и вот обрадовались теперь, что сошлись опять вместе, увиделись. И только и слышишь вокруг: «Че, какова ты, Егоровна?» – «А ты каков, Силантий Дмитриевич?» И даже шутки и смех – наговориться люди не могут. И все принаряжены, и у всех сверкают глаза. Вот тебе и похороны, вот тебе и печаль... Но когда же это было, когда же? Неужели прошло уже двадцать лет? И опять болит мое сердце, и не унять его. Хоть бы встретить кого-то знакомого, но на улице – тишина. Только звезды вверху и тишина. А домой все равно не хотелось, там меня ждали пустые углы: жена с дочкой еще вчера укатили на дачу. Даже кота Степку с собой забрали. Я вспомнил о нем и улыбнулся. А ведь у Чиркова были такие же глаза, как у Степки. Они смотрели на человека всегда прямо, не отрываясь. И цвет их все время менялся, они были то зеленые, темные, а то светлели, желтели на ярком свету. А то превращались в еле заметные точечки, когда он злился и поучал кого-то. Даже отчество у него было старинное, двоеданское – Николай Феофанович. Но его звали только одним словом – Чирочек. Так и пошло за ним это прозвище, так и прилипло... Однажды нашему директору позвонила знакомая из районо: готовьтесь, мол, милые. К вам собрался Чирочек.
Он обычно приезжал в школу инкогнито. А нам выпала радость – нас известили. Но разве милей смерть, если знаешь ее самый точный час – до последней минуты, до самой последней. Нет, конечно же, не милей. И вот пришел этот страшный день. На пороге нашей учительской возник странный маленький человечек. Он чуть слышно, сквозь зубки, поздоровался с нами и без приглашения разделся. Первое впечатление, говорят, самое верное. А впрочем, я мало тогда разбирался в людях, я работал в школе всего полгода. За плечами у меня два курса пединститута, да и то – заочное отделение. И вот перед нами стоял незнакомец. Он показался мне маленьким, пухленьким, не человек – самоварчик. И такие же толстые тугие бока у него, покатые плечики. А вот голова походила на яблоко, особенно щеки. Они покрыты были твердой румяной корочкой, а может, помадой. Но я сразу же тогда осадил себя: откуда же взяться помаде? А может, на улице – мороз сорок градусов? Но нет, нет, на улице, наоборот, была оттепель. А щечки все-таки сияли, привлекая внимание. Так же сильно поразили глаза. Они были сухие, серьезные. Не глаза, а стекляшки, а может быть, пуговки. А сверху глаз – круглые очки в железной оправе. А вот цвет костюма я почти позабыл. Помню только, что пиджачок у него был помятый, замызганный и весь заляпан чернилами. Но самое главное все-таки – волосы! Они были светлые, редкие, какая-то куделька или одежная щетка. Они все время поднимались кверху, топорщились. Он их незаметно приглаживал, да разве пригладишь. А вот голосок его всех оттолкнул.
– Меня зовут Николай Феофанович. Если забудете – запишите, – сказал он тоненьким женским голосом, и мы даже сперва не поверили. Вроде он говорит, а вроде кто-то другой. Потом еще что-то сказал, но мы не ответили. Мы просто оцепенели, да и мешало его лицо: когда произносил он свои первые фразы, то все время проделывал какие-то смешные движения губами, он то вытягивал их в длинную бескровную дудочку, то сжимал полумесяцем, то почему-то облизывал. И я опять сейчас вспомнил Степку: как-то он там, на даче, на новом месте. Поди, аппетита нет, отощал... А потом снова мысли перенеслись на Чирочка. Он ведь сделал из меня свою первую жертву. Помню, прозвенел звонок на урок, и он подошел ко мне с хитрой улыбочкой и попросил показать рабочие планы. Ах, эта улыбочка! Мне никогда не забыть ее: тонкие губки растянулись квадратиком, а глаза так и прыгали, веселились над чем-то. Потом еще шире улыбочка, и я увидел его реденькие крепкие зубки. От таких нигде не спастись и не спрятаться. Они перекусят даже железную проволоку. У меня тогда пересохло во рту.
– Я к вам на урок. Приглашаете? – Он хихикнул, и зубки надвинулись на меня.
– Пожалуйста, двери открыты, – ответил я с вызовом, а сам, наверное, побледнел. Он увидел мое замешательство и даже хмыкнул от удовольствия.
– Ну хорошо-с, проводите меня, – сказал он громко и взял в руку большой портфель.
Это «хорошо-с» совсем не вязалось с ним. Наверно, он кому-то подражал из своих наставников, а может, говорил так для солидности. И вот мы уже у классной двери. Чирочек покашливал у меня за спиной. И в кашле этом – предостережение: нет, мол, вы не проведете меня на мякине, я все вижу, я все пойму... И вот уж я раскрыл журнал и сделал маленькую перекличку. А потом надо говорить что-то – и не могу. Тема урока – «Разряды местоимений». Этот материал мне не нравился, и, наверно, потому урок пошел у меня криво, разбросанно, да и мешал чужой человек. Чирочек сидел на самой задней парте рядом с второгодником Сашкой Пахомовым. Я видел, как инспектор стал проверять его хозяйство: заставил открыть портфель, достал и открыл все тетрадки. А потом взял его дневничок и давай перелистывать. Во мне все угасло – какой уж дневничок у нашего Сашки. Он никогда почти и не заполнял его. А Чирочек листал, даже сняв очки. Может, без очков ему лучше видно. Едва ли лучше, едва ли... Потом Чирок стал задавать всем вопросы. Для меня это – полная неожиданность. Но разве вмешаешься! Вначале он попросил ребят объяснить слово «брошюра», потом спросил о правописании трудных приставок, потом задал громко свой главный вопрос:
– Кто скажет первый, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин?
Ребята знали ответ, но почему-то молчали. Потом он показал на портрет Некрасова и спросил сердито у класса:
– Это кто там висит – Толстой или Чехов?
Ребята молчали, и я за них заступился.
– У нас же сейчас – русский. А литература будет шестым уроком.
Но Чирочек даже не взглянул в мою сторону. И вместо сердца у меня сразу стала одна зола. Да за что же мне пришло наказание? Да неужели никто не заступится?.. Но меня никто не слышал. И я чуть не рыдал.
А потом было самое страшное – разбор моего урока. Он состоялся поздно вечером при закрытых дверях. За столом нас сидело только трое: я, Чирков и наш директор Павел Иванович. Я уж ни на что не надеялся. Да и Чирочек повел себя опять неожиданно. Он предложил мне самому разобрать свой урок и даже поставить себе оценку. Я сказал слов десять и сразу замолк. И тогда он достал свой блокнотик и начал кривить губки, гримасничать. Как будто откусил что-то кислое, и у него свело десны. Потом выдохнул из себя: «Не понимаю, где я побывал. На вашем уроке я не заметил дидактики...» Щечки у него опять раскраснелись, припухли, еще немного – и брызнет кровь. А я смотрел в окно и слушал метель. Ветер выпевал на все голоса, и к ним присоединился голос Чирочка. Говорил он долго, с большими паузами – от урока не оставил камня на камне. Время от времени он останавливался и потирал ладони, причмокивал, точно предвкушал какое-то удовольствие. Я что-то возразил, он оборвал меня:
– Сейчас я говорю. Если что забудете – запишите. У вас всегда должна быть ручка или хорошо отточенный карандаш. – И сразу глазки его заблестели и волосы приподнялись, и он стал прижимать их ладонью. А за окном уже стояла поздняя ночь, метель утихала. И мы тоже вспомнили об отдыхе. Директор пригласил Чирочка к себе, но тот испуганно замахал руками – нет, нет, ни за что. Наверно, боялся сплетен. И тогда мы соорудили ему постель прямо в учительской. На длинный стол настелили газет. И он при нас лег на них и помахал рукой: уходите, мол. А что он ел и что пил в ту ночь – для нас была полная тайна. Может, таились какие-то продукты в его огромном портфеле.
А я так и не мог заснуть до утра. И все время думал о нем и не мог его разгадать. А наутро он опять отправился ко мне на урок. О своем желании сказал перед самым звонком.
– Я к вам опять. Приглашаете? – И, не дождавшись ответа, поплелся за мной вразвалочку. Он доставал мне как раз до плеча. Я косил на него глазами, и мне казалось, что со мной рядом шагает палач. Но вместо топора в правой руке он держал портфель. Он был огромный, потрепанный. Думаю, что Чирочек использовал его по ночам, как подушку. Дышал инспектор шумно и с перерывами. И я молил судьбу, умолял – вот бы умер он сейчас, вот бы умер. Но ничего не случилось, и я вошел в класс.
Урок тогда я построил оригинально: предложил ребятам изучить самостоятельно по учебнику новые темы: «Виды простых предложений» и «Главные члены предложения». Ребята уже раньше знали кое-что по этим вопросам, поэтому я и рискнул. Забегая вперед, скажу: Чирочку мой урок показался тогда странным и диким. Разве можно, мол, начинать новый материал без объяснений. Так может учить только лентяй или зазнайка. А это плохо, плохо-с... Он даже не стал разбирать мой урок, только похмыкал, повытягивал губы и больше в этот день со мной не общался. Но мои мученья на том не закончились. На другое утро он дал моим шестиклассникам контрольный диктант. И опять без предупрежденья, внезапно. А выполненные работы он собрал сам, мне, как учителю, не доверил. И даже больше того: стопочку тетрадей он положил в директорский стол и закрыл на ключ. И когда закрывал, лицо у него было таинственное и сердитое, и вместо губ опять образовался квадратик.
А вечером стал проверять. Ошибки, конечно, исправлял я, учитель. Но он брал каждую тетрадку себе в руки и подробно ее изучал. Изучение начиналось с обложки. Вначале он нюхал ее и разглядывал на свет, потом эту же обложку подносил близко-близко к очкам, потом отдалял от себя, потом опять все сначала. Я крепился, мне хотелось его ударить, стащить со стула, но что-то меня держало. Может быть, страх держал, а может, обида. Ведь он поглядывал на меня, как на вора, и безнадежно качал головой.
Перед ним на столе лежали нормы оценок. Я уже проверил половину работ, как он вдруг вскочил со стула и начал быстро ходить по учительской. Схватил текст диктанта и стал считать в нем количество слов. Делал это вслух, заикался, потирал руки и сильно потел. Наконец, он вынес свой приговор: «Диктант-то мы подобрали слабенький, и совсем нет дидактики». И больше он ничего не сказал. А я два дня ходил и думал над этой фразой, но так и не понял, не вник... А Чирочек за эти дни посетил все уроки математики, зоологии и даже проверил нашего физрука. И вот собрался наш экстренный педсовет. Мы все молчали, смотрели в пол, а Чирочек оглашал акт проверки. До сих пор помню его слова. И смешно, и грустно, и жаль себя. Неужели это было, неужели случилось? Чирочек снял очки, потом снова надел и начал чеканить: «Учителя школы способны к работе при условии, что будут повышать свой кругозор. А вот по всеобучу надо подумать... Он осуществляется в школе, за исключением двух человек по болезни. Есть и другие проблемы. Например, планы воспитательной работы составляются в одном экземпляре, что затрудняет проверку. И надо заняться самообразованием. Всем учителям следует конспектировать дидактические статьи и материалы. В школе значительно хромают уроки зоологии и физкультуры. На уроках зоологии не отмечено различие человека от обезьяны...» – Его тоненький голосок звенел и вибрировал – на Чирочка нашло вдохновение. И говорил он долго, без единого перерыва. А когда закончил, то попросил вопросов. Но их не последовало. Мы сидели усталые, оскорбленные. Ведь он отчитал нас, как второгодников, и мы обижались теперь на него и на себя обижались, что сидим такие забитые, безответные: что, мол, за доля у нас, что за судьба, если каждый приезжий может нами командовать. Но Чирочек об этом не знал, не догадывался. Он сидел далеко от нас, во главе стола. А его глазки так и стреляли, так и цеплялись...
А через два месяца он опять к нам залетел. Время было тяжелое для школы. В нашей учительской недавно загорелась стена – натопили сильно печку-голландку. И вот за день до приезда Чирочка начался ремонт – штукатурили стену, белили. Одним словом, ночевать в тот раз инспектору было негде. Я решил его взять к себе. Всю дорогу до моей квартиры мы шли молча, без единого слова. Под ногами похрумкивал последний весенний снежок, на тополях сидели веселые птицы, а мы не смотрели друг другу в глаза, молчали. Можно было подумать, что между нами великая ссора. Но никакой ссоры, конечно, не было...
Как я и думал, от ужина он отказался, но все-таки попросил стакан чаю. Я вскипятил самовар и стал из шкафчика доставать заварку. Он предупредил меня: «Я с заваркой не пью, не привык. И сахар не уважаю». Я налил ему одного кипятку и сверх того на кусок хлеба намазал масла. Он взял кусок в обе руки и поднес его прямо к очкам: «А масло должно быть хорошее?» – «Да, да», – согласился я, и он опять взглянул внимательно на кусок, но есть почему-то не стал. Потом увидел у меня на полочке хромку-гармошку. Я перехватил его взгляд и покраснел, как девица. Эту гармошку оставил у меня пятиклассник Колька Засухин. Он играл на ней как артист, и я любил его слушать. Все это промелькнуло в голове, но Чирочек оборвал мои мысли:
– Гармонь ваша? – Его глазки горели и плавились под очками. Они, оказывается, были живые, эти глаза.
– Так чья же гармонь? – опять спросил он.
– Моя, моя! – зашептал я испуганно, спасая своего друга Кольку. Но Чирочек почему-то не слушал, он смотрел, не отрываясь, на хромку, и через секунду гармошка была уже у него в руках. Он пробежался правой рукой по ладам. «Вот это да!» – подумал я не то с восхищением, не то с осуждением. А Чирочек уже играл, смешно наклонив набок голову. И теперь она особенно походила на румяное яблочко, которое так и звало к себе, так и притягивало. Играл он простую, привычную песенку. Он играл и мурлыкал: «...на окошке на девичьем все горел огонек...» Он допел песенку до конца, потом сердито поставил гармонь на стул и сразу же снял очки.
– А ученики знают, что у вас есть гармонь?
– Знают. В деревне все знают.
– Это плохо. Плохо-с, – заключил он и начал прихлебывать пустой чаек без заварки.
– Но почему плохо? Гармонь – не водка, – попробовал я защититься.
Ночью он долго не спал. Кровать его пустовала. Я видел, как он что-то энергично писал в своем блокнотике. Наверно, готовился к завтрашнему дню. Лег он только часа в два или в три. Лег прямо на одеяло, не раздеваясь, и этим снова смутил меня. Но еще больше поразила его манипуляция со своими очками. Футляра, видно, для них не имелось, и он завернул очки в старую газету, и этот сверток аккуратно стянул шнурочком. Когда стягивал, то что-то шептал про себя, озирался...
А утром снова все повторилось: он пошвыркал пустой чаек без заварки и съел два сухаря. Вот и вся его трапеза. А потом мы отправились в школу. Шли опять молча, на расстоянии двух метров. Я – впереди, а он – сзади. Все это напоминало другое: милиционер ведет арестованного. Так, наверно, и было. Ведь в то утро он опять пошел ко мне на урок и опять задавал моим шестиклассникам вопросы. Они молчали, а Чирочек недоумевал. Его щечки нервно сияли. А вечером, поздно вечером, на разборе урока он произнес ту зловещую фразу: «Вас бы надо не допускать до уроков. Вы же не признаете методик». Его очки неприятно поблескивали при электрическом свете. И в этом блеске чудилась близкая печаль для меня, а может, даже расправа. Так и случилось. Чирочек неожиданно замолчал и посмотрел в потолок. А потом вдруг откинул голову и сказал, не торопясь, выставив вперед свои крепкие зубки: «В районо я скажу, чтоб вас больше не комплектовали. Вам ясно? Если не ясно – то запишите...» Его глазки так и стреляли, так и цеплялись. И я знал, что эти дробины скоро убьют меня. Совсем-совсем скоро...
А в конце года, когда наступило тепло и задули майские ветры, он опять к нам приехал. Он приехал сватать нашу Савельеву Галю, нашу артистку. Она работала заведующей клубом и хорошо пела народные песни. Когда он успел с ней познакомиться – для нас это тайна. А через месяц в Падеринке, в райцентре, гуляли свадьбу. И это было так странно, так грустно, нелепо: Чирков – и вдруг свадьба? А впрочем, что удивляться, ведь он был всего на три года постарше меня. Всего на три года, а казался мне стариком.
А на следующий год я уехал из той деревни, но еще долго оттуда приходили письма и телеграммы. Друзья находили меня в городе и звали обратно. И я тоже писал им письма, но приехать не обещался. Да меня бы и не пустил в школу Чирочек. И другое держало. Я привык уже и сроднился с тягучей, горькой и порой бессмысленной городской жизнью... Да, горькой. Потому что не было рядом со мной природы – ни травы, ни деревьев, ни густого соснового бора. Даже о Чирочке я тосковал: кого он теперь будет ругать, над кем издеваться. Он даже мне снился: коротенький, белый, в желтеньких железных очечках. Они сверкали переливались, а мне было грустно, и почему-то щемило сердце.
А потом писем оттуда не стало, и ничего не поделать. Высыхают, говорят, даже озера и реки. Высыхает и наша память... А потом прошло еще два или три года, и я стал совсем забывать про Чирочка. И вдруг однажды, в конце весны, мне написал мой директор школы.
Павел Иванович написал, что они проводили в последний путь инспектора Николая Чиркова. Он вывалился в половодье из лодки и сразу пошел ко дну. Он был тяжелый, подслеповатый да вдобавок еще не умел и плавать. «Ах ты, Чирочек, Чирочек, – осуждал его в письме Павел Иванович. – Зачем ты полез в наше мужское дело, зачем тебе понадобилась эта рыбалка?» И дальше, на всю страницу, директор расписывал мне, как Чирочек ходил по Падеринке и клянчил сети, а ему не давали. Но он все-таки насобирал пять штук и с ними поехал. Нашел потом глубокую заводь, и здесь, возле берега, и случилось... Но это еще не все, сообщал мне директор. У них еще и другая новость: жена Чирочка, Галина, собрала чемоданы и уехала с дочкой в какой-то далекий город. Но, говорят, скоро вернется. В чужих-то краях – не сладко...
Но она не вернулась. И про нее скоро забыли. Даже и про Чирочка забыли. Лет через пять я заезжал в Падеринку и хотел сходить к нему на могилку. Начал спрашивать народ, а на меня глядят удивленно – да вы что! Разве запомнишь? У нас каждую неделю кого-то хоронят. Нет, нет, не знаем. Да вы у жены спросите или у дочки... Так ни с чем и уехал.
А потом я тоже забыл про них. А что удивляться – порой и о себе некогда вспомнить. И если бы не этот чернявый парень. И опять, опять в ушах у меня загудело: «Дорогие мои, я вам выдам тайну... Галина Чиркова поет сегодня в родных стенах...» Но нет, нет, быть не может? У нашего Чирочка, наверно, другая дочь? Другая... И опять вопросы, вопросы, и у меня еще сильней разболелось сердце. С таким больным сердцем я и забрался к себе домой, на четвертый этаж. И ночью плохо спалось, и только под утро я немного забылся. И только забылся – сразу увидел Чирочка. Он сидел в большой лодке и махал мне руками. И я сразу узнал его, но почему-то не признавался. А он махал все сильнее, сильнее, очечки блестели. А потом лодка пропала, но пришел его голос: «А с зоологией-то совсем плохо-с... Не отмечено даже различие человека от обезьяны». И я кивал ему, соглашался – и по лицу у него пробежала улыбочка. И в этот миг я открыл глаза. И опять в голове вчерашнее, и нет мне покоя. Неужели эта певица – дочь Чирочка?.. И неужели голосок ее для меня как память, как крылышко той зимней веселой птички? А впрочем, почему я страдаю?! На глаза мне попал телефон, и я бросился к нему как к спасению.
– Это кто? Администратор гостиницы? Дайте мне номер певицы Галины Чирковой.
И вот уже ее голос:
– Да, Чиркова...
– Простите, – начал я издалека, – я был на вчерашнем концерте... Да, да, я потрясен. Это были мои любимые романсы.
– Но кто вы? Вы назовитесь.
– Я учитель. Здешний учитель. Кстати, если вам интересно: однажды мои уроки разбирал школьный инспектор Чирков Николай Феофанович...
– Как?! Неужели!? Это же мой отец! – В трубке что-то зашуршало и запотрескивало, как будто спелый арбуз стал разваливаться на мелкие части, а потом снова голос:
– Вы знаете, я сейчас запла́чу. Какая радость, что вы позвонили! Я так мало о нем знаю. Но вы же ко мне приедете? Да, да! Сейчас же! Вы должны все рассказать... Вы слышите?
– Слышу. Но я не могу... – сказал я тихо и сразу от боли закрыл глаза. А сердце уже билось где-то у горла.
– Но почему, почему же?! Вы же сами меня разыскали... – Она требовала, почти кричала. И тогда я решился:
– Я звоню вам с вокзала. Через пять минут у меня скорый поезд. Простите... – И сразу повесил трубку... Потом опять снял ее и долго-долго держал в руках. Но она была уже холодная, неживая... Так же и мой Чирочек. Я, наверно, совсем не знал его, ведь человек – это тайна. Иначе бы не было у него такой дочки. А в ушах все звенело: «Но вы же ко мне приедете? Да, да! Сейчас же...» И я опять не знал, что ей ответить, и только шептал про себя: «Простите, простите...»