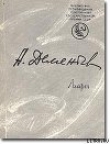Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Шторм
Поезд мчался сердито, уверенно, вагон качало, как лодку. «Куда торопится машинист? Куда?» – думал Алеша и жадно курил. А за окном согнулись деревья, в темных тучах мелькали птицы – то ли голуби, то ли галки. Птицам чудилась уже зима, потому они кричали, метались.
Эта боль птиц передалась и Алеше и смешалась с его собственной болью. Он ехал с юга, с теплого моря, где с ним случилось несчастье. Он смотрел теперь на осенний дождь, на печальных галок и все думал об этом, только об этом.
Год назад Алеша заболел. Врачи сказали – пустое дело, теперь у каждого бессонница, нервы, надо просто меньше читать, меньше думать и хорошо бы на месяц к морю. Врачам виднее, а у матери – горе, и сестренка плачет, кулачки сжала: «Да брось ты свои книжки, Алеша!» А он опять сдал экзамены на «отлично». Перешел на последний курс, дома рады. Но все равно достали ему путевку санаторного типа: пусть забудется, отдохнет. Путевка на сентябрь – самый бархатный месяц. Да только беда – как раз начало занятий. «Ничего, не сгорит институт, потерпит», – так решили в семье.
Вначале завернул в Краснодар к другу детства. Когда-то жили в одном доме, в одном подъезде, сроднились, как братья. Завернул, а Николая нет дома: позвали к тетке помочь с уборкой винограда. А та живет у Азовского моря.
В Краснодаре – зной, сухой ветер, тополя запылились, обвисли. И на дорогах теснота: все машины, машины, бегут куда-то, как веселое стадо. И людей полно, как на базаре – шумят, торопятся, не понять их. Зашел к соседям. Те смеются: «Чего повял, парень? К Николаю ведь можно автобусом, на Темрюк – прямая стрела. А там рядом...»
«Зачем поехал? Зачем?» – И опять закрылись глаза от боли. Но это не боль даже – хуже. Ту хоть можно задержать где-то, отвлечься, а здесь совсем нет покоя: точно приставили к виску большой гвоздь, размахнулись – и вот ударят сейчас, вгонят по шляпку. Ударят, но что-то медлят, уж лучше бы скорей били, скорей бы... И он не выдержал, поднял голову. И сразу вздрогнул, прижался в угол: в дверях стоял незнакомец. Лицо усталое, как от болезни.
– Напугал тебя?
– Хорошо, хорошо, – забормотал невпопад Алеша, и еще сильней испугался.
– Я потихоньку, не помешаю... – Он все еще стоял в дверях, моргал вопросительно.
И тогда Алеша пригласил:
– Располагайтесь. Я один тут...
– А я согласно билета.
– Разве станция?
– Только что...
Но Алеша не видел станции, пропустил.
– Сынок, помираю без курева. Не задымлю тебя?
– Курите, курите! – почему-то обрадовался Алеша, засуетился. Ему стало лучше с чужим человеком, а то совсем потерял себя. Да и тот не молчал, улыбался.
– К морю ездил, сынок?
– К морю... – ответил Алеша и вытянул шею. Но это ветер свистел в вентиляторах, как будто выла собака.
– А загар кому продал? Мамке как отчитаешься?
– Мне нельзя загорать, – смутился Алеша и опустил низко голову.
– И мне запрещают. Кровяное большое давление. Давит кровь, не унять.
– Вы бы лечились! – И опять Алеше стало полегче, и он не заметил, как вошел в разговор.
– Кого... Одно лечишь – друго калечишь. Кабы жись сама не давила. Подтыкат добро под лопатки... Ну чё, покурим, студент?
– Откуда вы знаете?
– А, поди, не студент? Все вижу, парень. Две руки у тебя, две ноги.
– Сколько? – не понял Алеша, и вдруг дошла шутка, и засмеялся. И снова легче дыханию, будто споткнулось о него теплое облако, захватило всего, понесло. А сосед к нему ближе подвинулся.
– Ты зови меня просто Василеем. Можно даже Васильем Петровичем, а дядей Васей не зови, не люблю. Как-то скользко выходит, да и какой я тебе дядя?
Алеша промолчал. Он смотрел в окно. Мелькали темные поля, перелески, и эта темень в поле – пустая земля. С нее сжали все, вспахали стерню и оставили – отдыхай теперь до весны. И она затихла вся, и дождь над ней как одеяло, и ничего ей не страшно. И Алеша тоже присмирел, успокоился, вагон монотонно постукивал, в купе было чисто, прохладно, пахло свежим бельем, сигаретами, колеса не замолкали, и хотелось так ехать, ехать, чтобы все забыть, потеряться, а потом снова где-то проснуться, воскреснуть и зажить счастливо, по-новому, и чтоб рядом были и мать, и сестренка – его кровь и душа. Отвлек его Василий Петрович.
– Тяжело на учебе?
– Да нет, легко даже, – усмехнулся он, закурил.
– А ты не хвастай. Везде тяжело. И на войне, и в семье, и в работе. А учеба – та же работа.
– Вы воевали? – оживился Алеша. Он любил старых солдат-ветеранов, завидовал их жизни, воспоминаниям.
– Всю войну от звонка до звонка. Такого, сынок, нагляделся... И горел, и тонул, и землей засыпало. А я встану, отряхнусь да опять пошел. Думал: жись моя вечна. Да, видно, не вечна. Все теперь заболело.
– Вы бы путевку взяли, Василий... Как ваше отчество, забыл?
– А давай выпьем по полной и вспомним.
Он достал из чемодана «Столичную», обтер чистым платком, поставил на столик. Так же неторопливо достал стаканчики, зеленого лука и вдруг улыбнулся доверчиво, по-родному. Глаза приблизились и раскрылись.
– У меня горе, парень. С похорон еду... Вот сижу с тобой, а горе ест меня, изглодало. Нет, не могу, честно слово. Давай зальем, выпьем...
И когда чокались и вставали, их лица сошлись так близко, что Алеша увидел в его глазах сухие трещинки-жилки. Они то взбухали, то опадали, и видно было, что это – горе...
Водка была теплой, противной и сразу отняла ноги. Алеша весь изморщился, закурил. Потом загляделся на дождь, на темные крыши и вдруг услышал, как бьется сердце. Это оживала его болезнь. Вначале клюнул и встрепенулся птенчик. И это было совсем не страшно, но вот прошла минута, другая, и этот маленький больной птенчик уже бил крыльями, задыхался, потом стих, как и не было его. И тишина эта – спазма – всего страшнее, и Алеша уже ничего не слышал, не помнил, только молил какого-то особого, своего, доброго бога: спаси меня, сохрани! Потом сердце стало вытягиваться, расширяться, потом запрудило всю грудь и подошло к горлу. И как только подошло туда – нестерпимо забилось, и птенчик ожил опять, задергался, но теперь уже покорно, бессильно. И напрасно Алеша упрашивал своего бога – опять все встало в глазах, и горе это, его страшное горе, опять приставило гвоздь к виску. Еще немного – и гвоздь вопьется.
– Чё, парень, не можешь пить, и не надо. Не привыкай к отраве.
Алеша вздрогнул, поднял голову и вначале не понял, где он, чей это голос.
– Кто здесь?
– Я, парень. Да чё с тобой? Поберестенел... Нет, не пей, хватит!
– Я болею. Давно болею, – вдруг признался Алеша. – Мне надо беречься... – И как только признался, сразу протолкнул комок в горле и глубоко вздохнул.
– Врачи говорят, что у меня нервы... Ведь все от нервов.
– Ух ты, батюшки-светы. Да где они – нервы? – Сосед усмехнулся.
– А вы не смейтесь, врачи-то знают.
– Врачи-грачи... Ты слушай, они наскажут.
– Зачем так, Василий?..
– Я – Василий Петрович! А не люблю их. Вон стращают все про куренье. Нельзя, нельзя, ну прямо нельзя, а сами едят табак. И даже ихни бабешки. Как белый халат – так цигарка в зубах.
– Зачем вы... И врачи – люди, – отозвался, нашел в себе силы Алеша. Да и легче было, когда говорил, отвлекался. Но сосед поднял голову.
– Вот что, как тебя?
– Алексей.
– Ладно, Леша-Алеша. Ты жить начал, а я, считай, у предела. И на людей ты мне не кивай, сам большой, разберуся, кто человек, кто зелена кобылка... А болезнь твою понимаю.
– Ой вы!
– А ты не ойкай, мы не в больнице. А я тебя вижу. Все, парень, вижу, хоть не в себе я... Хилой ты больно, а душа твоя – листик. А чё он, листик? Подуло сильней – и сорвало. Вот и болеешь ты да тончаешь. Завернули тебя в бумагу...
– О чем вы?
– О том все. В семье, поди, нежат. Ну ладно, не моргай на меня, не взбуривай, сам вижу – глаза выдают тебя. А чё нынче не жить? Попить, поись – чё захочешь. Да у каждого гаражи все, машины. Где душе укрепляться...
– Не понимаю. – Алеша встал на ноги, закурил сигарету.
– А ты не понимай – дело делай. Наживай под собой основу. Укрепишь душу и оздоровеешь. И все болезни твои – по ветру. Вот кончай институт и айда к нам на стройку. У нас девчата в бригаде – пропадешь в первый день...
– Я же в педагогическом.
– Вот и хорошо. Учителя нужны в перву голову. У нас в поселке есть школа, десяты классы открыли...
– Я, может, на БАМ поеду, – улыбнулся Алеша, а в глазах мелькнула усталость. Ему уже хотелось перевести разговор на другое, да и сам сосед стал утомлять назиданиями. Побыть бы опять одному, чтоб никто не мешал. «Да кто он, этот проезжий? Почему судит меня, советует? По какому праву?..» Но его мысли опять прервали:
– На БАМ ты, сынок, не поедешь. Ты больной теперь, живешь с нервами. – Сосед хохотнул и покачал головой, но Алеша как не заметил. – Там тайга и зима девять месяцев. Там сильные люди нужны. Там, сынок, теперь большие бои идут. А тебе в бой рановато. Еще замерзнешь под елочкой.
– Это почему? – побледнел Алеша. Он уже еле сдерживался – так сосед надоел.
– Ты, сынок, не сердись, не поглядывай. Поучить тебя надо сперва, попытать. Да не вздыхай, не верти головой – жизнь сама испытает. И ты сам поймешь, кто ты есть: то ли худа ременна веревочка, на любой кнут привязали и ладно, то ли человек уже – и лицо свое, и характер...
– Вы философ, – улыбнулся Алеша. Он плохо слышал, что ему говорили. Да и показалось, что сосед опьянел от одной-разъединой рюмочки, и теперь понесло его. «Пусть несет, без костей язык, а я посмотрю лучше в окно, успокоюсь...»
И он смотрел, курил: но там все было старое, надоевшее: пустые поля, перелески, березы стояли в холодном мареве, и это марево клубилось, как дым, и вдруг его покой оттеснило другое. Опять этот вопрос пробрался случайно в голову и встал на дыбы: «Зачем поехал, зачем?..» Его губы заходили, задергались, он сам с собой разговаривал, и сосед отодвинулся.
– Ты чё, охмелел совсем? А вроде пили – не пили?
– Нет, нет, продолжайте, я слушаю, – спохватился Алеша. Он скрывал свое состояние и теперь сжал себя.
– А я продолжу. Хоть говорю с тобой, отвлекаюся. Такое горе ношу я, Алеша!.. Не молчал, так пал бы сразу на полку и умер.
– Я слушаю, – повторил Алеша и посмотрел на него внимательно. Тот выдержал прямой взгляд.
– На чем мы?.. Ага, на жизни. Жизнь, говорю, сама испытает. Как меня летом сорок второго... – На лоб у него набежали морщины, глаза стали слезиться. Да и дым табачный мешал ему. Он курил беспрерывно.
– Вы много курите...
– Не сбивай, сынок, не об этом... Привезли нас в расположение. Вагоны отошли, мы осталися и ничё – веселые. В куче-то и помирать хорошо. А командир по линейке выстроил и – шагом арш на лесок. А там – немцы, диверсанты на парашютах...
– Может, хватит про диверсантов! – Алеша приподнял голову и взглянул насмешливо. И в насмешке той просьба: довольно разговоров и наставлений, можно бы посидеть, помолчать. Но сосед его понял по-своему.
– А я не пьяной, сынок, не подмаргивай. Я для тебя говорю. И докончу. Ну вот, пошли по лесочку мы, чтобы выловить их, обезвредить. Целу ночь ходили, всю одежду придрали, а страху-то, страху – даже теперь не могу. Все думалось – сидят вон там в темных кустиках и прямо в лоб тебе целятся, выбирают тебя. А я ногу еще повредил себе, костылек приспособил и попрыгиваю на нем, поскакиваю. А сучья-то подо мной прямо хрумкают и каждый раз как стреляют. Вот уж дождь пошел, да ядреной, гимнастерки все вымокли, а мы-то – живы уж, не живы. Падам прямо, обносит голову, а командир кричит все – вперед! Тут и жизни не рад, кака это жись. Размышляешь про себя: хоть убили бы, дак не мучился. А командир все кричит, все вперед. Вот уж утро пришло – никого не нашли. А своих растеряли два взвода. Ну чё, капитан нас построил и объявил, что рота проходила ученье. Мы так и присели: дак кака же сама война, если это было ученье? Вот так, сынок, а командир-то прав оказался, потом хуже было, когда на живые танки поперли, а те танки на нас. Вот и у тебя, сынок, пока только ученье идет, а сама жись спереди. Готовься к ней, охраняй себя...
– А вы меня не судите. Вы не прокурор, а я не ответчик! – Алеша вскочил на ноги и заходил по купе. Давно уже прервать соседа собирался, но все медлил, сам себя останавливал. И вот не выдержал, лицо пошло пятнами: – Вы судите меня, а не знаете. Ничего вы не знаете! Только имя мое!
– Прости, сынок, не сердися. Я себя ведь сужу да ем поедом. Так найдет порой, что убил бы прямо, разбросал по частям. Такой виноватой я. И не будет прощения. Нашло горе на горе и горем погонят.
– Да что вы?.. – Алеша остановился на месте и прислушался к сердцу. Оно снова билось у горла, куда-то бежало, да и голова разболелась. Опять хотелось побыть одному. Но сосед не молчал.
– Сынок у меня был. Такой спокойной, внимательной. Ты походишь на него, только имя друго. Мы его тоже ласкали да нежили, он все ездил у нас по курортам, по санаториям, с моря на море да при деньгах. Тоже нервы все, малокровие – отец с матерью заморили дак. И доездился: прибрали в колонию. Похулиганили – чё, станут глядеть? Я с тобой говорю, а точно с ним говорю. Куда теперь – раз колония... А вот дочка наша сама ушла.
– Как сама? – Алеша ближе подвинулся, а потом рядом сел, так поразило его лицо Василия Петровича: оно покраснело сплошь, налилось. Как будто кровь устремилась в голову и вот сейчас еще выше поднимется, потом вовсе вырвется – и человек упадет. И вдруг лицо побледнело, потом опять налилось, и он стал бормотать:
– Я сам и закопал ее, разровнял холодну земельку... Отлетала мала пташечка, отзвенел голосок... – Он закрыл лицо и начал раскачиваться. – Не могу, хоть в петлю. До чё ты дожил, Василей, Василей. До чё ишо доживешь... Тебе, сынок, не понять.
– Я тоже...
– Чё тоже? Дочь хоронить, как в огонь идти. Да кого тут – легче, парень, в огонь-то...
– Успокойтесь, – вздохнул глубоко Алеша. Ему уже было жаль человека. – Успокойтесь, – повторил снова и посмотрел прямо в глаза. Но тот не выдержал взгляда, опять закрылся руками.
– Помолчи, сынок, вот будут свои да кровны...
– У всех горе. Нет никого без горя. – Алеша сказал эти слова потихоньку, словно бы для себя сказал, но сосед услышал и поднял голову.
– Давай, Алеша, подучи старика. Сынок мой тоже меня воспитывал, а теперь вот его... – Он усмехнулся, налил в стакан и медленно выпил. Еще сильней покраснело его круглое белесое лицо. Потом подмигнул нехорошо, по-шальному:
– Ну, как же ты с горем-то? Поди, тяжело? Влюбился, что ли, у моря-то? У меня тоже сын невесту оставил. Поди, дождется... – И сразу краснота пропала с лица, оно сделалось строгим, серьезным. Глаза раскрылись и ждали. И это ожидание подтолкнуло Алешу.
– Человека сгубил я... – вдруг сказал он и сразу замер. И в груди опять ожил птенчик и стал задыхаться. «Зачем сказал? Зачем?..» – вопрошал Алеша кого-то. Но сосед был спокоен, точно не понял.
– Все мы кого-то сгубили, а ты говори, облегчайся. Расскажешь – и легче. Наша душа – колодец. Закрой его, не пусти народ – и прокисла вода, пропала. А можно и по-другому: заходи, человек, бери, черпай! И вздохнули ключи, а воды – того больше.
– Я понимаю... – опять начал Алеша. Он уже не бледнел, успокоился, потому что принял решение. Он решил рассказать встречному все без утайки. Пусть судит его, Алешу, пусть. Может, потом будет легче. Еще час назад такое решение его бы удивило, но теперь река вскрылась, понеслась вперед тяжелым потоком и потащила с собой все льдины, коряги, и все, что скопилось в ней за долгие часы ожиданий, все рванулось теперь, не унять. И он подчинился этому зову. Да и сосед поощрял:
– Говори, сынок, облегчайся. Поди, у моря впервые?
– Ну, конечно. У меня друг в Краснодаре...
– Заезжал к нему?
– Не застал. Он к тете уехал. Там поселок Холмы. Я за ним.
– У Темрюка-то?
– А что, вы знаете? – Алеша вздрогнул и сразу стих.
– Давно живу, много знаю... – Теперь сосед смотрел исподлобья, таинственно, но эта таинственность почему-то манила, притягивала. Так порой зовет тебя глубина под мостом, под обрывом. Так и рвешься, заглядываешь. А зачем бы? Но все равно зовет бездна.
– Чё, сынок, напугался? Я в тех местах воевал... И не бойся, я не колдун какой, душа моя человеческа...
– Есть ли у человека душа? – усмехнулся Алеша и вздохнул глубоко, с остановками. Он переживал, что его перебивали, когда хотелось говорить, говорить. Но сосед опять привлек к себе его внимание.
– Есть, конечно, душа. Пустоты не бывает. У тебя вон она плачет, колотится. Хорошо, что не пьешь. А я вот выпью, послушаю...
– Чего слушать? Хорошо было! Николай повел меня к вечернему морю...
– Батюшки-светы, к вечернему. Поди, нагишом искупаться?
– Зачем вы? Уже шторм поднимался.
– Ух ты, Алешенька, шторм начинался. Так как же вы уцелели? – Он засмеялся, закашлялся, потом оборвал себя: – Ну ладно, посмеялись – забыли. Ты человек, Алеша, я вижу... И на сынка ты похож, как две капли. Дай бог ему там здоровья. Это все не жизнь у него, а ученье. Помнишь, я про фронт-то рассказывал, как нас выгрузили да в лесок. И у тебя, Алеша, ученье. Потом будет потяжелее. Так что не трусь, сохраняй в себе человека... Давай, я за вас выпью. Дай бог тебе бабенку подходну, дай бог тебе деток. И внуков, и внучек. И чтобы не хоронить, а ростить. – Он выпил, вздохнул глубоко, отвернулся. – Населяй мир, Алеша-а-а! Хороший ты парень!.. – Он повернул лицо, достал папиросу. И только сейчас по-настоящему разглядел его Алеша. Лицо белесое, круглое, зато глаза – широкие, темные, почти смоляные. И все время играют зрачки, изменяются – это кровь к ним подходит, играет. А голова белая, волосы прямые, коротенькие, на висках с сивой ржавчинкой, зато брови снова широкие, темные, и темнота эта пугает. – Ну, чё замолчал, Алеша? Кого погубил там? Говори – легче будет. Говори – я послушаю.
– Да откуда вы знаете: легче, тяжелее, – рассердился Алеша и замолчал опять. Но сразу пожалел, что вспылил, рассердился, да и бездна манила, звала к себе. И хотелось рассказывать, признаваться, и опять в нем рушились льдины, ломались. Но сосед перебил:
– Знаю, сынок, не расстраивайся. А теперь скажи, в чем одета была, что сказала она?
– Кто она? – удивился Алеша и посмотрел на него в упор. И тот глаза не отвел, а глаза прямые, печальные, и опять набухли зрачки. Как будто перед слезами.
– Ты не придуривай! Чё, у моря да без знакомств? – В его тоне уже приказ, раздражение, и глаза совсем напряглись, расширились, и Алеша поддался, не выдержал.
– Машей звали, Марией...
– Мария?! – Он опустил голову и заплакал. Алеша еще ничего не понял. Он только смотрел на лицо его и на плечи. Они нависли, как у больного, так же трясутся. Потом он вскинул голову и ладонью – за ворот. Рубаха треснула сверху донизу и распалась.
– Что с вами? Я воды принесу...
– Ладно, парень. Не до воды мне. И не гляди так, не надо. У меня дочку звали Марией. Уже в земле лежит да поляживает.
– Она болела?
– Кого болела? Нашли опухоль и зарезали. Кабы начальника какого дитё...
– Врачи, наверно, не виноваты, – сказал тихонько Алеша, но он услышал и сразу схватил Алешу за локоть.
– Да я понимаю! Я все понимаю... Ты прости старика, сынок. Я помру теперь с этим. Она недалеко здесь жила, в Тамани... – И у него опять заходили плечи.
– Я воды принесу?
– Ты сиди, не выдумывай. А я выпил зря. Не в мои теперь годы. Может, усну, тогда отойду. – Он лег на полку прямо в одежде и сразу начал постанывать. Потом дыхание окрепло и выровнялось. Видно, заснул.
Алеша тоже прилег и закрыл глаза. Вагон все так же качался, подрагивал, над потолком выл ветер, свистел в вентиляторе. Грустно, тяжело, что сосед уснул. Алеша уже привык к его дыханию и голосу, хотелось еще разговоров, да и река в нем все бурлила, рвалась вперед, и он совсем подчинился – и сразу течение подхватило его, понесло. И в груди было свободно, и дышалось легко – много воздуха. А потом стало совсем легко и свободно, и отступило на миг страдание, и сердце билось уже ровно, уверенно, как было порой возле сестры, возле матери. «И зачем бы лечить такое и ехать куда-то. Не надо бы ехать, лучше сидеть дома, лучше бы дома». И вдруг стало так хорошо, так стремительно, что он куда-то полетел, приподнялся. Нет, он не полетел, не поднялся, а просто стоял на обрыве, а сердце билось и поднимало, и хотелось взлететь. Он знал, догадывался – это от моря, от воздуха, от дальней дороги. А потом пошли ужинать, тетка Колина все ходила за ним, как за маленьким, и все смотрела в глаза, упрашивала:
– Вы кушайте, кушайте, уважайте своих хозяев. Все есть, слава богу, и вино свое, и фрукты, ягоды. Оставайтесь у нас, живите.
Потом зашла соседка – Мария Васильевна. Ее тоже к столу пригласили, графинчик подвинули. Он не сразу заметил ее. Опьянел, размечтался, а она уже рядом сидела. И на столе – ее полные красивые руки.
– Почему серьезный, Алеша? У тебя имя – Алеша? – Она уже к нему обращалась, что-то пытала и откинула назад свои волосы. Они упали на спину тяжелой копной. Николай поставил пластинку.
«Ах, какая ты мне близкая и ласковая, альпинистка-а моя, скал-лолазка моя!» – рычала пластинка. Что пластинка? Вот она уже приглашает, берет за руку. В комнате жарко и танцевать нельзя, но они танцуют, не замечают. И пластинка очень длинная, нервная, и пугает кого-то Высоцкий и задыхается, но все равно хорошо вдвоем.
– Сколько тебе, Алеша?
– Двадцать пять, а тебе?
Он сразу прибавил четыре года, и она поняла.
– Сколько, сколько? Да ты не скажешь, а я вот свои убавляю. Как мужик бросил нас, так и убавляю.
– Какой мужик? – Он поднял глаза.
Мария засмеялась, закинула голову. Опять волосы упали назад.
– Муж, Алеша. Бросил с дочкой меня, уехал к молоденькой. А мы не плачем. Танцуем.
Николай опять поставил пластинку, опять танцевали. На улице шумел ветер, накрапывал дождь, потом дождь перестал, а ветер остался. Окна были открыты, без занавесок, где-то рядом шумело море, и ему очень хотелось к морю, надоело застолье. Но он все равно не жалел, что заехал. Он знал, что только для него этот стол, этот ужин и даже эта пластинка – только для него одного. Николай рассказывал что-то смешное, и все смеялись, потом опять пел Высоцкий, но пел уже грустно, протяжно. Его голос сливался с ветром, и было красиво. Потом к Николаю зашла девушка и увела в кино. Они остались трое: тетка, Алеша, Мария. Хозяйка еще налила вина, но ее перебила Мария:
– Хватит, не надо. Мое вино лучше. Пойдем мое пить, Алеша. – У нее получилось грубо, внезапно, но никто не вмешался. Да и кому? Тетка сразу погрустнела, ушла на кухню.
– Пойдем, Алеша. Да ты не бойся, я не кусаюсь, – Мария говорила быстро, спешила и даже не дожидалась ответа.
Они вышли во двор. Мария была веселая. Далеко в небе шарил прожектор, и ночь казалась еще глуше, темнее.
– Зачем вам прожектор? Корабли здесь не ходят... – Он спросил так, беспричинно, чтоб не молчать. Он сам надоел себе, какой-то злой, молчаливый. «А чего злиться, покусывать губы? Не успел приехать – и приключение». А рядом уже ее голос:
– Затем, Алеша, затем, родной, чтобы ты меня не боялся. Ишь, светит, и я тебя вижу. А ты видишь? Ты видишь меня, Алеша?
– Вижу, вижу, – он засмеялся и вдруг почувствовал себя уверенным, сильным. – Куда муж-то уехал? Вот бы увидел теперь...
– А мы не нужны ему. Пусть увидел...
– Ну, прости, – он почувствовал сердце, оно больно ударило...
– Ладно, ладно, прощаю, все прощаю, Алеша. Ты почему так дышишь? У тебя сердце болит?
– Болит часто. Я по путевке...
– Ох, бедный! А целоваться-то можно?
Она смеялась и жала локоть, а ему было стыдно и неприятно, и почему-то вспомнилась родная сестренка. Она бы этого не простила. И мать бы ему не простила...
– Вот, Алешенька, и дошли. Вот мой домик, оградка. Гляди, какая оградка. Досочка к досочке, еще сам ее, сам украшал.
– Я не вижу...
– А мы свет проведем. – Она щелкнула выключателем, и осветилось кругом. Везде висел виноград, всю ограду оплели лозы. И в это время услышал море. Оно гудело, сердилось, и этот гул шагал по земле.
– Шумит...
– Что шумит? Ага, шумит, мы привыкли. Скоро осень, шторма пойдут. Да нам-то чего, Алеша-а? Заходи в дом, не бойся. Куда-то дочка моя убежала. Мать гуляет, и дитё за ней...
В комнате свежо, очень чисто и пахнет виноградом. Она закуску на стол поставила и графинчик.
– А теперь, Алеша, послушай. Это дом мой – на меня и на дочку. Совсем новый, всего три года...
– Ну и что? – Он удивился...
– А ты не ругайся. Ишь, заругался. Я просто люблю похвастать, какая баба не любит. А вокруг – мой виноградник. В прошлом году на пятьсот рублей насдавала. И вино давлю, все сама, без хозяина. А чего нам – привыкла. Я хочу тебе подвал показать. Давай пойдем, там и выпьем.
Он покорно встал и пошел за ней. Она смеялась, закидывала голову, словно бы в кино повела или на танцы.
Во дворе был бункер-подвал. Сверху надстройка, а там, глубже – ступеньки, и все вниз, вниз. Они пошли по ступенькам. Стены были холодные и сырые, дрожали на них водяные капли. Горела одна маленькая лампочка, потому было глухо, таинственно и хотелось быстрей обратно.
– Вот куда тебя завела? Ты боишься?
Он не понял, засмотрелся на нее, тогда она сама наклонила его и поцеловала медленно, бережно, как ребенка.
– Вот и все. Ты боялся.
– Я не боялся. – Ему стало легко, хорошо, он ни о чем не думал. И вдруг погладил ее волосы. Совсем нечаянно вышло. Она притихла и подалась вперед. Волосы были мягкие, длинные, рука в них тонула.
– Не надо, Алеша. Я сама, я лучше сама... – Она опять наклонила его лицо и поцеловала в щеки, в глаза, в подбородок. Так целуют дети свои игрушки. Он обнял ее, сдавил плечи, еще крепче сдавил, до боли. Руки были уже полноватые, рыхлые, плечи взрослой женщины, но он ни о чем теперь не думал, не видел ничего, потом услышал на груди ее голову. И сразу медовый запах волос. Но ненадолго. Она отшатнулась, отпрянула, потом стала новой, серьезной.
– Тебе холодно? Да?
– Я не замерз.
– Ну, конечно, «я не замерз»... Угадай, сколько мне?
– Не знаю...
– Ты не скажешь, не скажешь. А мне всего тридцать два. Честное слово. Серьезно я. Это я так располнела, сдурела. Ну не могу глядеть на себя – все рвется на мне, порывается. Слышишь шторм? Однажды поднялось море у Темрюка...
Он тоже замер, прислушался. Показалось, что дрожала земля.
– Где-то Верочка ходит? Что случится – сама утоплюсь.
– Ладно, хватит, – усмехнулся Алеша. – Это море гудит, давит нервы.
Но она стала вдруг строгая, мрачная, совсем другой человек. Они вышли наверх и задохнулись от воздуха. Он был теплый, хвойный, обволакивающий, припадал к лицу. Над поселком ходил луч прожектора, кого-то выискивал. Мария взяла его ладонь, крепко сжала. Он чувствовал, что ей опять хорошо, и рука у ней была теплая.
– Ну, здорово, Алеша, давно не видались. А я злюсь на тебя, ничего не спросишь о Марии Васильевне. Я ведь здешняя, коренная, из Темрюка. А поселок наш – новый, совхоз этот расширили, и я сюда. На рыбзаводе сперва работала, и в конторе сидела, и на винограднике. Теперь дочь не знаю куда. Да еще долго, поди, придумаю. Ну, а ты чего молчишь, не рассказываешь? Как искал меня, как нашел? Ты же ко мне приехал, Алешенька? Ну признавайся – ко мне?
Она засмеялась, опять откинула голову. Ей нравились свои волосы, она гордилась ими, показывала. Потом опять засмеялась, но прервала. Наверно, ждала каких-то признаний, может, хотелось вернуть те минуты, когда он обнял ее, приласкал. Не дождалась. А ему стало тревожно, печально, и печаль эта к ней перешла.
– Хорошо мне, Алеша. В такую ночь хорошо умирать.
– Почему? – спросил он испуганно и стал курить, отгонять плохое, тревожное – и постепенно прошло.
– Почему, почему. Ночь хорошая. Ветер, шторм, море ходит, и Алеша со мной... – Над головой встал прожектор, и она замолчала. Потом свет качнулся, подвинулся, и она опять за свое:
– Хорошо умирать, Алеша. Все было уже, случилося. Мы с тобой повстречалися – чего надо еще. А ночь пройдет – и расстанемся. Нет Алеши, нет Марии Васильевны.
– Почему?
– Потому, потому, – слышишь море? Да подойди ко мне, наклонись поближе. Вот так, вот так. Чтоб глаза твои видела. Как они горят у тебя, полыхают... Где-то Вера моя, ты не знаешь? Из-за тебя она не заходит, стесняется. Поди, рядом с оградой, а не заходит. А тебе к морю еще охота?
– Пойдем...
И он пошел за ней. Луны не было, кругом будто все погибло и вымерло, даже собаки не лаяли. Шум волн нарастал и накатывался, а воздух был такой легкий, что слышались брызги в этом соленом воздухе и сразу падали в кровь. Мария стала вздыхать и оглядываться.
– Кого ждешь? Потеряла?
– Дочку жду и боюсь. Уходила к Лобановым, может, поищем?
– Да ничего с твоей дочкой не сделается! – Он стал нервничать, закурил.
– Ох, Алеша! Вот будут свои...
Потом зашли на обрыв. Прожектор жадно высматривал море и скользил по верхушкам волн. Эти волны в столбике света казались холодными, жуткими, но все равно манили к себе. И Мария сказала:
– Давай спустимся вниз, подышим...
И он опять подчинился, пошел за ней. Какая-то сила его все время толкала, толкала, и он не мог ее одолеть. Они пошли по косе, песок скрипел под ногами. Волны разбивались совсем рядом, их дыханье было тяжелым, глубоким. А ветер дул теперь сбоку и напирал, стремительный, теплый, и даже здесь, у самой кромки волны, было тепло. Он удивился, ведь октябрь уже, осень. Там, далеко в Сибири, скоро полетит снег, и застынут озера, И побегут по ним школьники с колотушкой, но лед уже будет крепкий, упористый – уснет до марта вода.
Она запнулась за что-то темное, длинное: рыбаки оставили лодку, вытащили на берег. Мария обрадовалась, засмеялась и сразу запрыгнула в лодку и прилегла.
– Я море послушаю. Отсюда страшнее.
А его вдруг толкнул сильный ток, нетерпение, и он шагнул в лодку, устроился рядом. И сразу хотелось обнять ее, но она ударила по руке.
– Не надо. Я и так с тобой про дочку забыла... – В этот миг на них наткнулся прожектор, и она пригнула голову, вся задрожала. И вдруг закричали в поселке. Это были дурные крики: то ли нож в кого-то попал, то ли топор.
– Я побегу, Алеша. Что-то неладно.
– Я с тобой?
– Отстань ты! Хватит!..
Она побежала наверх. Он ничего не понял и еще ждал, – слушал ее тяжелое, забитое страхом дыхание. Потом и дыхание пропало. Тогда он бросился следом и сразу наступил на медузу. Он не помнит, как поскользнулся, как упал на спину, и в этот миг настигла волна. А он не знал, что с ним, почему его рывком потянуло назад что-то могучее и живое, почему он весь мокрый. И это спасло, что не знал. А если б знал, если б видел и чувствовал, как над ним прошел вал, как обдал его пеной, как сам он жадно вцепился в гальку руками и какими маленькими, слабыми стали ноги, – он бы не вынес. Когда поднялся, в голове закружилось, но он упрямо шагнул вперед и в ту же секунду услышал море. Оно гудело, рычало зверем, и на Алешу напал страх, и он побежал. Бежал изо всей мочи, прикусив губу, как бегал только в далеком детстве. Его бы догнала теперь лошадь, да и то самая молодая, и скоро море отстало. Отдышался уже на самом обрыве. В поселке стихли крики, только в дальней улице гудели машины и свет от фар испуганно обшаривал небо. А он не знал, где находится. Дома все одинаковые, заблудился. Но подошел Николай. Он был молчаливый и какой-то закрытый. Скоро они оказались у самой ограды. Здесь горел полный свет и маячила чья-то фигурка. Она с кем-то говорила, потом и другая женщина вышла на свет. Николай сжал ему руку.