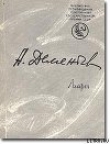Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Облака
Над деревней плывет густой зной, и кажется, что от солнца скоро вспыхнет трава. И тополям тоже жарко, невыносимо: о дожде они давно позабыли. Утомились даже собаки, залегли в подворотни и совсем перестали лаять. Одной Люсе весело, потому что любит жару...
Вот Люся вышла на крыльцо, потянулась и вдруг вспомнила, что сегодня еще не купалась. Сзади мать тихонько окликнула, но дочь уже ничего не слышит, не видит, – ее прямо тянет река. А через секунду Люся уже бежит за ограду. На улице все еще пусто, только ходит чей-то петух у забора. Но что петух, петух не преграда. И Люся бежит дальше, и волосы разметались, как парашютик. Вот она уже скатилась с горы, точно легкий упругий мячик, вот уже у самой воды она, и здесь только остановилась. Только зря Люся спешила – никого из подружек не видно. Зато на плотиках стояла соседка, тетка Марина. Она полоскала белье, а возле ног у ней прыгала Варька, маленькая рыжая собачонка. Но Варька только на вид такая веселая, молодая. А на самом деле ей уже шесть с лишним лет, как и Люсе. Для человека это, конечно, немного, а для собаки – полжизни...
Люся еще раз огляделась, и глаза у ней потемнели – одной ей расхотелось купаться. Потом тихонько окликнула Варьку. Собака только этого дожидалась и сразу бросилась к Люсе. Та погладила у ней за ушами – и Варька растянулась во всю длину на песке и скоро заснула. Спала она чутко и все время мыркала и стонала. А Люсе сделалось скучно. Подружки у ней не пришли, а тетка Марина не обращала внимания. И тогда стала думать, как бы ей попасть на тот берег. Но переплыть Тобол еще не могла, и оттого сильно страдала. А там по взгорью зеленела роща и лепились дома. И у каждого дома – свое лицо, свое выражение. Зато березы походили одна на другую, и все стояли в белых платьях до полу. Люся засмотрелась на них, но в это время затявкала Варька. Люся крутит шеей, ищет чужого. Но чужих не видно, значит, это Варька во сне, а может, ей голову накалило. Люсе еще сильнее хочется в воду, а подружек все нет и нет, зато на горе появляется сытый высокий гусь. За ним медленно выползает все гусиное стадо. Вожак идет не торопясь, вперевалку, совсем как киномеханик Геннадий Кармазов. И нос у него такой же красный, нахальный, и такая же высокая грудь под серой рубашкой. Люся загораживает ему дорогу и кричит громко, смеется:
– Куда пошел, дядя Гена? Я тебя не пущу, не старайся!..
Гусь на нее даже не смотрит. И тогда Люся кричит еще громче, даже щеки краснеют:
– Я тебя все равно не пущу! Ты почему такой гордый?! – Она делает строгие глаза и раскидывает широко руки, пытаясь загородить дорогу. Лицо у ней еще больше краснеет.
Но гусак идет напролом, и Люся испуганно отступает. А за вожаком уже тянется все большое белое стадо. Молодые гуськи-малыши идут посредине, а по краям их охраняют старшие братья. Люся смотрит на гусей, и ей их жалко, а почему жалко – не отгадаешь. А потом ее внимание забирает теленок. Он тоже бредет к воде, и ноги у него, точно спутаны или очень больные. Не дойдя до воды метра три, он ложится. Над ним сразу появляются мухи и подлетают близко и жалят. Теленок крутит шеей, машет хвостом, но сил уже не хватает. Наверно, жара измотала, наверно, жара. И тогда Люся берет веточку и начинает махаться на мух. И те нападают теперь на Люсю, потом снова кидаются на теленка. Но все равно их теперь уже меньше, и Люся хохочет:
– Терпи, Мартик! Подумаешь, мухи...
Теленок в ответ мычит, тянет шею. Люся гладит его и что-то шепчет – и тот сразу ее понимает и мычит сильнее.
– Терпи, Мартик! Мне тоже жарко...
С теленком этим она давно знакома. Он живет в соседях, у тетки Марины. А родился он в марте, в самую талицу, потому и зовут его Мартик. Теленок вышел весь черный-черный, до тугой синевы, только на лбу белое пятнышко. Однажды Люся вымазала эту белую полянку чернилами, но соседка взяла мыло и сразу отмыла...
А солнце печет все сильнее, настойчивей. Люся снимает платье и остается в одних трусиках. Сразу стало лучше дышать, свободнее. И Люся ложится рядом с Варькой и поднимает кверху глаза. А там, в небе, бегут и бегут облака. Все они куда-то спешат, почему-то опаздывают, и у всех у них свои заботы, дела. Иногда одно облако догоняет другое, и потом они идут вместе, сливаются, – и Люся хочет понять это чудо, да разве сразу поймешь, догадаешься...
Вот одно облако совсем выделяется. Оно похоже теперь на гуся, на дядю Гену Кармазова, и вот уже вместо гуся смотрит сверху теленок, а лоб у него крупный, веселенький... А рядом облако превращается в лошадь. Она машет хвостом, играет. И вот уж вместо лошади стоит над головой кот Сережа. Люся громко вскрикивает, бьет в ладоши – ну конечно же, это Сережа! Этот кот живет у них третий месяц, и вся семья его любит и считает почти что за человека. Когда Люся садится за стол, кот тоже садится с ней рядом и смотрит в тарелку. Люся сразу подвигает ему ложку и вилку. Сережа берет их лапами и через секунду роняет. А матери это не нравится, и она ворчит про себя, и на дочь свою даже не смотрит: «Надо ж все-таки следить за котом... Надо ж себя проверять...» Потом мать замолкает надолго, и это молчание всего тяжелее. Но Люся не знает, что такое – себя проверять. Вот сегодня ей сон приснился, будто б к Черному морю приехала и сразу пошла купаться. А идти к морю далеко-далеко, и места кругом пустые, чужие. И шла она долго, все ноги стерла. Наконец, вода показалась – Черное море. И везде на берегу кричат ребятишки и гуси гогочут, а на плотике тетка Марина что-то стирает. Но где она?! – вдруг пугается Люся. Это же не море совсем, это же их река! И гуси тоже знакомые, и берег тоже знакомый. Как же это, где она?! – плачет Люся, прямо рыдает. Ехала-ехала, а снова в свою деревню вернулась. И еще сильней плачет, просит защиты. И, может, кто-нибудь бы пришел на помощь, но в ту же минуту проснулась... Вот и проверяй тут себя! Ехала-то к морю, а вернулась домой.
А на небе облака плывут – одно за другим. Люся хочет сосчитать их, запомнить, но в это время Варька стала поскуливать. Мимо них прошла с бельем тетка Марина, и Варька сразу кинулась к ней, хвостом завиляла, а Люся осталась совсем одна. Вдруг сделалось тихо, только жужжит где-то пчелка. Потом и пчелка улетела, и стало совсем тихо. Так тихо, хоть плачь. Ведь одиночества Люся не любит – у ней сразу портится настроение. Ей нужно все время с кем-то говорить или спорить, а теперь все ее бросили: Варька убежала, пчелка улетела. А облака хоть и живые, но они высоко – не дозовешься. Ей стало грустно, даже голова заболела. Может быть, она от жары, а может, еще и от расстройства: через день Люсе по-настоящему надо в дорогу. У родителей на руках путевка в Анапу, и они берут с собой дочь. Наверное, потому и снилось ей море ночью, наверное, потому...
Наконец прибежали подружки, Света и Галя. Они сестры. Света постарше, а Галя помладше. Старшая сестра высокая, молчаливая, а младшая совсем маленькая, пухленькая, и все зубы всегда наголе. У Гали прозвище есть – Винни Пух. Она любит очень нырять возле плотиков, но глубокой воды еще опасается, не доверяет себе. Иногда старшая берет младшую за руку и заводит в воду подальше, но в это время лучше Галю не видеть. Она кричит и повизгивает, а потом начинает кусаться, и старшая не выдерживает – с громким криком бежит из воды. А Галя смеется, и зубы у ней, как молоко...
Вот и сейчас она смеется и вдруг говорит Люсе:
– Давай раздевайся! Ныряй!
– Ох ты-ы! – грозит ей Люся ладонью, глаза у самой лукавые: не зови, мол, меня, ведь ты же кусаешься.
– Аха-а, испуга-а-алася! – ликует Галя, и все зубы опять наголе.
– Да ну тебя! – почему-то сердится Люся, а затем отступает назад, разбегается и вот уж падает в воду, как в глубокий сугроб. Летят брызги, кричат сестры, зовут ее, даже Мартик вздымает испуганно голову, но Люся уже ничего не слышит, не замечает. Она плывет весело, с удовольствием, с какой-то неудержимой счастливой решимостью; и вот почти на середине реки она – и там поворачивается на спину и застывает. Какая радость, какое чудо! Вода тихонько постукивает в затылок, а сверху – небо, а там – облака. Они смотрят прямо на Люсю, и она тоже смотрит на них, а глаза не мигают. А облака плывут медленно, не спеша, и Люсю тоже медленно относит течение, и вода все так же тихо постукивает в затылок, и потому так хорошо во всем теле – и Люсе хочется теперь плыть весь день, а потом всю ночь, а потом еще и еще, и чтоб все время сверху смотрели эти облака, облака...
– Доча-а, где ты?! – кто-то кричит на горе. – Ну где же ты?!
И только теперь Люся узнала мать. Но голос ее еще далеко, он еще на самой горе.
– Люся!.. Это же... Это же как понять? Я зову, зову, ведь обедать пора... – теперь голос матери все ближе, ближе, и вот уж возле самых плотиков ее обиженный голосов:
– Лю-юся, ты меня доведешь! Что за дичь у меня, хоть бы в чем-то послушалась!..
После этих слов Люся плывет, наконец, назад. И плывет опять резво, весело, как мальчишка. А сзади тянется за ней длинный белый бурун. Вот и берег рядом, вот и плотики – прямо рукой подать, но выходить из воды ей не хочется, и Люся поворачивает от плотиков, потом снова обратно – и мать теперь просто в отчаянье. Она смотрит кругом, точно ищет себе защитника, но рядом с ней – только Мартик, что возьмешь с него. И мать опять стыдит дочь, умоляет:
– Как тебе, милая, не стыдно! Позоришь прямо, управы нет... Ну плыви же – я что-то дам...
Но Люся только смеется да фыркает, видно, попадает в горло вода. К ней подплывают гуси, и она начинает под них подныривать, а те ее не боятся – им даже нравится эта игра.
– Ну погоди, заработаешь! Я вот отцу расскажу! – кричит мать из последних сил, и дочь, наконец, подчиняется и плывет прямо к берегу. Но все равно из воды выходит очень медленно, нехотя, и лицо недовольное, точно в чем-то ее обманули. Так же медленно подходит к одежде и натягивает через голову платье. Потом долго-долго ищет сандалии. Наконец вытягивает одну сандалию откуда-то из песка, а другую так и не может найти. И лицо у ней опять хмурится, и она смотрит с укором на мать. А та задумалась, вся ушла в себя. Люсе это очень не нравится, но она уже не хнычет, а только вздыхает. Ее вздохи сразу влияют на мать:
– Ну что ты, доча?.. Мы на юге новые купим. Обещаю тебе.
– А мне эти, эти-и!.. – упрямится Люся, а мать опять успокаивает:
– Я не знаю прямо!.. Да мы ж к морю завтра, а ты про сандалии...
– А мне эти!
– Не хочу слушать, надо обедать! – И она берет Люсю за руку, сильно тянет вперед. И дочь хнычет снова, но подчиняется.
А на самой горе они встретили Варьку. Собака что-то тащила в зубах и хотела прошмыгнуть. Но Люся загородила Варьке дорогу:
– Мама! Мама! Она же с сандалией!
– Вот и хорошо, – улыбнулась мать. И в это время собака бросила свою ношу. Сандалия была целая, невредимая. Люся сразу обула ее и забила в ладоши:
– Ай да Варька! А я ищу...
– Она же воровка, – сказала задумчиво мать и нахмурила брови.
– Нет, мама!.. – взмолилась Люся. – Она не воровка. Она играет...
– Во-во, играет! – никак не сдается мать. – Возьмет поиграет и бросит. А где бросит – не скажет...
– Она скажет, скажет! Она и сама принесет... Я люблю ее с давних пор...
– Как, как ты сказала? – вдруг смеется мать и смотрит по сторонам.
– С давних пор, – повторяет Люся и хмурит лоб, но мать смеется снова, точно кто-то ее подтыкает.
– Что за дочь у меня с давних пор! И всех любит она, уважает. Только мать родную не любит, не слушает.
– Я всех люблю, мама! – почти кричит Люся, и голос ее дрожит от волнения, а мать почему-то грустнеет, задумывается. Потом снова смотрит на дочь:
– Люся, куда ты все глаза задираешь?
– Мама, мама!! – опять волнуется дочь и трогает ее за рукав. – А облака живые?
– Я скажу тебе, я отвечу, только пойдем пообедаем, – она смеется и смотрит долгим взглядом на Люсю. И та сразу теряется и опускает глаза.
Обедали они в садике, под тополями. Там, на круглом деревянном столе, кипел самовар, лежали чашки и ложки. Тополя были еще совсем молодые, веселые. А листва на них стояла такая тугая и влажная, что совсем не пропускала лучей. Наверное, потому здесь все лето стояла прохлада. И сзади, за тополями, росла сирень, но ее было немного – куста три-четыре. Зато нынче эти молодые кустики уже цвели и веселили хозяев. Особенно их любила мать, – сирень ей что-то напоминала. Вот и сейчас мать не утерпела, сходила и навестила свою сирень. А когда вернулась к столу, то сразу скомандовала:
– А теперь, доча, пора и обедать!
Но Люся сидела молча, – обедать ей не хотелось. И все же для виду она взяла ложку и стала нехотя что-то хлебать из тарелки. Лицо сморщилось, как от страдания. Мать заметила это и улыбнулась. А потом принесла из дома транзистор, любовно протерла его от пыли и нажала на кнопку. Музыка заиграла тихо, протяжно, точно бы жаловалась на что-то или что-то просила. Люся так же нехотя пила чай. Немного скучно ей без отца, да Люсе уж это привычно. Отец редко-редко бывает дома, только покажется семье – и сразу к воротам. Вот и сегодня с утра пораньше в районе. Работает он экономистом в колхозе, а это, говорят, одно беспокойство.
– Люся, послушай песенку!.. Она так меня заряжает. – Голос у матери тихий, мечтательный. Она наклоняется поближе к транзистору, а в глазах – удивление. И Люся тоже слушает, даже тополя навострили ухо и ловят звук:
– Не надо печалиться – вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди – надейся и жди...
Мать вздыхает украдкой, потом снова вздыхает:
– Вот так, Люсенька. Все живи и надейся. А кто не надеется, тот не живет...
– Я, мама, не поняла...
– Да я так, так, ничего. Просто нравится песенка. И о тебе, дочь, подумала. Завтра прямо к морю покатишь, обрадуешься...
Но Люся отвернулась и точно не слышит. А матери, видно, хочется говорить. Видно, ждет сама это море, уже терпения нет.
– Скоро папка твой соберет чемоданы. А завтра с утра – до Кургана, а там самолет – и выйдем прямо на юге! Нет, Люся, ты послушай: мы выйдем прямо на юге!! Не надо-о печалиться – вся жизнь впереди-и-и... – последние слова она даже не сказала, а просто пропела, но дочь взглянула на нее сердито и сразу опустила глаза.
– Да что с тобой? Ты не рада...
– Я рада... – говорит Люся, а сама смотрит в небо. А по небу бежит маленькая лохматая Варька. А за ней спешит с ведром тетка Марина. Ну конечно же, это она, их соседка. И вот собака и человек сливаются вместе – и в этом чудо, какая-то тайна. Люся хочет понять это чудо, но облако уже далеко.
– И чего ты глаза задрала? Как уснула...
– Нет, мама! – обижается Люся. – Я не уснула. – И вдруг бледнеет и морщит лицо.
– Мама, мама!?
– Да что с тобой? Заболела?
– А над морем такие же облака?
– Что ты, прямо напугала меня!.. Нет, облака там красивые, южные, а такой там нет ерунды.
– Мама, а березы у моря бывают?
– Ну конечно же, не бывают. Там и так хорошо...
– А река есть на юге?
– Зачем ей... Там же Черное море. Но почему ты меня пытаешь?
Люся не отвечает и смотрит вниз.
– Ты признайся мне, я же мать...
И тогда Люся поднимает глаза:
– Мама, мам... Не хочу я к вашему морю. Я тут останусь, а вы одни...
– Да ты сдурела! Да кто ж от моря-то отпирается, ты подскажи... – И мать смеется, потом стихает, потом смеется снова – не видно глаз.
– Умора прямо! Не ожидала я...
– Нет, мама! Мне и тут хорошо...
– А что хорошего, доченька?.. Да кто же тебя научил?
– Меня Варька рыжая научила, – говорит Люся загадочно, а в глазах что-то переливается, плавится – то ли решимость это, то ли печаль. И мать видит это и хмурится:
– Не понимаю тебя...
– Мама, ты не сердись...
– Легко сказать, если ты дуришь...
– Я не дурю. Я решила!
Но мать в ответ еще сильней хмурится и смотрит с болью на дочь.
– Ты хоть нас пожалей-то, одумайся... Нехорошо. Отец твой за год ухлопался, и мне в библиотеке всяко пришлось. Второй год пошел, как без отпуска... А нынче еще тяжелей у меня – одни смотры да проверки, да в район все время с отчетом. Нет, доченька, это надо понять. Одна надежда была на отпуск, а ты... – И она еще хотела что-то сказать, но задохнулась и мотнула безнадежно рукой.
– Мама, мама! – Люся перебивает ее, волнуется... – Я поеду с вами, поеду, но только больше не говори...
– Ой, Люська-Люська, что-то выйдет же из тебя... – Мать задумчиво щурится и тяжело, печально вздыхает.
И вот прошел этот день, и ночь прошла. А потом наступило утро, и они стали собираться в дорогу. Этих сборов было немного, потому что отец с вечера упаковал все чемоданы. И вот подкралась незаметно последняя минутка. Тетка Марина обняла всех на прощание и забрала от дома ключи. Они всегда ей доверяли хозяйство, если куда-нибудь отлучались.
...Ехали они быстро, но сразу за деревней, на взгорье, шофер надавил на тормоз. Захотелось всем выйти из машины и попрощаться с деревней. И Люся тоже вышла вместе со всеми и оглянулась назад.
Она смотрела назад и почти не дышала. Между холмами серебрилась река, и сейчас вода ее вся переливалась, горела под бликами. А возле воды поднимались домики – белые, зеленые крыши, коричневые. И все домики отсюда казались грибочками, а зелень рядом, точно зеленый мох. Но вот зашло солнце за облако, и все вокруг изменилось и сузилось, но стало оттого еще лучше, отчетливей. У Люси еще шире открылись глаза, а в груди совсем не хватало воздуха. Над домиками уже стояло какое-то марево, и над рекой тоже колыхалась испарина – это дышала, отдыхала вода. «А где же теперь мои облака?» – вдруг вспомнила Люся и подняла кверху голову. И сразу увидела большое сизое облако. Оно шло быстро, как по заданию, оно наступало уже прямо на Люсю, и она закрыла от страха глаза. А когда открыла, то облако уже махало руками, прощалось, и у Люси сжалось горло от радости – это облако узнало ее, узнало!..
– Ну, красавица, забирайся в машину, а то опоздаем на самолет, – сказал отец и стал тихонько ее подталкивать.
– А я не поеду! Я не могу!..
– Что за фокусы? Люся? – удивился отец, но дочь не ответила. И тогда отец закурил, рассмеялся:
– Ты как наша доярка Нюра Жигалкина. Мы ее путевкой в санаторий наградили, возвысили, а она: никуда я не поеду, даже с места не сдвинуся. Без меня, мол, все коровы разбегутся...
– Не поеду я! Не поеду!! – опять крикнула Люся и закрыла щеки ладонями. С этой минуты она уже ничего не видела вокруг и не слышала, и только одно жило в ней, будоражило: вот уедет она сейчас и все без нее переменится, и вся эта красота пройдет мимо, как облако, а когда вернется сюда, то все будет здесь чужое, постылое – и эта река, и березы, и даже небо само изменится. И уж никогда-никогда она не увидит там рыжую Варьку и Мартика, не увидит и тетку Марину, ни дядю Гену Кармазова. И Люся уже плакала, плакала.
– Что это нашу девку прорвало?.. – подергал плечами отец и опять достал сигарету.
– А я знаю, догадываюсь... – сказала медленно мать и прищурилась. Она вспомнила своей вчерашний разговор с дочерью.
– Ну хватит нюни распускать! – рассердился отец, но Люся ничего не ответила. И тогда они все трое стали ее уговаривать: и отец, и мать, и шофер Николай, который спешил в город и потому сейчас нервничал. А Люся все стояла и стояла с опущенной головой, точно горе ее пронзило.
– Хоть бы отца пожалела... – сказала мать дрогнувшим голосом и поднесла платочек к глазам. Люся оглянулась не нее и тихо-тихо пошла к машине. И пока делала эти три-четыре шага, то все время оглядывалась в сторону, где осталась река, где белелись березы. А потом посмотрела в небо – и вдруг побледнела. Над самой головой у ней двигалось облако, оно двигалось в сторону реки, в сторону домиков, – и тогда Люся шагнула за ним, побежала. Облако двигалось все быстрее, быстрее, и все быстрее бежала Люся, и глаза у ней разгорелись счастливым огнем, пылали. Она уже смеялась, махала руками, и все ближе, ближе выплывала река, все ближе, ближе стояли крыши, – и вот уж всю ее сжало какое-то невиданное тепло и чуть не остановило дыхание.
– Лю-ю-ся, куда ты?! – кричала мать.
Длинными гудками стонала машина. А Люся все бежала, бежала.
Святой Евгений
– Я так ждал тебя! Не поверишь? Ну, конечно, тебе не понять... А я прожил за это время две жизни. И я очень устал... – так сказал мой друг Женя Енбаев и повернулся на спину.
Мы лежим на песке, загораем, а рядом – река. Поверх воды светлая, почти молочная дымка. Это от зноя, от духоты, от безветрия. Вторые сутки на земле тишина и покой. Даже вода в речке словно загустела, и если ступишь на нее, то она расступается, как кисель. И нет прохлады в этой воде и нет облегчения. А вверху зной еще больше. Но я люблю солнце, и Женя мой тоже любит. Все тело его почернело и задубело, только на лице загар нежный, пунцовый, и это так идет к его синим, почти детским глазам.
– Не сердись, что сорвал тебя с места. Но я не мог, понимаешь, не мог... Ты самый близкий у меня, точно брат, – Женя смотрит виновато, беспомощно, и глаза его ждут каких-то вопросов, ответных признаний, но я молчу, потому что мне хорошо. И все удивляет меня после шумного города: и эта тишина, и река, и небо. Такое чистое, такое легкое небо я видел как-то над морем. Стояло утро, клубились горы, и небо будто летело в синей бездне. И вдруг солнце! И все разом вздрогнуло, пошатнулось от света, и я зажмурился. Когда снова поднял глаза, то все уже сплавилось, слилось вместе – и небо, и горы, и море. Это было чудесно!
– Ты мне дороже брата. Дороже... – Женя хмурится, ждет ответа. Ему хочется долгой беседы и откровений, а мне вовсе не хочется, да и боюсь спугнуть тишину. Женя косо поглядывает на меня, недоволен. На вид ему дашь лет двадцать пять, но ему уже тридцать три, и он многое испытал. И все равно губы у него припухлые, детские, и в глазах тоже много чистого, детского и даже трудно представить, что Женя теперь – начальник. Вот уже второй год он – директор школы. В поселке у него большой дом из белого силикатного кирпича, а возле дома – сад и гараж, где красуется новый, тоже белый, «Москвич». А во дворе и утки, и гуси, есть даже корова, которой очень гордится Наташа Енбаева. Наташа – его жена – работает в той же школе учительницей. Есть у них и сын – пятилетний Коля, но он еще только учится читать и писать. В поселке все уважают молодую семью Енбаевых и завидуют их согласию. И я тоже Жене завидую, потому что он во всем меня обогнал. Когда-то мы жили в одной деревне, учились вместе, дружили – не разлей водой. И в институт пошли вместе, в педагогический, а потом, как нередко бывает, пути разошлись. Меня распределили в городскую десятилетку, а Женю направили в отдаленный район. Но зато теперь у него семья, большая должность и разные почести, а у меня все еще нет ничего – ни семьи, ни квартиры, да и в школе я на третьих ролях.
– Пойдем в воду, – говорит Женя, и я понуро иду по песку, потом также безвольно плыву, и вода нисколько не освежает. Из воды мы выходим одновременно и ложимся в тени. Над нами стоит тополь. Их здесь целая роща. И мы лежим на краю этой красавицы-рощи, и я снова чувствую, что Женя мучается и хочется ему что-то сказать, что-то сделать, но я его не тороплю, не тревожу вопросами.
– Я очень ждал тебя. Так ждал, что и сон пропал...
– Бессонница, значит, – я хочу улыбнуться, но глаза у него серьезны, очень решительны, и они меня даже пугают.
– А ты не смейся!.. Я спать совсем не могу. И все чудится она, моя девочка... То в гости забежит за учебником, то сидит за партой, смеется, и я не могу...
– Что за девочка? Что ты там накрутил?
– А ты понимай постепенно. Мне сразу не надо. Я и сам-то еще не понял, потому и ем себя и грызу...
– Опять ты загадками. – Я усмехнулся. И тогда он взглянул виновато, беспомощно и обиженно оттопырил губы. Они стали ярко-красные, детские. На верхней губе пробились рыжеватые усики, он их часто, видно, сбривает, но они лезут без спросу. – Вот что, Женя... Давай по-мужски. Зачем вызвал меня? Почему так волнуешься?
– Ты не торопи. Тяжело мне. Может, ты обсмеешь. Я не знаю...
– Может, и не обсмею – я не знаю. – Вторю ему, улыбаюсь, пробую его ободрить, вызвать на откровенность... А он опять мне в глаза не смотрит, и губы начинает покусывать, и на щеках у него вдруг замечаю веснушки: то ли родились от бледности, то ли были давно. А вокруг нас тишина. С реки ушли все купальщики, и в небе тихо, все птицы скрылись от зноя. Так проходит минута, другая – и вдруг над нами что-то стреляет. То ли движение воздуха, то ли случилось что с нашим деревом. Так и есть – обломился сухой сучок и полетел вниз, прямо на головы. Женя вздрогнул, сжал плечи. Его глаза налились нехорошим светом. Потом над нами пролетела белая, очень юркая чаечка. Сделала круг, еще один, и зависла над тополем.
– Ты знаешь, мне надо выговориться. А мне не с кем. Не с женой же об этом...
– О чем, Женя? Может, хватит темнить?
– Ты не понимаешь, не знаешь. Я и говорить-то об этом боюсь. – Он мучительно морщит лоб, потом трясет головой, как утка после купания, проводит ладонью по волосам, точно хочет вдавить их в голову, а зрачки уже злые, коричневые и очень нервно играют.
– Боже мой! Ты можешь быть злым?
– Не смейся. Просто тяжело, так тяжело, что я бы себя убил.
– Прости, Женя, я уж отвык от тебя. Ты был тихий всегда, а теперь с коготками...
– Раз отвык – привыкай. – И он смотрит куда-то вверх, наверное, туда, где сторожит нас белая, снежная чаечка. И вдруг дотрагивается до моего плеча, и лицо опять виноватое, умоляющее – ты, мол, все-таки не сердись.
– Ты ведь знаешь, что я распределялся в Песчанскую школу. Это вроде нашей деревни – сто километров от города.
– Все это, Женя, мне известно. Тогда не повезло. Зато сейчас ты – кум королю.
– Да не об этом я. Просто все началось в этой самой Песчанке. Поставили меня на квартиру к Татьяне Шелеповой, домик ее у самой поскотины, а дальше уж – степь, просторное поле. Ох, сколько там было простора! Я думал сначала – захлебнусь этим воздухом. Первые дни сажусь на велосипед и мчусь то вправо, то влево, и все без разбора. Кручу педали, пока не свалюсь чуть живой, но счастливый... Недавно я был там, и все сразу вспомнилось – даже запах той пыльной дороги, той осенней земли в огороде у Шелеповой, даже запах коры на деревьях... И так хорошо мне стало, словно будет в жизни дальше только хорошее, а горя – уже никогда.
– Да какое у тебя горе? – Я засмеялся, закинул руки на затылок и лег на спину. Женя не заметил иронии. Он смотрел в небо... У чаечки был красный, точно нарисованный клювик и такие же красные, детские лапки. Она была, как игрушечная, и солнце забавлялось ею, как хотело. Женя опустил глаза и забарабанил пальцами по песку.
– Жила Шелепова бедновато, да в те годы все жили просто, все одинаково. Но эту бедность, простоту обстановки, камышовые коврики у порога, вечную золу возле печки, желтенький половичок в моей комнатке – все это я так вспоминаю... И ничего-ничего не забыл. Особенно хорошо было, когда отключали свет. Представляешь: моросит дождик и качается тополь, и шум ветра сливается с лаем собак. Как они тоскливо лают, когда шумит ветер, но все равно хорошо, просто чудно – и очень хочется жить...
– Мы с тобой, Женя, что преподаем?
– Ну... литературу.
– Я стихи писать бросил, а ты, видать, продолжаешь...
– Не сбивай ты! Я хочу по порядку.
– По какому порядку? При чем тут ветер, при чем собаки?.. Ты меня не води, а выкладывай. Я же вижу – какой-то гвоздик в тебе, даже прямо заржавел...
– Ладно, можно и сразу. Какая уж разница... Был тогда пятый класс у меня, школа-то восьмилетняя. А время было хорошее, стоял конец сентября. И солнца много еще, а если дождик, то с милостью. А по лесам, конечно, и грузди, и рыжики, а я в школе, как в камере. И ребятишек жалко своих – за что они-то томятся, им бы выбежать да на травку. Сижу вот, ворчу про себя, и вдруг дверь открывается, и закатывается Нина Седяева. Была у меня такая толстушка: смешная, забавная. А уж честная – прямо жить нельзя. Только и ждешь, что какую-нибудь правду залепит в глаза. Сама с виду пухленькая, как белый грибок, и все платья на ней пышные, широкие и почему-то ниже колен.
– Почему опоздала? – говорю ей строгим, серьезным голосом, а самому хочется хохотать. Умора – и только. Такие глазки у нее круглые, виноватые, а щечки напряженные, бледные... Прямо как у преступницы – забирай за решетку и надевай кандалы. – Почему опоздала? Через десять минут перемена... – и голос мой звенит и играет.
– Я за дыньками простояла. Я в магазине была. – Теперь уж у нее в глазах удивление: неужели, мол, непонятно, что за дыньками... И опять начала повторять: – Я пришла, а там очередь. Я две дыньки купила. Одну домой, другую вам принесла...
– Как это?
– А вот так. Хоть попробуйте. Ее везли издалека, попробуйте! – Она открыла портфель и протянула мне желтую дыню. В классе хохот, конечно, а что я поделаю. Я ей дыню обратно, а сам тоже смеюсь. И хорошо мне стало, приятно, и какой-то веселый, прямо счастливый подъем. Вот за это я и люблю свою работу. Все трудно да трудно, а потом раз – и праздник. И всегда там, где не ждешь... И вот смотрю, Нина куксится.
– Что ты?
– Почему от дыньки отказываетесь?
– Ну ладно, если настаиваешь... – И я дыньку в стол положил, а Нина пошла к своей парте. И пока она пробиралась между рядов, на ней уже прозвище повисло – «Дынька!» Началась перемена, а у нее уже только одно имя:
– Дынька, дай карандаш!
– Дынька, десять копеек дай!
У нее всегда клянчили и выпрашивали, и она никогда не отказывала. И с того дня все забыли, что ее звали Нина Седяева. Я и сам забыл. Однажды открываю журнал и говорю ей повелительным голосом:
– Дынька, к доске! – В классе сразу смех, захлопали парты, а я покраснел, как воришка. Но девочка на меня не обиделась... Я вроде уж надоел тебе?..
– Да ладно ты, исповедуйся...
– А надоем – замолчу, – и лицо его стало обиженным, а глаза засмотрели вкось, виновато. Потом начал покусывать губы.
– А ты не сердись, – говорю ему. – Или нервный стал? Если нервный – пей валерьянку.
– Ну ладно. Продолжу я свою эпопею. В общем, через неделю Дынька опять опоздала. Почему, спрашиваю, что за халатность?
– Она за дыньками простояла! За дыньками! – Это ребята галдят, не унять. А сама Нина молчит, только носом сопит.
– Почему опоздала? Я родителей вызову.
– Не надо родителей! – Она как будто обожглась чем-то. Потом снова замкнулась, только щеки надуваются да опадают. Еще минута проходит, и я молчу, и она молчит. «Хоть бы соврала что-нибудь, оправдалась», – думаю про себя, а класс затих, притаился. Ребята ждут, какое приму решение. А какое примешь решение, если мне ее жалко стало. Я же размазня, понимаю это, а что с собой поделаю? Есть люди, завидую им, и наказать ребятишек могут, и потребовать могут, а я чего – смотрю на нее, и будто она моя родная. Я и сейчас ребятишек всегда жалею. Правда, на дисциплину в школе не обижаюсь, но накричать не могу. Вот и тогда взял ее за руку и провел за парту, да спросил потом какое-то правило, а она не знает. Поднялась с места, как кукла, смешная вся, пухленькая. Потом смотрю – моя кукла заплакала. И я совсем расписался, прямо сам чуть не плачу. Ну беда с нами, с такими учителями. А я в том классе еще и классный руководитель. Я же отвечаю за них... Через три дня Дынька опять не явилась. Это уж выше сил моих. Раньше она хоть опаздывала, а теперь совсем не явилась. Делать нечего – надо к родителям. Дождался вечера и отправился... Так и началось мое горе. С того часа и началось... – Женя прикусил губу и побледнел.