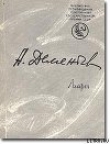Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
– Давай, дорогой, за встречу? А потом другие начнем разговоры.
– Не могу, Яша. Мне еще надо работать!
– Кого?
– Статью надо писать! За ночь надо, – солгал я, но это почему-то сразу подействовало. В его глазах я прочел уважение.
– Статью – это хорошо! Это мы понимаем! Но я бутылку не убираю. С ней будет повеселей.
– Повеселей, – ответил я машинально и отодвинулся от него. Он увидел в этом вызов и сразу напал:
– Я не заразной, браток! Чего шарахаешься, как от тифозного?
– Не сердись, Яша. Я просто задумался.
– Кого думать – и так все ясно. Я к тебе с уважением, и ты выдерживай тон. – Он захихикал и посмотрел на бутылку.
– Пробуй шоколад-то, писатель! Жены нет у тебя – кто позаботится... – И, опять хихикая, скривил лицо. – Я бы на твоем месте хорошо развернулся. Комната отдельная, никто не мешает. Я бы таку себе выбрал бабенку... Ну, а ты как?
– Подумаю, Яша, подумаю... – Я уже еле сдерживался, чтобы не нагрубить.
– Кого думать – читай давай! Я тебе все газеты собрал, а ты нос воротишь, зазнался. Эх ты, землячок... Напустить бы на тебя Колю Зырина – живо бы обучил что и как. А мы сидим, время теряем.
– Ладно, Яша. Где твоя газета? – Спросил, чтоб от него отвязаться. Но подумалось обреченно – так от него не отделаешься. Надо молчать и терпеть.
Статья называлась «В земле – наши корни». Заголовок набран высоким шрифтом – герольдом, и все слова в статье такие же высокие, гордые: «В колхозе имени Пушкина – горячие дни. И всюду тон задают молодые. По ним равняются, сверяют задания. И зерно течет непрерывным потоком. А как же иначе! Возьмем только Якова Мартюшова. В последние годы он освоил массу профессий: он и скотник, и шофер, и комбайнер. Золотые руки у парня! Вот сейчас он до винтика изучил свой комбайн «СК» и проникся к нему уважением. Парень знает: все на нынешней страде решают машины. Потому, наверное, комбайн Мартюшова побил все рекорды. И еще одно событие покоряет в судьбе этого человека. Нынешней весной он стал преподавателем в Сосновской бригаде колхоза. Мартюшов Яша стал отвечать за подготовку молодой смены механизаторов. И справляется, надо сказать, хорошо.
Среда и суббота отданы для занятий.
Двадцать человек садятся за парты, а он смотрит в эти молодые серьезные лица, слушает нескладные пока что ответы и думает: «Есть догадливые ребята! С такими не пропадешь!»
Так было еще недавно, а теперь эти ребята – на правом фланге. По их просьбе недавно по областному радио прозвучала хорошая песня. Что за песня? – спросите вы. Называется она «В земле – наши корни». Так и есть – в земле и нигде иначе!»
Я отодвинул статью, закурил. И опять Яша предупредительно зажег мне спичку. Глаза у него прямо горели. Он напоминал теперь бегуна перед стартом – сейчас выстрел-хлопок, и он рванется вперед, подомнет грудью воздух, помчится, и никакая сила не остановит.
– Ну как, Федорович? Здорово он меня расписал, прямо до костей пробирает!
Яша ликовал, играл своим галстуком, усмехался. И сразу появилась в нем небрежность, которая приходит от сознания своей силы, значения да так и остается потом с человеком. И вдруг он как бы от меня отстранился, задумался, затем встал в полный рост и стул отодвинул. Глаза смотрели теперь вниз, словно что-то там потеряли. Так прошла минута, другая – и вот Яша заговорил:
– Успехи ко мне пришли не сразу. Нет, землячок, не сразу... – Последние слова он произнес таинственно, сокровенно и вспыхнул лицом. А я мучился – пианино за стеной молчало. И сразу же надоела комната, захотелось куда-то уйти. И снова злился на Яшу, и все раздражало: и его рыжий затылок, и дыхание, густое, как у всех толстяков, даже белые, сырые ресницы его тоже злили и что-то напоминали. Хотелось на улицу, на свежий вечерний воздух, но Яшин голос стал вдруг громким и властным:
– Слушай меня и запоминай! Буду говорить, а ты слушай! Фотоаппарат, полагаю, есть?
– А зачем?
– Какой ты, браток, недогадливый.
– Но зачем все-таки? – Я снова начал терять терпение, да и раздражали его взгляд, голос, весь уверенный, наглый вид. Он уселся поудобнее, и стул под ним скрипнул. В его позе еще отчетливей проступил вызов: вот, мол, часа два подряд с тобой цацкаюсь, а ты – дурак какой-то, тетеря...
– Не смеши меня, Федорович! Никогда не поверю. А может, разыгрываешь? Мы – люди темные, деревенские.
– Хватит, Яша! Не переслушать.
– А ты не слушай, открывай свой фотоаппарат. Посмотри – с меня уж бежит. Всю рубаху хоть выжми.
– Сними пиджак, сними галстук!
– Не могу! Про солдата-то слышал? Как в столовой солдатик обедал? Не слышал? Тогда могу рассказать.
– Валяй, – я махнул рукой и начал смотреть в окно.
Яша начал громким и радостным голосом:
– Пришел солдат в ресторан, заказал котлету. Ему принесли тарелку прямо с жару и с пару. Солдат скосил глазом и говорит:
– Официант! Ты сам попробуй котлету.
– Я на работе. Не положено.
– Нет, ты попробуй!
– А вы не скандальте. Не посидели, а скандалите. Я вот крикну администратора.
– Кричи.
Приходит администратор, наклонился к солдату:
– Что угодно? В чем причина? У нас ресторан – первый класс.
– Вы котлету попробуйте!
– Я не обязан каждому пробовать.
– Нет, вы попробуйте! – опять требует солдат.
– А вы не скандальте, позову директора...
– Зови, зови!
Приходит директор. Строгий человек, в черном костюмчике. Солдат и ему:
– Вы котлету попробуйте!
– С удовольствием, но где же вилка?
– Какой ты молодец! – похвалил солдат.
– И все дело закончилось. Вот и я говорю: где же вилка, то есть фотоаппарат? – Яша захохотал и поднялся со стула. Я не знал, куда деваться от этого хохота. А он все ходил по комнате и задирал голову. И мне казалось, что рухнут стены от этих раскатов. – Я думал, землячок, ты догадливой! Зачем, говоришь, фотоаппарат? А кто Мартюшова будет снимать? Потому и в костюме сижу, при галстуке. А без портрета какая же статья? Попробуй, поешь без вилки! – И он опять захохотал. Я не вынес.
– Хватит, Яша! Я скажу.
Он сразу стих и уставился на меня.
– Нет у меня фотоаппарата. Нет и никогда не бывало.
– Только и всего, – сказал он уныло, потом поморщился и махнул рукой: – Ладно, потом дошлю свою фотографию. А теперь возьми ручку, блокнот! – И опять он сказал с нажимом, как будто приказывал, и я подчинился. Яша нахмурился, посуровел. – На чем мы? Аха! Я говорил тебе об успехах... Успехи пришли не сразу. Я много над собой работал. Учился на опыте лучших. Часто проснусь ночами и пытаю себя, ворочаюсь: правильно ли я живу, всего ли достиг, что наметил?.. Почему, землячок, не пишешь? Не нравится? Вот с мое поработай, повкалывай, тогда понравится...
– Пишу, Яша, пишу, – а сам смотрел на него с удивлением, с испугом – то ли пытает меня, разыгрывает, то ли с головой у него непорядок... И опять меня мучили вопросы: «Почему он так изменился, почему не могу узнать в нем прежнего, близкого Яшу, почему он диктует сейчас, приказывает, а я покоряюсь?..»
– Бывало, что душу одолевали сомнения: а не податься ли в город, к сложным, умным машинам. Но я себя останавливал: нет, ты у земли нужнее... – Он запнулся, и я этим воспользовался, отложил ручку, спросил:
– Ты что, все это читаешь? Где берешь – покажи...
– В голове беру, вот где! – Он сверкнул на меня глазами, и я сразу затих. Я было подумал, что он читает мне какую-то статью или отрывок, но в руках у него не было ни единой бумажки, он говорил от себя, и так ясно, отчетливо, как будто по писаному. Все это чудно, забавно, и я на миг позабыл обо всем и как-то душевно смешался. А он сидел сердитый, как ежик, и словно ждал от кого-то защиты. Но защита не шла, и тогда он заговорил снова. И сразу уверенно, бодро. Голос звучал, как на трибуне, и была в нем какая-то важная строгость:
– На чем мы запнулись? Аха, на моей работе. Как манили меня в город, а я не поехал. Тогда и решил – пойду на ферму! Только на ферму! Здесь – главный фронт, направление. И что интересно – запиши обязательно: возле Сосновской бригады много естественных водоемов. И эта дешевая камышовая прибавка вместе с клевером и люцерной дают большой резерв для надоев. И доярки рады, ну и мы, пастухи...
– Сколько же у тебя профессий? И пастух, и механизатор, и... – Я еще что-то хотел добавить, но он точно не слышал, не замечал. Мои слова остались внизу, ослабели, а наверху – опять его бодрый, решительный голос. Так и рвет напролом:
– Пиши быстрее, не отставай! Я не люблю. И вот что, писатель: зимой и летом в дом мой – милости просим! У меня много корреспондентов бывает. И записывают меня, и обедают. На свежем-то воздухе... – Он вдруг подмигнул, рассмеялся. – Ох, Федорович! Не хочу, а скажу, выдам вашего брата... Для них всегда у меня припасено. И коньяк и огурчики в холодильник припрятаю, а потом достаю. Они уж знают, уверены – от Мартюшовых так просто не уйдешь. Да и другое всегда свеженько и горяченько. Потому и любят мой дом, не обходят...
– Ты ж не пьешь?
– А для гостей! Гостей уважаю! Кака же статья без смазки?
И он засмеялся, не остановишь. И глаза смеются, и щеки, смеется все его большое круглое тело. Я думал: теперь его хватит надолго, но Яша вдруг посмотрел на меня пристально, как будто увидел впервые.
– Так они и жили: дом продали, а ворота купили. А мы отвлеклись сильно, Федорович. Вот еще почитай. – И он подал мне новую вырезку, и я стал изучать. Вначале увидел большой портрет Яши. Он стоял возле белого столика, раздетый по пояс. Напротив Яши полная дородная женщина в белом халате – то ли врач, то ли фельдшер. Потом и заголовок попал на глаза: «Будь донором, специалист!» И я стал читать. Вначале хлынули медицинские рассуждения, и только в середине статьи начались факты: «Безотказно, в любое время дня и ночи дают свою кровь специалисты колхоза имени Пушкина. Среди активных доноров – людей высокого долга – следует особо назвать Якова Мартюшова. Мы призываем всех жителей района следовать его примеру. Такие люди всегда ведут за собой отстающих. Ведь скоро мы торжественно встретим в районе день донора. Давайте встретим его во всеоружии. Равнение на Якова Мартюшова!»
Я поднял глаза на Яшу. Он улыбался, и в улыбке опять была гордость. А мне стало скучно. «Зачем он собирает эти заметки? Чего добивается? Не понимаю...»
Пианино за стеной давно молчало. Леночка, наверное, теперь смотрела в потолок и грустила. А может, опять засела за словари. Она изучала английский, мечтала стать переводчицей. И часто в мыслях я уже видел ее в толпе нарядных туристов. Она что-то им говорила, смеялась, а сама была всех лучше, красивее, и все туристы сразу в нее влюблялись, и я уже ревновал, ревновал до боли, до какой-то смешной злости ко всем этим чужим, незнакомым людям, которых еще не было, а может быть, никогда и не будет. Но все равно я ничего не мог с собою поделать, как ни старался...
– А теперь послушай меня, писатель, – резко сказал Яша. – И запиши, то забудешь. Правда, ты еще холостой, не поймешь...
– Давай, Яша, давай...
– А ты не торопись. Семья – тоже великое дело. Это – фундамент, на котором стоят все наши производственные успехи.
– Бюрократ ты, Яша! – невольно вырвалось у меня, но он как не заметил.
– Семью я создавал с дальним прицелом. Да и помогли мне в этом товарищи по работе. Они и подсказали мне познакомиться с Нечеухиной Фаиной, которая приехала к нам после педагогического училища.
– Товарищи подсказали? – опять не выдержал я, усмехнулся.
Он брови нахмурил и как отрубил:
– Не лезь под руку! Я не люблю! Значит, так: подошел к Фаине после кино и проводил до дома. А вскоре узнал, что Фаина – человек передовой и находчивой. Она читала много педагогической и другой очень нужной литературы. Как-то... – Он запнулся. Я подмял голову. Он смотрел на меня прямым, ненавидящим взглядом. Его правая ладонь то сжималась в кулак, то разжималась. Я чувствовал: он еле сдерживается. Еще немного – и падут все замки, все запоры.
– Ты, писатель, свою улыбочку убери! Не-хо-ро-шо! – Последнее слово он так и произнес по слогам, потом навалился всей грудью на стол и задышал шумно, с натугой. – И над Файкой моей не скули! Она – баба всех мер. А то, что вышла у нас неувязка, то разберемся. Я затем и приехал.
– Зачем, Яша?
– Потом об этом, потом! Знай сиди и пиши! – он опять мне приказал и понемногу стал успокаиваться. И дыхание у него выровнялось, и глаза подобрели.
– Так вот, землячок, запомни. Семья меня всегда выручает. Жена – подмога во всем. В большом и в малом, мелочей у нас нет. Как говорится: жена – за оглоблю, а муж – за другу, вот и покатила телега. Ну, если уж хошь, то нет в колхозе имени Пушкина другой такой счастливой семьи! Отметь особо, запомни! – Яша от удовольствия даже прищурил глаза. Потом опять начал: – Жена помогает Якову Мартюшову во всем. Иногда она берет с полочки книги, брошюры и читает вслух целые главы по уходу за молодняком, по рациону. А муж в это время на кухне стучит посудой, жарит и варит... – Вдруг Яша стих и перевел дух. – Устал, поди, Федорович? Ну посиди, покури.
Я достал сигарету и отвернулся от Яши. Меня душил смех. Теперь я понял причину его красноречия. Он, видимо, заучивал целые колонки из районных газет. Написали про него, а он заучил. И теперь в голове все перепуталось: где свои слова, а где из газеты. «И все же: зачем он ко мне пришел, зачем мучит своими рассказами, зачем пыжится?» Мелькнуло видение: тихое-тихое, как шорох листвы. Бывает же такое: стоит дерево под окном, на отлете, стоит смирно, не дрогнет листочек, и совсем не подозревает это спокойное дерево, что о нем думает человек. А ты сидишь в комнате, совсем рядом, и давно перебираешь свою привычную думу. И в этой думе есть и о дереве, и о жизни, и о будущих днях. И вот прошла минута-другая, и ты слышишь, как ожила листва, задышала. А почему, отчего? Нет ни ветра, ни дуновения. И только потом догадываешься, понимаешь, что это же птица пролетела над деревом – и сразу закачался воздух от крыльев, привел в движение листочки. Птица, птица... Тогда тоже лежала на дороге сизая птица. По нему, по голубю, только что проехало колесо, и телега все еще грохотала невдалеке, а лошадь храпела. А в телеге сидел с кнутиком Зырин – тот самый Зырин, тот самый. Он настегивал лошадь, и та уже совсем выбилась из сил и от бессилия храпела. Он куда-то спешил, куда-то опаздывал и теперь мчался вперед без разбору: попадись ему человек – он бы смял без оглядки и человека. А что ему голубь... Ах, Зырин, Зырин! Если бы оглянулся! Если бы придержал на секунду лошадь. Тогда бы увидел злой человек, как к голубю подбежал Яша и упал прямо грудью на птицу. Но что толку – не воскресить. Одно крыло у голубя еще шевелилось, а из клюва уж вышла сукровица – значит, прощай, голубок. Яша понял это раньше других и потому безутешно рыдал. Потом взял голубя на руки и понес домой. Наверное, решил сизаря схоронить.... Нес его и вздрагивал от рыданий. Я и раньше знал, что Яша держал голубей, что любил их и страдал о каждой потере. Но чтобы так убиваться, оплакивать! Нет, это просто невыносимо... И вот Яша поравнялся со мной. Голова у голубя уже свободно болталась, а глаза задернулись пленочкой. Крылья тоже повисли. Но Яша еще надеялся:
– Может, отпою молоком...
– Чудак ты! Он мертвый! – вырвалось у меня неожиданно, и он блеснул сердито глазами.
– А ты докажи! Докажи... – И пошел прямо на меня, и в глазах были боль и страдание – такое великое, безутешное, какое бывает только в детстве. Я остановился, и он тоже остановился. По лицу у него текли слезы. Я смотрел на него – и все во мне стыло от жалости. Но я ничем не мог помочь Яше и от того еще больше мучился, да и не отпускали его глаза: «Мы вот с тобой живые, а его погубили...» А Зырин тогда так и не оглянулся. Подумаешь, мол, голубь. Подумаешь, какой-то мальчишка! А Яша отвернулся от меня и тихо побрел вперед. Плечи у него согнулись, как у больного. Так могла страдать только большая душа... Но где же теперь та душа? Что же случилось? Почему годы так его изменили? И опять мысли мои повернули в другую сторону, опять стало грустно и тяжело. «Но почему же?» – я курил, перебирал опять что-то в памяти и смотрел в окно. Там уже стало синеть. Скоро ночь, и потому так нежно пахли цветы. Этот запах поднимался снизу и заходил в мою комнату, на третий этаж. Цветы всегда поливали вечером, и я любил открывать обе половинки окна и так оставлять на всю ночь. Как хорошо спалось! Вот и сейчас коснулся лица этот запах и захотелось на улицу. Я посмотрел на Яшу и еле сдержался. Он сидел вразвалку, как в ресторане. «Почему он повелевает мной, приказывает?.. И какой голос, манеры – прямо павлин!..» А он снова полез в портфель, зашуршал бумагами.
– Возьми еще, почитай!
– Больше, Яша, не буду! Устал...
– Знаем мы это дело. А ты мне, землячок, не завидуй! И про тебя – заслужишь – напишут. А пока сиди и молчи.
– Чему завидовать, Яша?
– Ты не понял еще? Тогда открой эту газетку...
Я замешкался, и он нахмурился.
– Читай, читай, не соскучишься. Может, заговоришь по-другому... – И он устало махнул рукой, поморщился – чего, мол, связался-то с тобой, связался, а толку мало.
И я опять подчинился. Статья называлась «Родители – слово-то какое!» Начиналась она исподволь, с дальним хитрым разбегом: «С малых лет ребенок живет под влиянием старших. И этих старших мы называем родители. Отец и мать! Кто заменит их? Какая любовь на земле естественней, изначальнее? Как от горящей свечи негорящая возжигается, так и детская любовь любовью родительской вызывается. Мама у малыша – всегда самая красивая, папа – всегда самый сильный. Кто не слышал, как дети гордятся своим сходством с родителями: «Я тоже, как мама, люблю шоколад и заварное пирожное», – говорит, к примеру, маленькая Иринка. «Я тоже, как папа, умею водить «Жигули», – хвастается, к примеру, Толик шести с половиной лет. «А я буду пастухом или скотником!» – заявляет всегда Сашенька Мартюшов. И в этом тоже заслуга отца, его большая работа. Да и кто не знает в колхозе имени Пушкина Якова Мартюшова! И для этого есть причины...» Дальше текст обрывался. У статьи края обтрепались, видно, побывала уже во многих руках, и прочитать конец было теперь невозможно.
– Сашенька – это сын мой! – сказал громко Яша.
– Я понимаю... – И вдруг увидел опять ту давнюю встречу у речки. И Яша снова встал в памяти, и сынишка его. Как сидели оба на берегу, молчаливые, смирные, как ловили на удочки окуньков. «Неужели время нас так меняет? Или что-то другое? Почему мне его не узнать?..» – И тут мои мысли прервались.
– Ну как, земляк, подержал мои паспорта? Теперь будешь Яшку Мартюшова по отчеству? А я не возражаю. Давай! – Он захохотал и поднялся. Галстук у него сбился, глаза горели нехорошо. Мне не понравились ни смех, ни глаза его. Да и лицо стало совсем нахальное и довольное.
– Печать – великая сила, великая! И гордись, Федорович! Захочете – человека поднимете, не захочете – и катись, мелкота!
– Неправда, Яша! Как поработаешь, то и заслужишь...
– Ха-ха! – Он захихикал, утер губы ладонью. Круглое лицо налилось краснотой. Яша нервничал и рвался в атаку. – Ерундой, землячок, занимаешься! То ли, думаешь, я лучше других работаю? Нет, дорогой, не похвастаю. И получше меня есть дураки. С зари до зари, а что толку? Надо в газету попасть, а потом пошло дело, поехало. Первый след тяжело, а потом затвердеет лыжня...
– Ты философ...
– А ты, дорогой, не смейся! Хочешь жить – умей вертеться! Помнишь удочки-то? Как мы с Сашкой рыбачили...
– Помню, Яша! Хорошо окуньки клевали.
– Нет, не хорошо. Вот на Песьяном озере у нас хорошо! Как-то корреспондент газеты приехал, я его сводил на Песьяно, да ухи ему наварил, да бутылочку выпоил – оно и заработало зажигание. А на озере уточки крякают, да на зорьке-то опять половили. Потом написал он про озеро и про уточек, ну и про меня – главное дело. Так и завелся моторчик. Поехал я... – Глаза у него мечтательно сузились, он приподнял голову и задумался. Потом опять сел на стул, лицо стало веселое, мечтающее. С этой минуты мы поменялись ролями. Он размяк, успокоился, а я начал волноваться, накаливаться. И уже все в нем раздражало – даже белая кожа и рыжие волосы, даже галстук его и голос. Но я себя сдерживал. И задал ему первый вопрос:
– Значит, клюнул на рыбку?
– Кто клюнул? – Яша нахмурился.
– Корреспондент твой... – Я взглянул на него, но Яша ничего не ответил, а глаза устремились куда-то вдаль. И опять он повел свою исповедь, и я видел, что ему нравится говорить. Он любовался своим умом, ловкостью, и в каждом слове его, движении я видел гордость собой, умиление.
– А потом неводок купил, выбрал прочный, из тонкой нитки. У меня блат небольшой в торговле. А что делать, писатель? Нынче как: ты – мне, я – тебе.
– Хочешь жить – умей вертеться? Так, что ли, Яша? – Я улыбнулся, потянулся за сигаретой. Но он не заметил моей насмешки. Его опять понесло:
– Неводок – не удочки. И пошло дело. Места свои знаю. Где окунь, щучешка, а где карась зайдет – тоже давай сюда. Вот и вздохнули, ожили...
– Неводами нельзя! – остановил я его. Надоело мне, стало скучно.
– Кому нельзя, а кого приглашают. Да ты подумай: все начальство – мое! Кто приедет с проверкой или газетчик, того к Мартюшовым. Развесели, мол, угоди человеку. А я что – всегда с удовольствием. Неводок на плечо – и на озеро. У меня там и шалашик. А потом уж уха, разговоры, ну и палки жгем до утра. Поговорим, повздыхай, и человек все запишет, а через недельку – газета. Ну, а там ясно дело: какой я работящий, отзывчивый.
– Отзывчивый, говоришь? – Опять я встрепенулся, как будто на стуле подкинуло. И на него злился и на себя – зачем сижу, не уйду. Надо что-то придумать – мол, заседание, собрание – и уйти, попрощаться. Но что-то меня удерживало, может, Яша так влиял на меня. Может, стыдно было чего-то. Иногда мы не знаем, почему удерживаем себя от ссоры с человеком злым и давно-давно надоевшим. И проходят день за днем, час за часом, а мы не только не выталкиваем его за дверь, не только с ним не ругаемся, а наоборот – все так же продолжаем его терпеть и выслушивать, все так же здороваться за руку и даже поздравлять с днем рождения. А порой во славу этого человека мы пьем шампанское и произносим речи, хоть и по-прежнему стыдно и страдает душа. А человек тот все сильнее наглеет и поднимается, он уже откровенно нас презирает и ни во что не ставит, а мы в ответ уже открыто признаем его своим господином и стараемся не испортить с ним отношений, и душа наша уже замирает в неведомом страхе, если он посмотрит на нас как-то косо и исподлобья. Зато как мы веселы, резвимся, как дети, если человек этот накануне посмотрел на нас благодушно и даже изволил чуть-чуть пошутить. Да, забавна наша душа и не всегда поддается логике! А может, у зла есть свое обаяние и свои большие магниты? Они, наверное, и притягивают нас и мучают, не отпускают. И мы сами не особенно спешим сбросить с себя эти путы. Да, необъяснима душа!..
Я совсем увлекся, ушел в свои мысли, но Яша не дал забыть о себе. И сделал это он резко и грубо: просто постучал по столу кулаком.
– Федорович! Не отвлекайся! То ли спишь, то ли мух считаешь? Нехорошо!.. Выпить со мной не хочешь, послушать меня не хочешь, а еще земляк называешься! В гробу видел я таких земляков, в белых тапочках...
– А ты не шуми, не ругайся... – и только хотел ему добавить какое-то резкое, откровенное слово, но губы сразу точно бы слиплись.
– Ладно, шуметь не будем. А ты, поди, табаком отравился? Ты не куришь его, а ешь, – голос у него был уже мирный, спокойный. Он, видимо, простил меня. А через секунду Яша опять говорил:
– С газеты я и поднялся, потому и в передовики попал. А что, не достоин? Почему глядишь на меня? – Он поднял голову и тяжело задышал. На лбу снова выступил пот, а щеки надулись.
– Достоин, достоин, – ответил я нехотя, и он стал ровнее дышать.
– Вот именно, что достоин! Ничего не пожалею для вашего брата. Угостить, принять – это уж первое дело.
– И порыбачить свозить... – Я улыбнулся. И хорошо, что опять сдержался, а то бы недалеко до беды.
– Порыбачить – самое хорошее дело. Недавно купил «Запорожец». Теперь неводок в багажник – и айда хоть куда. А потом ночь наша – сиди у огня да записывай. Я могу рассказать! Мо-гу-у-у...
– Часто о тебе пишут?
– Ох, часто! Выстригать время нет. Было дело – совсем на моду попал. Что ни газета – то Мартюшов улыбается. И портреты там, очерки, зарисовки.
– Разбираешься в жанрах. – Я усмехнулся, но он меня понял по-своему.
– Я во всем, земляк, разбираюсь. Голой рукой не тронь меня – живо отронишь. И я тебя сильно ждал, ох и ждал, землячок! Все глаза проглядел, измаял. Так баба не ждет мужика, как я тебя дожидался. А ты не ехал...
– Не ехал, – выдохнул я и вдруг почувствовал странное беспокойство. Еще ничего не случилось, а я уж вздрагивал, и сжималось дыхание. Я знал, чувствовал: скоро случится что-то тяжелое, нехорошее, и уже заранее все во мне напряглось. И Яша наклонился близко-близко ко мне, как заговорщик огляделся по сторонам, зашептал:
– Просьба есть, землячок. Поди не обидишь?
– Говори скорей, говори...
– Напиши в областную про меня! Доверяю!
Удар был мягче, чем я ожидал. Но что-то ждет еще впереди? А он шептал прямо над ухом:
– Пусть вся область узнает. В районной кого? И привыкли к районной. А ты в областную ударь, я тебе уплачу... – Последние слова его как обожгли. Я отодвинулся и потянулся за сигаретой. Он чиркнул спичку о коробок. – Кури, Федорович, отдыхай... – он смотрел на меня долгим взглядом, не моргая. Как только не уставали глаза.
– Значит, Яша, покупаешь меня?
– Покупаю, землячок, покупаю, на преступленье зову. – Он засмеялся, но смех вышел жидкий, придуманный, словно бы для меня. Потом помолчал и добавил: – Эх ты, честняга, кому не поверил. Я вон вчера человека убил. Встретил в кустиках, за поскотиной, и зарезал. – Он опять засмеялся, но сейчас уже весело, широко, видно, довольный шуткой. Но и этот смех прошел быстро, как не было. Лицо его обвисло и посерело.
– Горе у меня, писатель. Фаина ушла от меня. И Сашку с собой.
– Как ушла?..
– Все бывает. Не прищуривайся. У людей бывает, и у тебя может быть. Так. Ушла Фаинька моя, дверью хлопнула. Не хочет дела иметь с пузырем.
– С кем?
– Да, да, с пузырем! Так жена прозвала, припечатала. Говорит, что раздули меня, кверху бросили, а копни – в пузыре бело место.
– Не понял, Яша...
– Пустота в пузыре-то! Чего ты не понял. Таку цену она мне положила. Ты слушай – рассказываю. Набросала белья в чемоданишко и ушла. К теще – к матери. И кончилась моя спокойная жись. Как оно там в песне поется: жили, жили, мол, веселились, подсчитали – прослезились...
– Не так оно, Яша, поется. Ты немного слова перепутал, – улыбнулся я, желая перевести разговор в спокойное русло. Но он не дал:
– Слова, говоришь? Эх ты, педагог!.. Фаина жись мне всю перепутала, а жись-то одна... А может, две или три? Как ты считашь? – Он усмехнулся и оглядел меня с головы до ног, точно бы оценивая по какой-то своей системе, – И тебе, педагог, придется...
– Чего?
– Испытать узы брака! Я книжку смешную читал. Так и называлась она – «Узы брака».
– При чем тут книга...
– А при том, при том, догадайся!
– Ты мне, Яша, темных лошадок не подставляй! – Я начал терять терпение. Да и надоели его подозрительные глаза. Они опять изучали меня, оценивали.
– Что ты сказал про лошадок? Я лошадьми не занимаюсь!..
– Хотел тебе, Яша, напомнить одну загадку. Так ведь не отгадаешь? – Я рассмеялся, и смех его разозлил.
– Ты меня не пугай! Сам кого хошь напугаю... Вот так, дорогой! Напугаю, говорит, напугаю – возьму шубу выверну... – Теперь он сам засмеялся. А я ждал продолжения – как он себя поведет. Но он уже пожалел, что вспылил. Наверно, боялся меня обидеть и навсегда потерять. Я был ему нужен. – Ругаться нам, браток, ни к чему. А жениться тебе придется. Сам узнаешь, что почем, испытаешь узы брака... – И он вдруг подмигнул мне, как заговорщику. – И хомут на тебя оденут, и седелко положат, а за оглоблями дело не станет. И повезешь телегу, как миленький.
– Нарисовал ты, Яша...
– Все правильно, Федорович! Стары люди как говорили: человеку да предстоят три ступеньки: вначале родиться, потом жениться, а потом уж можно и помереть. Женитьба-то, замечай, посередке. Ка-ак раз посередке!
– Много, Яша, знаешь, читаешь! – Я улыбнулся, но он не заметил моей иронии и ответил уверенным, бодрым голосом:
– Я и обязан знать!
– Кто ж тебя обязал?
– Э-э-э, ты меня не собьешь, не собьешь Мартюшова! Я тебя насквозь вижу и под тобой, браток, вижу. Я и про Фаину предполагал.
– У всех бывает. Поругались – помиритесь.
– Зачем поругались? Она обманом ушла. Схватила чемоданишко – и на волю. А я за месяц предчувствовал – собака выть начала. Прямо спать не давала... – Он вздохнул глубоко и обмахнул с лица пот.
– Какая собака? Не понимаю...
– Моя, землячок. Моя... Хорошая была. Динка. Ну, это имя такое. В Кургане отдал тридцать восемь рублей. Она мне щенком досталась. Помесь лайки с овчаркой.
– Это что за порода?
– Да черт ее разберет. Помесь вилки с бутылкой! – Яша захохотал и опять подмигнул. Но теперь лицо у него было доброе, даже доверчивое, в том щенка заслуга – вспомнил о нем и подобрел.
– Хороший попал щеночек. Подрос немного – начал дрессировать. Все понимал, подлец!
– Твоя Динка женского роду, а ты ее в мальчики...
– Какая мне разница... Все равно пристрелил!
– Почему?
Но он точно не расслышал вопроса и принялся снова за старое:
– Начал потихоньку дрессировать. И поноску уже носила, и газеты из почтового ящика, а потом как сдурела: разинет глотку и воет. И днем воет, и ночью воет, а кого надо? Еда есть, и питье стоит, а она морду кверху – и воет. Ясно дело, решаю, что-то она накликает. Взял ружье, а ружье у меня бельгийское – два курка, да вывел Динку за огороды, да поноску ей бросил: ату, мол, Динка, ату! Она за ней полетела, а хвост крутится, как пропеллер. Я в этот пропеллер и саданул. С одного разу с копылков долой. Правда, лапами еще немного подергала, но это уж с того света. Сашка мой порасстраивался маленько, но я ему кого-то пообещал... – Яша устал говорить и перевел дух. Дыхание у него было тяжелое, как в жару.
– Лапами, говоришь, подергала?
– Было дело... Да я уж забыл.
– А помнишь, Яша, как у тебя Зырин задавил сизаря? На телеге-то ехал... Я помню, как ты ревел, не мог успокоиться.
– Дурак был тогда.
– Нет, Яша.. – Хотел я ему возразить и поправить, а потом сбился, все перепутал, потому что в глазах опять поднялся тот маленький рыжий мальчик. Как он рыдал, как нес на руках убитую птицу, как озирался по сторонам, точно прося защиты. И вот со мной поравнялся: «Может, отпою молоком...» И в глазах были слезы, очень много слез, очень много... Так могла страдать только большая душа. Только хороший человек мог так убиваться... Но где ж он теперь? Где та большая душа? Неужели она вошла в этого нахального человека? Но почему? Что случилось с ней, с этой далекой душой? Почему время так меняет нас и почему мы ему поддаемся?.. И опять вопросы, вопросы стали распирать мою голову, и я никак не мог от них избавиться, убежать. И я забыл про гостя, и мысли завели в какую-то опасную сеть, из которой нет выхода, нет и хода обратно. Но гость сам обо мне позаботился. Для начала он покашлял предупреждающе, потом постучал ладонью.